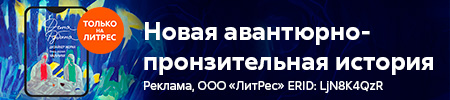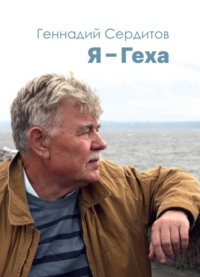
Я – Геха
Лёнька же оказался на редкость активным пацаном. У него была книга Перельмана «Занимательная физика», и он постоянно пытался проделать описанные в ней опыты. Кроме того, он учился играть на виолончели. И таскал нас с Галей по своим любимым местам в Сыктывкаре. То мы лезем на парашютную вышку, на лестнице и площадках которой почти все доски выломаны, то ползём по ржавому железнодорожному мосту, где досок никогда и не было, то переправляемся на большой лодке на другой берег Вычегды, где я не запомнил ничего, кроме валявшегося в песке белого зубастого черепа какого-то крупного животного. Запомнилась такая сценка: мы сидим на высоком берегу Вычегды, по реке буксир тянет баржу с лесом, а на барже полыхает пожар. Какой-то человечек ползёт по канату с баржи на буксир. Было очень смешно, хотя вполне возможно, что этого человечка потом судили. И даже расстреляли. Или отправили на фронт. В штрафбат.
Вести с фронта слушали все. Радио было включено постоянно. Левитановское «от Советского информбюро» завораживало, заставляло всех замолчать и повернуться к чёрной тарелке в комнате или к серому фанерному раструбу на уличном столбе. В остальное время звучали песни – Лемешев пел «Три деревни, два села» или мужской хор затягивал «Распрягайте хлопцы коней». Ходили мы и в кино. «Она защищает Родину», «Неуловимый Ян», «Антоша Рыбкин» – эти фильмы мы смотрели по несколько раз.
Боровичи
В 1944 году, когда война откатилась на Запад, мама засобиралась в Ленинград, мол, блокада снята, нечего нам тут сидеть. Мне в ту пору уже шёл седьмой год, Гале двенадцатый, маме было тридцать один.
От Сыктывкара до Котласа мы добирались по реке Вычегда в трюме баржи, лишь иногда нам с сестрой позволялось подняться по трапу на верхнюю палубу, «подышать свежим воздухом». Навсегда запомнил серое небо холодных белых ночей, высокие тёмные избы с крохотными оконцами на пустынных скучных берегах и нависающие над рекой скалы. Всё это накатилось на меня из далёкого детства, когда я смотрел фильм «Холодное лето 53-го».
В Котласе мы должны были ночью сесть на поезд. Мы бежим с билетами вдоль поезда к нашему литерному вагону. Подбегаем, на ступеньках сидит проводник и какой-то пьяный офицер в галифе с подтяжками и в белой нижней рубахе. Мама протягивает билеты, офицер сапогом в лицо отпихивает её и ругается матом. Я очень испугался, а тут ещё стоящий рядом паровоз выпустил на нас пар с громким свистом. Такого страха и такой обиды я не испытывал в жизни ни до ни после. Хотя жизнь моя и не была безоблачной, пережитое в детстве иногда напоминало мне, что «бывает и хуже». А тот офицер… Может быть, он был на войне героем, может быть, выжил на фронте и дожил до преклонных лет, рассказывая о своих подвигах. Мне это неведомо.
И всё же мы уехали из Котласа, правда, не в Ленинград, а в Москву. Помню, что в Ярославле наш вагон остановился рядом с огромным штабелем дырявых касок. А ведь в каждой из них была когда-то чья-то живая голова, я видел много таких касок в кино на живых солдатах. Вид искорёженных касок никак не складывался в моей голове с тем, что я видел на экране, где наши храбрые солдаты в касках стреляли из винтовок и бежали в атаку.
В Москве выяснилось, что в Ленинград нам билеты не продадут, так как ещё идёт война и город пока закрыт. Мама решила, что мы поедем к её маме, бабушке Вассе, в Боровичи, это уже на полпути к Ленинграду. Мы с сестрой успели покататься на московском метро. Мне всё казалось, что я вот-вот увижу Сталина, но что-то не сложилось, и я его так и не увидел. Иначе мои воспоминания были бы намного богаче.
Остатки 1944 года мы провели в Боровичах. Мама устроилась на работу диспетчером в гараж. Сестра пошла в школу, меня решили отправить учиться на следующий год уже в Ленинграде – война шла к концу.
Вскоре в Боровичах к моей великой радости появились Лёнька с дядей Толей из Сыктывкара. Видимо, дядя Толя всерьёз решил жениться на нашей маме Тоне, но его неодолимая тяга к спиртному и наша строгая бабушка Васса не позволили ему стать нашим отчимом. Он устроился художником в местный театр, где выступали эвакуированные из Ленинграда артисты. Они с Лёнькой там же и поселились. Лёнька всё свободное время проводил с нами, он быстро освоился в Боровичах, как будто всю жизнь лазал по местным парашютным вышкам и железнодорожным мостам. Мы с сестрой, как и в Сыктывкаре, старались от него не отставать.
Помню эпизод, когда в театре во время утреннего представления для детей мы втроём залезли на балки, на которых висели декорации. Под нами шустрый клоун учил детей, сидящих в зале, как надо быстро одеваться, чтобы не опаздывать в школу. Зал по его команде дружно считал: «Раз… Два… Три!», клоун убегал за ширму, и мы сверху видели, как сидящие там две женщины дёргают за шнурки на его одежде, одежда с него спадает, а под ней оказывается такая же, но совсем другого цвета. При счёте «три» клоун выскакивал на сцену и вскидывал руки: «Вуаля!» Зал неистово аплодировал. И тут со мной случился конфуз – я описался прямо на голову этого «мага и волшебника». А не надо обманывать детей! Внизу началась подозрительная суета, и нашей компании пришлось срочно с театральных колосников слезать и убегать прочь.
Потом мама с Галей уехали в Ленинград, а я остался с бабушкой Вассой. И в одночасье превратился из любимого сыночка и младшего братика в неуклюжего и ненасытного иждивенца и нахлебника, вечно путающегося под ногами. Лёньку я больше никогда не видел, хотя вспоминал часто. Проводя большую часть времени в компании сестры и мамы, а потом ещё и бабушки, я, естественно, тянулся к мужикам. Иметь такого старшего брата, как Лёнька, никогда не унывающего, предприимчивого и смелого – вот неосознанная тогда и неосуществлённая никогда моя мальчишеская мечта. Интересно, как сложилась судьба этого безусловно незаурядного человечка. Я был слишком мал и не знал его фамилии, чтобы спустя годы его разыскать. А потом я подрос и, как поётся в песне, «закружился в вихре лет».
Бабушка Васса
Бабушка Васса в ту пору жила одна. Большую семью, заполнявшую когда-то весь дом шумом и смехом, время и война безжалостно сократили, а выживших разметали по свету.
Я уже не помню хронологию моей жизни в Боровичах, мама частенько отвозила меня к бабушке на каникулы, а полгода, кажется, в четвёртом классе, я даже ходил там в школу. Во всяком случае, я на правах своего входил в ватагу огольцов Порожской улицы, вернее, того её конца, что протянулся от улицы Боровой до Тинской. Дальше домов не было, начинался спуск к небольшому болоту. С местными огольцами я играл в футбол и лапту, стоял в очередях за хлебом и сахаром, купался в речках Мста и Вельгия, прыгал на лыжах с самодельного трамплина зимой и в песчаный карьер летом, участвовал в набегах на совхозные поля с горохом и так далее.
Как-то бабушка Васса затеяла чистку печной трубы и потащила меня на чердак – я должен был выносить на двор ведро с сажей. На чердаке между двумя печными трубами, от круглой печки в бабушкиной комнате и от плиты-лежанки на кухне, лежал так называемый боров – горизонтальная кирпичная труба, так что от двух печек сквозь крышу проходила только одна общая труба. Бабушка, открыв на борове маленькую дверцу, выгребала сажу и приговаривала: «Моя ты печечка, тебе не хочется курить, а я, старая, тебя заставляю. Вот и забились твои лёгкие сажей». Передавая мне полное ведро сажи, она говорила: «Гляди, гляди, вот вырастешь большой, будешь курить, твои лёгкие так же забьются сажей, да никак будет их не почистить». «Не буду курить», – обижался я. «Будешь, будешь, – говорила бабушка, – все мужики курят». А ведь её урок подействовал, я так и не стал курить, хотя много раз и пытался начать. Слишком жутко выглядела та жирная сажа в ведре. Вспоминал я эту сажу, когда карабкался по высокогорным скалам и когда работал в железном чреве подводной лодки. Мне, некурящему, было там намного легче, чем моим курящим товарищам.
Где-то я прочитал, что английские огородники для защиты своих растений от холода накрывают их на ночь специальными «стеклянными колоколами». Бабушка Васса для этой цели использовала простые стеклянные банки, которые на день складывала под крыльцо. И вот однажды, покорённый своеобразной красотой зелёных лягушек, которые в великом множестве водились в болоте под нашей горой, я наловил их и сложил в эти банки. Откуда мне было знать, что бабушка очень боялась лягушек и что эти банки ей понадобятся в тот же вечер… Короче, был я бит, что по бабушкиным понятиям было самой эффективной воспитательной процедурой. Я же битья не любил, особенно когда это касалось персонально меня. Ну не нравилось мне, когда меня порют.
Коза Милка
У бабушки была коза Милка, и я, чтобы отработать свой хлеб, должен был её пасти. Однажды, когда мы с Милкой паслись на болоте рядом с песчаным карьером, я воткнул в сырую болотистую почву палку, привязал к ней Милку, а сам отправился на карьер прыгать с кручи в песок. В один из прыжков я угодил босой ногой на острую кость и здорово поранился. Чтобы унять бьющую из раны кровь, я, хромая, отправился обратно на болото, где рядом с Милкой оставил китель, доставшийся мне в наследство от отца. К моему удивлению, козы на месте не было. А китель лежал. Я оторвал от него подкладку и кое-как перевязал ногу. За этим занятием меня и застала разъярённая бабушка Васса. Оказывается, Милка по дороге домой забежала в соседский огород и накинулась на капусту. Помню, что дома били тогда меня кочергой, а это совсем не то же самое, что ремнём или розгами. И я инстинктивно прятал голову под табуретку, чтобы остаться живым. О чём я тогда думал? Только не об отсутствии детского омбудсмена и законов, запрещающих домашнее насилие над детьми. Я очень жалел, что у меня больше нет папы, большого, сильного и очень доброго папы. Он бы меня в обиду не дал. Да и сестра Галя смогла бы меня защитить, но она уехала.
После битья бабушка промыла рану на моей ноге, приложила к ней листья подорожника и перевязала. Потом умыла меня, переодела и накормила вкуснейшим картофельным пюре на козьем молоке с кусочками американской тушёнки, что обычно делала только по праздникам. В тот день я гулять на улицу не ходил, отлёживался.
Да, а нога моя заживала дольше, чем побои на теле, и я ещё полгода боялся ставить ногу на всю ступню, так и ходил ступая на носок.
«Заготзерно». Победа
И ещё один памятный эпизод из боровичского детства. Сильные морозы. К бабушке Вассе заезжают дальние родственники из деревни. На гнедой лошади, запряжённой в сани-розвальни, они едут в «Заготзерно». Я увязался с ними – ещё бы, когда ещё выпадет счастье прокатиться в санях, в которые запряжена живая лошадь! На площадке перед конторой «Заготзерно» на укатанном и унавоженном снегу скопилось множество людей и подвод. До сих пор помню эту картинку: десятки, а то и сотни румяных людей, одетых в овчинные тулупы, прыгают и толкаются, чтобы не замёрзнуть, галдят, хохочут, Вполне можно было снимать массовку для какого-нибудь исторического фильма, всё было, как и сотни лет назад: лошади, сани, овчинные тулупы и мороз… Этот мороз и подвёл меня. Мне в моей скудной городской одежонке не захотелось вылезать из саней, и я начал засыпать. Очнулся уже в доме на Порожской улице – голенький, лежащий на бабушкиной плите-лежанке. Несколько пар сильных рук растирают меня водкой, боль пронизывает всё моё тело, а бабушкин голос на чём свет стоит костит наших деревенских гостей. Подвёл я их. Но выжил.
Весной 1945 года бабушка вдруг получила письмо от пропавшего без вести сына Вити, лётчика, его как раз освободили из концлагеря Освенцим. Моя строгая и всегда сдержанная на эмоции бабушка Васса носилась по соседям с этим письмом в руках и в одной туфле на ноге: «Витенька жив!»
Бабушка Васса росла сиротой в семье старшего брата в деревне Зайцево. В многодетной крестьянской семье лишний рот всегда проблема. Поэтому с ранних лет была она отдана в услужение в барскую усадьбу немки Бергштейн, прозванной в народе Берсенихой. Смышлёная не по годам, расторопная и трудолюбивая девчушка выгодно выделялась на фоне остальной челяди и уже к шестнадцати годам была у барыни экономкой, а попросту ключницей. Такая судьба и вылепила бабушкин характер, она никогда не улыбалась, не напевала песен, не терпела ленивых и неряшливых, во всём любила железный порядок.
9 мая 1945 года в Боровичах стояла прекрасная солнечная погода. Гремели маршами репродукторы, на улицах было полно народа, люди кричали «Ура!», обнимались и плакали. Победа! Из госпиталя высыпали раненые в бинтах и гипсе, многие на костылях. Всех людей в военной форме толпа «качала» – в безудержной радости люди десятками рук подкидывали военных вверх.
На нашей улице стали появляться демобилизованные парни и девчата. Они бродили в гимнастёрках со споротыми погонами, поблёскивали медалями, шумели, смеялись, пели под гармошку. Однажды кто-то из них бросил с конца улицы в болото под горой гранату. Я сбегал вниз, увидел массу зелёных лягушек, лежащих на воде кверху светлым брюшком. Мне было жаль этих беззащитных красавиц, ведь они погибли от гранаты, которую делали для уничтожения фашистов, а не зелёных боровичских лягушек.
Появился и Витя – высокий, худой (при освобождении из концлагеря он весил всего сорок восемь килограммов), в какой-то невероятной шинели – то ли американской, то ли голландской. Была она необычного травяного цвета и с очень красивыми выпуклыми бронзовыми пуговицами.
Война закончилась, мы победили. Но мой папа Митя так и не вернулся, хотя долгие годы я надеялся на чудо. Но этого чуда так никогда и не случилось.
Глава 2. 1945–1952
В конце мая 1945 года мама Тоня забрала меня из Боровичей в Ленинград, а если точнее, в нашу оставленную на время войны квартиру в ленинградской Старой Деревне.
Старая Деревня, исторический район Петербурга на правом берегу Невской губы. Когда-то эти земли шведы отобрали у новгородцев, у шведов их отобрал царь Пётр и подарил барону Остерману. Тот устроил здесь мызу Каменный Нос, а рядом поселил пригнанных с Поволжья крепостных. И стало место их проживания называться без особых затей Деревней. У Остермана эти земли отобрала Елизавета и подарила их графу Бестужеву-Рюмину. Граф тоже пригнал своих крепостных, поселил их рядом со старожилами, напротив Каменного острова. А чтобы отличить одну деревню от другой, первую стали называть Старой, а вторую – Новой. В церкви между двумя этими деревнями Наталья Пушкина познакомилась с Дантесом, а на кладбище при этой церкви Пушкин написал стих «Когда за городом, задумчив, я брожу». Гении, они ведь не от мира сего. Не бродил бы задумчив между надгробий, не оставлял бы молодую жену без присмотра, глядишь, и остался бы жив. А так пришлось стреляться. Здесь же, неподалёку, на Чёрной речке. Почти рядом, если напрямки огородами и через Серафимовский погост.
С годами в Новой Деревне было устроено много увеселительных заведений, весьма популярных у петербуржцев: «Аркадия», «Ливадия», «Кинь грусть»… В обеих Деревнях любили квартировать цыгане, выступавшие в этих злачных местах. И, если помните, у Ильфа и Петрова, на теле Остапа Бендера находят ноты романса «Прощай, ты, Новая Деревня».
Для кого «прощай», а для меня в мае 1945 года «здравствуй». И «здравствуй» на долгие восемнадцать лет. И, как в стихах Олжаса Сулейменова, здесь для меня будет навсегда «мальчишество заковано в рассудок хвоинкой в жёлтый камень янтаря». Маме в тот год было тридцать два, сестре Гале тринадцать, мне шёл восьмой год. А папе Мите было бы тридцать восемь, но его с нами больше не было. Мама поставила на буфет его фотографию в морской форме, и он долгие годы внимательно смотрел на нас из-под козырька фуражки, как бы спрашивая: «Ну как вы там?»
Разбитые дома. Клички
Вокруг нашего дома были сплошные пустыри, деревянные дома в округе за войну либо сгорели, либо были разобраны на дрова. От них остались лишь кучи битого кирпича и ржавой домашней утвари – кроватей, кастрюль, швейных машинок, короче, всего того, что нельзя было пустить на дрова. Мы с дружками называли их «разбитыми домами» и целыми днями играли на этих развалинах в войну. Вокруг осталось только несколько хибар из кирпича или шлакоблоков. Да ещё несколько частных изб, в которых жили стародеревенские аборигены, коих наш дом называл «кулаками» за то, что те во время блокады наживались на горожанах, выменивая на «картошку-морковку» чьи-то фамильные драгоценности, а после войны все мы иногда горбатились на них, чтобы заработать какие-то гроши – вскапывали огороды, пропалывали грядки, вязали в пучки редиску и корешки, иногда торговали этими пучками на Ситном или Дерябкином рынках. Земля вокруг нашего дома была занята огородами, обнесёнными заборами из кроватей. Мы свинчивали со спинок этих кроватей шарики, которые при стрельбе из рогаток издавали свист «дырочкой в правом боку».
Мы, человек восемь пацанов, родившихся перед войной, сбились в ватагу по месту нашего обитания. Кто-то пережил блокаду здесь, в Старой Деревне, кто-то, подобно мне, вернулся с семьёй из эвакуации, кто-то с родителями приехал из деревни в поисках лучшей жизни. После войны город нуждался в строителях, да и вообще в рабочих руках, поэтому предприимчивые люди легко находили лазейки, как обойти тогдашние законы и перебраться в город из деревни. Как водится, вся ватага обзавелась кличками. Клички пацанов редко бывают нейтральными, необидными. Не помню, по какому случаю одного из Вовок прозвали Дураком, кличка эта оказалась долгоиграющей и живучей. Другой Вовка при игре в мяч вместо «Лови!» кричал по-деревенски: «Имай!», что оказалось веским поводом прозвать его Имаем. Иногда его называли хан Имай или просто Хан. Витька Кролик был старшим ребёнком в большой семье, где все его братья и сёстры были мал мала меньше. Мелкие, необыкновенно подвижные и ужасно прожорливые. Мы их всех без разбора звали Кроликами. Толя Кирпиченко всю войну провёл в детском доме. Оттуда он принёс в наш двор игру «в чижика» – так назывался деревянный брусок с заострёнными концами, который при ударе палкой по кончику взлетал и куда-то там падал. Что надо было с этим делать, я не помню, игра эта у нас не прижилась, но Толя обрёл вполне заслуженно кличку Чижик. Женька Швец был среди нас самым старшим. И сильным. Он как-то побил задиристого Имая, а тот отбежал в сторону, утирая с лица слёзы, кровь и сопли, и заорал на своего обидчика: «Гербес! Гербес!» И Женька стал Гербесом, правда, так его пацаны называли только за глаза, уважая Женькины кулаки. Я как-то спросил забияку Имая: «А кто такой Гербес?» Он ответил: «Жили-были три бандита: Гитлер, Геринг и Гербес». Я сказал: «Скорей всего, не Гербес, а Геббельс». А он: «Какая разница? Всё равно у Женьки смешной нос, как на карикатуре в журнале».
У моего друга Бори было прозвище Брунчик. В избе его деда Ивана когда-то квартировал инженер немец Брунс. Ушлые соседи прозвали всех детей и внуков Ивана Брунчиками. Избу Бориного отца, дяди Ильи, в блокаду разобрали на дрова, и они жили в нашем доме. Дядя Илья иногда говорил, что он из рода Брунчиков, и Боря не считал эту кличку обидной, но так его звали только на той улице, где жили Брунчики – его двоюродные братья и сёстры. А в нашем дворе он был просто Боб. Теперь обо мне. Из Сыктывкара мы привезли мою зимнюю обувь – пимы. Это в Сибири пимами называют валенки. А мои пимы из Коми были мягкими сапожками, сшитыми из шкуры белого медведя, совсем как медвежьи лапы, не хватало только когтей. Вот и прозвали меня и в школе, и во дворе сначала Медведем, потом Мишкой. Но нога моя выросла, я переобулся в серые валенки и постепенно превратился из Мишки в Геху. Правда, один мой одноклассник до самого выпуска звал меня Мишей, будучи уверенным, что это моё имя. А я и не возражал.
Когда мы подросли и немного поумнели, учились уже где-то в классе пятом-шестом, в нашем дворе состоялась тайная сходка носителей обидных кличек, они договорились сменить эти клички на другие, производные от фамилии. На этой сходке Вовка-Дурак по фамилии Пыхунов стал Пыхой, Витька Соловьёв из Кролика чудесным образом превратился в Соловья, Имай в Снетка, Толя Кирпиченко из Чижика в Кирпича. О своём решении они объявили нам, и мы согласились. К этому времени нам и самим стало не очень комфортно величать своих товарищей обидными кличками. Новые клички не были такими обидными, как прежние, и в большинстве своём пришлись к месту – угловатый тугодум Толя больше походил на кирпич, нежели на непоседу чижика, новоиспечённый Соловей искусно насвистывал популярные песенки, Пыха после бега часто запыхивался. Думаю, это было оттого, что все наши фамилии в большинстве своём произошли от кличек предков, передавших потомкам не только фамилии, но и какие-то свои особенности и привычки. Правда, некоторые клички, придуманные нами, оказались живучими, наверное, больше соответствовали нынешним пацанам, чем фамилии, доставшиеся от пращуров. Так, Соловья за глаза продолжали называть Кроликом, а Пыху – Пыха-Дурак. Совсем не прижилось прозвище Снеток, Имай так и остался Имаем – задиристый, драчливый хан.
Школа
1 сентября 1945 года я должен был пойти «первый раз в первый класс», но друг мой Боря Брунчик забыл за мной зайти, и я прождал его весь день зря. Так что моя школьная жизнь началась не с первого, а со второго сентября… В классах нас было очень много, например, в нашем первом классе было сорок человек. Были мальчишки-калеки, однорукие, одноногие, одноглазые. Я гляжу на групповые фотографии своего класса и вспоминаю, кто из ребят сидит, положив под себя костыль, кто спрятал культю руки за спины товарищей.
Война отметилась на моих ровесниках ещё и тем, что в каждом классе учились переростки из бывших оккупированных мест, из партизанских отрядов. Они казались нам совсем взрослыми, курили, рассказывали нам, например, как в кожухе пулемёта при стрельбе закипает вода и надо ползти к ручью, чтобы набрать воды холодной. Некоторые из них были одеты в перешитые немецкие мундиры, а однажды двое из этих переростков прямо на уроке, выскочив к доске, устроили драку. Они же раньше всех бросали учёбу и уходили работать.
Ко всем своим учителям я относился как к небожителям. Или инопланетянам. И если кто-нибудь из этих «сеятелей разумного, доброго, вечного» проявлял свою причастность к земным делам, это воспринималось мной как чрезвычайное событие и запоминалось надолго. Наша классная Мария Степановна иногда рассказывала в подробностях, как она пережила блокаду. А однажды поведала, как борется с клопами – ставит кровать посреди комнаты и каждую её ножку помещает в жестянку с керосином. Но при этом заметила, что клопы по стенке забираются на потолок и оттуда пикируют на неё, минуя керосин. В ту пору не было хороших средств от бытовых насекомых, и от клопов, оказалось, страдали не только обычные люди, но и уважаемые учителя.
Одно время директором нашей школы был некто Айдаркин, необыкновенно толстый человек с большой без единого волоска круглой головой и очень шумной одышкой. Говорил, что он из тех приамурских партизан, про которых написана популярная песня-марш «По долинам и по взгорьям». Была там такая строчка: «Шли лихие эскадроны приамурских партизан». Этот лихой приамурский партизан вёл у нас предмет «Конституция СССР». Он вплывал в класс, как большой пыхтящий пароход, отставлял стул подальше от учительского стола, чтобы тот не давил на его большой живот, кряхтя усаживался и засыпал. И сорок с лишним шалопаев до звонка на перемену сидели тихо-тихо, чтобы его не разбудить. Пожалуй, ни одному самому строгому учителю не удавалось заставить хулиганистую неугомонную братию так долго неподвижно сидеть и молчать.
Здание школы было когда-то построено земством для старо- и ново-деревенской ребятни, всё в этом здании было добротно – и большой спортивный зал, и массивные двери классов с красивыми ручками, и лестницы с дубовыми перилами, и большие окна с бронзовыми шпингалетами на всю высоту окна. Окна классов выходили либо на железную дорогу, идущую от станции Новая Деревня на Лахту, либо на улицу, либо на школьный двор, где долгие годы валялись железобетонные муляжи небольших зажигательных бомб, видимо, здесь учились их обезвреживать. В тот год наш класс располагался на первом этаже с окнами на улицу, по которой часто проходили похоронные процессии в сторону близлежащего Серафимовского кладбища. Выглядели они весьма театрально: несколько лошадей светло-серой масти тащили катафалк, такую же серую телегу на рессорах, с крышей на резных колоннах и с красивыми фонарями. На телеге стоял гроб. Лошади были покрыты серыми сетчатыми попонами, под уздцы их вели пешие мужики в длиннополых наглухо застёгнутых серых балахонах. Если помните, поэт Апухтин этих мужиков в стихотворении «Когда будете, дети, студентами» назвал ассистентами. За катафалком, опять же пешим порядком, нестройными рядами следовала толпа провожающих. Если же хоронили большого военачальника, его гроб везли на артиллерийском лафете. Возглавляли шествие офицеры, которые шли гуськом, неся перед собой подушечки с орденами и медалями покойного. Обязательной составляющей военной процессии было отделение почётного караула с оружием для прощального салюта и музыканты военного духового оркестра, их трубы и барабаны возле школы помалкивали.