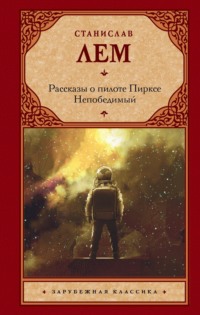
Рассказы о пилоте Пирксе. Непобедимый
Пейзаж был единственным в своем роде. Пиркс уже бывал на Луне, о чем раз шесть упомянул в беседе, но не в такую пору, за девять часов до захода солнца. Они долго сидели у окна. Пнин называл Пиркса коллегой, а тот не знал, как ему отвечать, и мудрил с грамматикой изо всех сил. У русского была фантастическая коллекция фотоснимков, сделанных во время горных восхождений: он, Ганшин и еще один их товарищ, который ненадолго улетел на Землю, в свободное время занимались альпинизмом.
Кое-кто пытался ввести в обиход слово «лунизм», но термин не привился, тем более что существуют Лунные Альпы.
Пиркс, который ходил в горы еще до того, как стал курсантом, обрадовался, что встретил своего брата альпиниста, и начал расспрашивать Пнина, чем отличается лунная техника восхождения от земной.
– Коллега, надо помнить об одном, – отвечал Пнин, – только об одном. Делайте все, «как дома», пока возможно. Льда здесь нет – разве что в очень глубоких расщелинах, да и там попадается чрезвычайно редко; снега, разумеется, тоже, так что вроде тут очень легко, тем более что можно упасть с высоты тридцати метров и ничего с тобой не случится, но об этом лучше не думать.
– Почему? – очень удивился Пиркс.
– Потому что здесь нет воздуха, – объяснил астрофизик. – И сколько бы вы ни ходили, все равно не научитесь правильно определять расстояние. Тут и дальномер не очень-то поможет, да и кто ходит с дальномером? Взойдешь на вершину, глянешь в пропасть – и кажется тебе, что в ней пятьдесят метров. А в ней, может, действительно пятьдесят, а может, триста или все пятьсот. Случилось мне однажды… Впрочем, вы знаете, как это происходит. Стоит человеку раз внушить себе, что можно сорваться, так он обязательно рано или поздно упадет. На Земле голову разобьешь – заживет со временем, а здесь один хороший удар по шлему, стекло треснет – и все. Держитесь, как в земных горах. Что позволяете себе там, то и здесь можно. Кроме прыжков через расщелины. Поищите сначала камешек, швырните его на ту сторону и проследите за полетом. По правде говоря, я, положа руку на сердце, не советую вообще прыгать. Как обычно бывает: прыгнешь раз-другой на двадцать метров, так тебе уж и пропасти не страшны, и горы по колено – тогда жди несчастья. Горноспасательной службы здесь нет… так что сами понимаете…
Пиркс начал расспрашивать о станции «Менделеев». Почему она построена почти на вершине, а не внизу? Трудная ли там дорога? Говорят, приходится карабкаться?
– Карабкаться почти не приходится, но путь довольно опасный – прошла каменная лавина из-под Солнечных Ворот и снесла дорогу… Что касается расположения станции – мне об этом неловко говорить. Особенно сейчас, после такого несчастья… Но вы, наверно, читали о нем, коллега?…
Пиркс, ужасно сконфузившись, промямлил, что как раз в то время у него была экзаменационная сессия. Пнин усмехнулся, но тотчас стал серьезным.
– Так вот… Луна – международное владение, но каждое государство имеет здесь зону научных исследований – нам досталось это полушарие. Когда выяснилось, что радиационные пояса препятствуют прохождению космических лучей на том полушарии, которое обращено к Земле, англичане попросили разрешения построить станцию на нашей стороне. Мы не возражали. В это время мы сами вели подготовку к строительству на хребте Менделеева и предложили англичанам этот район, с тем что они возьмут завезенные нами строительные материалы, а рассчитываться будем потом. Англичане согласились, а затем передали все канадцам, поскольку Канада входит в Британское содружество. Для нас это значения не имело.
Поскольку мы уже произвели предварительную разведку района, один из наших ученых, профессор Анимцев, хорошо знающий местные условия, стал консультантом канадских проектировщиков. И вдруг мы узнали, что англичане по-прежнему принимают участие в этом деле. Они прислали Шэннера, и тот заявил, что на дне кратера могут возникнуть потоки вторичной радиации, которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно, но решали все англичане: ведь это их станция. Они постановили перенести станцию наверх.
Конечно, стоимость строительства возросла ужасающе, и всю разницу покрывали канадцы. Но дело не в этом. Мы деньги в чужом кармане не считаем. Они выбрали место для станции, начали проектировать дорогу. Анимцев сообщал: «Англичане предложили перебросить через две пропасти мосты из железобетона, но канадцы возражают, потому что стоимость из-за этого возрастает чуть ли не вдвое; они хотят вгрызться в хребет Менделеева и направленными взрывами пробить два скальных выступа. Я им не советую: это может нарушить равновесие кристаллического базальтового основания. Они не слушают. Что делать?» Что же мы могли сделать? Они ведь не дети. У нас опыт селенологических исследований побогаче, но, раз они не хотят прислушаться к совету, мы не будем навязываться. Анимцев записал особое мнение, и на этом все кончилось. Начали взрывать скалу. Так первая бессмыслица – неправильный выбор места – повлекла за собой вторую. А результаты, к сожалению, не заставили себя долго ждать. Англичане построили три противолавинные стены, сдали станцию в эксплуатацию, по дороге пошли гусеничные транспортеры – пожалуйста, полная удача. Станция проработала три месяца, когда у основания каменного навеса, под Солнечными Воротами, ниже большой зазубрины на западной грани хребта, показались трещины…
Пнин встал, вынул из шкафа несколько больших снимков и показал Пирксу.
– Вот в этом месте. Здесь лежит, вернее лежала, полуторакилометровая плита, местами нависавшая над пропастью. Дорога пролегала примерно на одной трети высоты, по этой красной линии. Канадцы встревожились. Анимцев – он все еще находился там – объяснил им: разница между дневной и ночной температурами составляет триста градусов, трещины будут расширяться, и тут ничего не поделаешь. Разве подопрешь чем-нибудь плиту в полтора километра?! Путь нужно немедленно перекрыть, а к станции, раз уж она построена, провести подвесную канатную дорогу. Они же вызывают эксперта за экспертом из Англии, из Канады, и разыгрывается форменная комедия: экспертов, которые говорят то же, что наш Анимцев, немедленно отправляют домой. Остаются только те, которые пытаются как-то управиться с трещинами. Начинают пломбировать трещины цементом. Применяют глубокое нагнетание раствора, подкосы, цементируют и цементируют, а конца не видно: что зацементировано днем, лопается в первую же ночь. Уже бегут по расселинам небольшие лавины, но их задерживают каменные стены. Возводят систему клиньев, чтобы рассеивать более крупные лавины. Анимцев втолковывает, что дело не в лавинах: вся плита может рухнуть! Я просто смотреть на него не мог, когда он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез: видел надвигающуюся беду, но ничего не мог поделать.
Скажу вам беспристрастно: у англичан есть прекрасные специалисты, но тут дело не в специальных селенологических проблемах, а в престиже: построили дорогу и не могут отступиться. Анимцев в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и трения между англичанами и канадцами – все из-за плиты, из-за этого краешка так называемого Орлиного Крыла. Канадцы хотели взорвать ее – пусть разрушит дорогу, но зато можно будет проложить новый, безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия. Анимцев подсчитал, что для взрыва понадобится водородный заряд в шесть мегатонн, а конвенция ООН запрещает применять радиоактивные материалы в качестве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула… Англичане писали потом, что во всем виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект – виадуки из железобетона.
Пнин с минуту смотрел на другой снимок, изображавший зазубрину хребта почти в двойном увеличении; черными точками было обозначено место обвала, который обрушился на дорогу и уничтожил ее вместе со всеми укреплениями.
– В результате станция временами недоступна. Днем туда можно легко добраться – несколько небольших переходов по гребням, но, как я уже говорил, дорога весьма опасна. Зато ночью пройти туда практически невозможно. У нас тут Земли нет, сами знаете…
Пиркс понял, о чем говорит русский: на этой стороне долгие лунные ночи не освещает огромный фонарь Земли.
– А инфракрасные здесь не помогут? – спросил он.
Пнин усмехнулся.
– Инфракрасные очки? Какой в них толк, коллега, если через час после захода солнца поверхность камней остывает до ста шестидесяти градусов ниже нуля… Теоретически можно идти с радароскопом, но вы пробовали когда-нибудь ходить в горы с таким снаряжением?
Пиркс признался, что не пробовал.
– И не советую. Это самый сложный способ самоубийства. Радар хорош на равнине, но не в горах…
В комнату вошли Лангнер и Ганшин: пора было отправляться. До станции «Менделеев» – полчаса в ракете, еще два часа отнимет пеший путь, а через семь часов зайдет солнце. Семь часов – запас немалый. Тут выяснилось, что с ними полетит Пнин. Пиркс и Лангнер объясняли, что это не нужно, но хозяева и слушать не хотели.
В последнюю минуту Ганшин спросил, не хотят ли они передать что-нибудь на Землю – теперь случай представится не скоро. Правда, между станциями «Менделеев» и «Циолковский» налажена радиосвязь, но через семь часов они пересекут терминатор и возникнут сильные помехи.
Пиркс подумал, что недурно было бы послать сестре Маттерса привет с той стороны, но не отважился на это. Они поблагодарили и пошли вниз, но опять-таки выяснилось, что русские проводят их до ракеты. Тут Пиркс не выдержал и пожаловался на свой скафандр. Ему подобрали другой, а прежний остался в шлюзовой камере станции «Циолковский».
Русский скафандр отличался устройством от тех, с которыми был знаком Пиркс. Шлем имел не два фильтра, а три: один предохранял от солнца в зените, другой – от низкого солнца, а третий, темно-оранжевый, – от пыли. По-иному располагались воздушные клапаны, очень забавное устройство имелось в ботинках: можно накачать подошвы воздухом – и ходи как на подушках. Камней вообще не чувствуешь, а внешний слой подошвы идеально прилегает даже к самой неровной поверхности. Это была «высокогорная» модель. Кроме того, скафандр был наполовину серебряный, наполовину черный. Повернешься черной стороной к солнцу – начинаешь потеть, повернешься серебряной – по телу пробегает приятная прохлада. Пирксу это показалось не слишком удачной выдумкой: ведь не всегда можно повернуться к солнцу как захочешь. Задом наперед идти, что ли?
Русские ученые расхохотались. Они показали переключатель на груди: он перемещал цвета. Можно было сделать скафандр черным спереди, а серебряным сзади, и наоборот. Интересен был и способ перемещения цветов. Узкое пространство между прозрачной внешней оболочкой из твердого пластика и собственно корпусом скафандра заполнялось двумя разными видами красителей или, скорее, полужидких веществ, приготовленных на алюминии и на угле. Перемещались они просто под давлением кислорода, поступавшего из аппарата для дыхания.
Пора было идти к ракете. В первый раз Пиркс вошел в шлюзовую камеру станции с солнечной стороны и был так ослеплен, что ничего не видел. Теперь он обратил внимание, что камера сконструирована особым образом: ее наружная стена двигалась вверх и вниз, как поршень. Пнин объяснил, что благодаря этому можно одновременно впускать или выпускать сколько угодно людей и не расходовать воздух попусту. Пиркс ощутил нечто вроде зависти, потому что камеры Института были почтеннейшими ящиками, устаревшими по меньшей мере на пять лет; а пять лет технического прогресса – это целая эпоха.
Солнце как будто вовсе не снизилось. Странно было шагать в надувных башмаках – словно и не касаешься почвы, но Пиркс освоился с этим, прежде чем дошел до ракеты.
Профессор Ганшин придвинул свой шлем к шлему Пиркса и прокричал несколько прощальных слов, потом они пожали друг другу руки в тяжелых перчатках, и вслед за пилотом отлетающие влезли внутрь ракеты, которая чуть осела под увеличившейся тяжестью.
Пилот подождал, пока провожающие отойдут на безопасное расстояние, и запустил двигатели. В скафандре угрюмый грохот нарастающей тяги звучал, как за толстой стеной. Нагрузка возросла, но они даже не почувствовали, как ракета оторвалась от площадки. Только звезды заколебались в верхних иллюминаторах, а гористая пустыня в нижних провалилась и исчезла.
Они летели теперь совсем низко и поэтому ничего не видели, только пилот наблюдал за проплывавшим внизу призрачным ландшафтом. Ракета висела почти вертикально, как вертолет. Нарастание скорости угадывалось по усилившемуся грохоту двигателей и легкой вибрации всего корпуса.
– Внимание, снижаемся! – послышалось в шлемофоне. Пиркс не понял, говорит это пилот по бортовому радио или Пнин. Откинулись спинки кресел. Пиркс глубоко вздохнул, он стал легким – таким легким, что того гляди полетит; он инстинктивно ухватился за подлокотники. Пилот резко затормозил, дюзы запылали, завыли, языки пламени с невыносимым шумом устремились вверх, вдоль обшивки корабля, перегрузка возросла, опять упала, и наконец до ушей Пиркса донесся двойной сухой стук – они сели. А дальше случилось нечто неожиданное. Ракета, которая уже начала свои странные колебания и качалась вверх-вниз, будто подражая мерным приседаниям длинноногих насекомых, вдруг накренилась и под нарастающий грохот камней стала заметно сползать с места.
«Катастрофа!» – мелькнуло в голове у Пиркса. Он не испугался, но непроизвольно напряг все мышцы. Его попутчики лежали неподвижно. Двигатели молчали. Пиркс отлично понимал пилота: корабль, кренясь и колеблясь, сползает вниз вместе с каменной осыпью, и если включить двигатели, то при одной опущенной ноге они, не успев взлететь, либо опрокинутся, либо ударятся о скалы.
Скрежет и грохот каменных глыб, катящихся под стальными лапами ракеты, все слабел и наконец утих. Еще несколько струек гравия звонко пробарабанили по металлу, еще какой-то обломок подался вглубь под нажимом шарнирной ноги – и кабина медленно осела с креном градусов в десять.
Пилот выбрался из своего колодца слегка сконфуженный и начал объяснять, что изменился рельеф местности: видимо, по северному склону прошла новая лавина. Он садился на осыпь под самой стеной, чтобы доставить их поближе к цели.
Пнин ответил, что это не слишком-то удачный способ сокращать дорогу: каменная осыпь – не космодром, и без необходимости рисковать не следует. На этом короткий диалог кончился, пилот пропустил пассажиров в шлюзовую камеру, и они по лесенке спустились на осыпь.
Лангнер и Пиркс пошли с Пниным, а пилот остался в ракете – дожидаться возвращения русского.
Пиркс считал, что хорошо знает Луну. Однако он ошибался. Район станции «Циолковский» был просто прогулочной площадкой по сравнению с местом, где они оказались сейчас. Ракета, накренившись на раздвинутых до предела ногах, ушедших в каменную осыпь, стояла всего в трехстах шагах от границы тени главного массива хребта Менделеева. Пылающее в черном небе солнечное жерло почти коснулось зубцов горной цепи, и казалось, зубцы плавятся, но это был обман зрения. Однако отвесные стены, возникшие из тьмы в километре-двух, не были иллюзией. К изрезанной глубокими рытвинами равнине – дну кратера – сбегали из расселин немыслимо белые треугольники осыпей; места свежих обвалов легко распознавались по размытым очертаниям камней, окутанных медленно оседающей пылью. Потрескавшуюся лаву на дне кратера тоже покрывал слой светлой пыли; вся Луна была припудрена микроскопическими частицами метеоров – мертвого дождя, миллионы лет падавшего на нее со звезд. По обе стороны тропы – она в сущности была нагромождением глыб и обломков, столь же диким, как все вокруг, и называлась так лишь потому, что была обозначена вцементированными в камень алюминиевыми вехами, каждая из которых увенчивалась чем-то вроде рубинового шарика, – по обе стороны этого пути, нацеленного вверх по осыпи, стояли наполовину залитые светом, наполовину черные, как галактическая ночь, стены, с которыми не могли сравниться даже громады Гималаев.
Слабое лунное притяжение позволяло камням на века застывать в формах, будто рожденных в кошмарном сне. Даже привыкшие к виду пропастей люди рано или поздно поражались этому при восхождении к вершинам. Впечатление нереальности, фантастичности окружающего ландшафта усиливалось тем, что белые глыбы пемзы от пинка ногой взлетали вверх, как пузыри, а тяжеленный обломок базальта, брошенный вниз по склону, летел неестественно медленно, долго и падал беззвучно, будто во сне.
Когда они поднялись на сотню-другую шагов, цвет скал изменился. Реки розоватого порфира с двух сторон окаймляли расселину, в которой шли Пнин, Лангнер и Пиркс. Глыбы громоздились местами в несколько этажей, сцепившись заостренными краями, будто ждали легкого прикосновения, чтобы ринуться вниз неудержимой лавиной.
Пнин вел их через этот лес окаменевших взрывов, шагая не очень быстро, но безошибочно. Иногда камень, на который он ставил свою ногу в огромном башмаке скафандра, шатался. Тогда Пнин замирал на мгновение и либо шел дальше, либо обходил это место, по известным лишь ему приметам угадывая, выдержит камень тяжесть человека или нет. К тому же звук, так много открывающий альпинисту, здесь не существовал. Одна из базальтовых глыб оторвалась без видимых причин и покатилась вниз – замедленно, словно во сне, потом увлекла за собой массу других камней, которые яростными скачками мчались все быстрее, и наконец белая как молоко пыль скрыла дальнейший путь лавины. Это было совсем как в бреду: огромные глыбы сталкивались совершенно беззвучно, и даже подрагивание почвы не ощущалось сквозь надувные подошвы. За крутым поворотом Пиркс увидел след лавины, а сама она уже казалась волнистым, спокойно стелющимся облаком. С невольным беспокойством он начал искать взглядом ракету, но она была в безопасности, стояла на прежнем месте, километрах в двух отсюда, и Пиркс видел ее блестящее брюшко и три черточки-ножки. Будто странное лунное насекомое присело на старой осыпи, которая раньше казалась Пирксу крутой, а отсюда выглядела плоской, как стол.
Когда они приблизились к полосе тени, Пнин ускорил шаг. Пиркс так увлекся зрелищем дикой и грозной природы, что ему просто некогда было взглянуть на Лангнера. Только сейчас он заметил, что маленький астрофизик ступает уверенно и совсем не спотыкается.
Пришлось прыгать через четырехметровую расщелину. Пиркс вложил в прыжок слишком много сил; он взмыл вверх и, бесцельно перебирая ногами, опустился в добрых восьми метрах за противоположным краем пропасти. Такой лунный прыжок мог обогатить человека опытом, не имевшим ничего общего с паясничанием туристов в гостинице на Луне.
Они вошли в тень. Пока они находились сравнительно недалеко от залитых солнцем скал, отблески света смягчали тьму, играли на выпуклостях скафандров. Но вскоре мрак настолько сгустился, что путники потеряли друг друга из виду. В тени была ночь. Сквозь все антитермические слои скафандра Пиркс ощутил ее ледяной холод; он не добирался до тела, не жег кожу, но будто напоминал о своем молчаливом присутствии: части бронированного скафандра заметно подрагивали, охладившись на двести с лишним градусов. Когда глаза привыкли к темноте, Пиркс заметил, что красные шары на верхушках алюминиевых мачт довольно ярко светятся; бусинки этого рубинового ожерелья уходили вверх и исчезали в свете солнца – там растрескавшийся горный хребет устремлялся в долину, создавая три гигантских крутых уступа, громоздившихся друг на друга; их разделяли узкие горизонтальные выходы горных пластов, образуя нечто вроде острых карнизов. Пирксу показалось, что исчезающая вдали шеренга мачт ведет к одной из этих каменных полок, но он подумал, что это, пожалуй, невозможно. У самого верха сквозь гребень, словно расколотый ударом молнии, прорывался почти горизонтальный сноп солнечного света. Он напоминал возникший в глухом молчании взрыв, брызнувший раскаленной белизной на скальные выступы и расщелины.
– Вон там станция, – донесся через шлемофон близкий голос Пнина. Русский остановился на границе ночи и дня, мороза и зноя, показывая рукой куда-то вверх, но Пиркс не мог различить ничего, кроме чернеющих обрывов, не посветлевших даже под солнцем.
– Видите Орла?… Так мы назвали этот хребет. Это голова, вон клюв, а это крыло!..
Пиркс видел только нагромождение света и теней. Над восточной, искрящейся гранью хребта торчала наклонная вершина; из-за отсутствия воздушной дымки, размывающей очертания, она казалась совсем близкой. И вдруг Пиркс увидел всего Орла. Крыло – это и была та стена, к которой они направлялись; выше, на фоне звезд, выделялась голова птицы, наклонная вершина была клювом.
Пиркс посмотрел на часы. Прошло сорок минут. Значит, остается идти по меньшей мере еще столько же.
Перед очередной полосой тени Пнин остановился, чтобы переключить свой климатизатор. Пиркс воспользовался этим и спросил, куда ведет дорога.
– Туда. – Пнин показал рукой вниз.
Пиркс видел лишь пропасть, а на дне ее – конус осыпи, из которой торчали огромные обломки скал.
– Оттуда откололась плита, – объяснил Пнин, указывая теперь на просвет в гребне. – Это Солнечные Ворота. Сейсмографы на «Циолковском» зарегистрировали сотрясение почвы; по нашим подсчетам, рухнуло около полумиллиона тонн базальта…
– Позвольте, – перебил его ошеломленный Пиркс. – А как же теперь доставляют наверх грузы?
– Сами увидите, когда придем, – ответил Пнин и зашагал вперед.
Пиркс последовал за ним, пытаясь на ходу решить загадку, но ничего не придумал. Неужели они таскают на спине каждый литр воды, каждый баллон кислорода? Нет, это невозможно.
Теперь они шли быстрее. Над пропастью торчала последняя алюминиевая мачта. Темнота снова окутала их, и пришлось зажечь фонарики на шлемах; белые пятна света мерцали, перескакивали с одного каменного выступа на другой. Теперь они шли по карнизу, который иногда сужался до ширины двух ладоней. Они шли, как по канату, по совершенно плоской полке; ее шершавая поверхность служила хорошей опорой. Правда, хватило бы одного неверного шага, легкого головокружения.
«Почему бы нам не пойти в связке?» – подумал Пиркс, и в эту минуту световое пятно впереди замерло: Пнин остановился.
– Веревка, – сказал он.
Пнин подал конец веревки Пирксу, а тот, пропустив ее через специальный карабин, бросил дальше, Лангнеру. Пока они не двигались, Пиркс мог, прислонившись спиной к скале, посмотреть вниз.
Воронка кратера лежала перед ним как на ладони, черные лавовые ущелья казались сеточкой трещин, приземистый центральный конус отбрасывал длинную тень.
Где была ракета? Пиркс не мог ее обнаружить. Где дорога? Эти извилины, помеченные рядами алюминиевых мачт? Они тоже исчезли. Виднелось лишь пространство каменного цирка в ослепительно ярком блеске и в полосах черной тьмы, тянущихся от одной груды камней к другой; светлая каменная пыль, присыпавшая скалы, подчеркивала рельеф местности с гротескными группами кратеров, все уменьшавшихся; в одном лишь районе хребта Менделеева были, наверное, сотни кратеров разного диаметра – от полукилометровых до еле заметных; все они были идеально круглые, с пологим наружным скатом и более крутым внутренним, в центре у них располагалась горка либо небольшой конус, на худой конец – нечто наподобие пупка; самые маленькие были точной копией средних, средние ничем не отличались от больших, и все это находилось внутри огромного каменного кольца диаметром тридцать километров.
Соседство хаоса и точности раздражало человеческий разум; в этом созидании и разрушении форм по единому образцу математическое совершенство сочеталось с полнейшей анархией смерти. Пиркс посмотрел вверх, потом назад: сквозь Солнечные Ворота по-прежнему хлестали потоки белого огня.
Через несколько сотен шагов, за узкой расщелиной, скала отступила; они все еще шли в тени, но стало светлее от лучей, отражаемых вертикально торчащей каменной палицей, которая вырастала из мрака чуть ли не на два километра. Они перебрались через каменистую осыпь, и впереди открылся довольно пологий, ярко освещенный склон. Пиркс начинал ощущать странное одеревенение – не мускулов, а разума, наверное, оттого, что внимание было перенапряжено: ведь на него обрушилось все сразу – и Луна с ее дикими горами, и ледяная ночь вперемежку с приливами неподвижного зноя, и это великое всепоглощающее молчание, среди которого человеческий голос, время от времени звучащий в шлеме, кажется таким же неестественным и неуместным, как попытка донести на вершину Маттергорна золотую рыбку в аквариуме.
Пнин свернул за последний пик, отбрасывавший тень, и весь вспыхнул, будто облитый огнем. Тот же огонь брызнул в глаза Пирксу, прежде чем он сообразил, что это – солнце, что они выбрались на верхний, уцелевший участок дороги.
Теперь они быстро шагали рядом, опустив на шлемах сразу по два противосолнечных фильтра.
– Сейчас придем, – сказал Пнин.
По такой дороге, проделанной в скале управляемыми взрывами, действительно могли ездить машины. Она вела под навесом Орлиного Крыла на самую вершину кратера; там было нечто вроде седловины с естественно образовавшимся каменным котлом. Этот котел и помог наладить снабжение станции после катастрофы. Грузовая ракета привозила припасы, и специальное устройство, предварительно пристрелявшись по котлу, выстреливало контейнеры с грузом. Несколько контейнеров обычно раскалывалось, но большинство выдерживало и выстрел, и удар о скалу, потому что их бронированные корпуса отличались исключительной прочностью. Раньше, когда не было еще ни Луны Главной, ни вообще каких-либо станций, доставлять припасы экспедициям, углублявшимся в район Центрального Залива, можно было, лишь сбросив контейнер с ракеты; а поскольку парашюты были совершенно бесполезны, приходилось так конструировать эти дюралевые или стальные ящики, чтобы они выдержали самый сильный удар. Их сбрасывали словно бомбы, а участники экспедиции потом их собирали – иной раз для этого приходилось обыскивать квадратный километр пространства. Теперь эти контейнеры снова пригодились.

