
Пустошь. Первая мировая и рождение хоррора

У. Скотт Пулл
Пустошь. Первая мировая и рождение хоррора
Посвящается Бе
Разразилась война: и вот наступила мировая зима.
Уилфред Оуэн, «1914» (1914)Пустошь растет; горе тому, кто не видит пустошь в себе!
Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра» (1891); фраза была использована художником Отто Диксом в качестве эпиграфа к картине «Семь смертных грехов» (1933)Они ушли давно, и все, что мне дано, – Из мрака наблюдать за призрачным кино.
Зигфрид Сассун, «Сеанс» (1919)Перевод оригинального издания
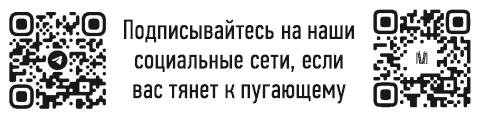
W. Scott Poole
Wasteland: The Great War and the Origins of Modern Horror
Печатается по специальному соглашению с Counterpoint Press, an imprint of Catapult, LLC in conjunction with their duly appointed agent 2 Seas Literary Agency and co-agent SAS Lester Literary Agency & Associates

© W. Scott Poole, 2018
© А. С. Яковлев, перевод на русский язык, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024
Предисловие
Трупы на руинах
Нет такого документа цивилизации, который не был бы в то же время документом варварства.
Вальтер БеньяминНаписанием истории, судя по всему, занимаются преимущественно обитатели руин. Такие руины, в прямом и переносном смысле, оставила после себя XX веку Великая война (1914–1918)[1], отравив зародившееся в XIX веке ощущение радости бытия разочарованием и горечью. Многовековая традиция сентиментального благоговения перед смертью на большей части Европы рухнула уже через несколько месяцев – настолько огромным было количество погибших. Война перекроила карту мира, создала новые могущественные державы и породила в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в России ряд проблем, которые до сих пор кажутся неразрешимыми, едва ли не апокалиптическими, и каждый день напоминают о себе в выпусках новостей.
В словах вольнодумца, интеллектуала и эссеиста Вальтера Беньямина, который в первой половине XX века скитался по разрушенной Европе, пока не нашел свою смерть, таится еще одна истина. За фасадом того, чем мы восхищаемся в нашей культуре – как высокой, так и «популярной», и даже той, которую Марк Дери называет «непопулярной культурой», – скрывается мир страданий. Все созданное цивилизацией вносило в культуру вирусный код варварства. В каждом фильме ужасов, в каждом рассказе в жанре хоррор, в каждой компьютерной игре этого жанра резвятся и щекочут нам нервы призраки Первой мировой войны, обитающие у самого порога нашего сознания. Картины несметного множества трупов и раненых на наших экранах – это свидетельства варварства, предоставленные современниками той войны и всеми, кто обращался к этой теме в дальнейшем.
Мир, существовавший до 1914 года, то есть чуть более 100 лет назад, был очень непохожим на сегодняшний. Это был мир дряхлых империй, кое-как доковылявших из Средневековья в современность, – Российской, Австрийской, Османской. Все они объединяли народы и языковые группы, не имевшие между собой ничего или почти ничего общего. После окончательного разгрома Наполеона в 1815 году многие коронованные особы полагали, что могучий джинн революции надежно запечатан в своем узилище. Кайзеры, императоры и короли вели кратковременные локальные войны, заключали династические брачные союзы и договоры для приобретения крохотных территорий. Воинственная Великобритания, сочетавшая конституционную монархию, масштабную промышленность, многочисленный средний класс и непревзойденную морскую мощь, управляла империей, простиравшейся от Карибского моря до Африки и Азии. Америка тогда казалась выскочкой с крохотной армией; ее территориальные притязания ограничивались Латинской Америкой и Тихим океаном, которые не так сильно привлекали внимание старых европейских держав.
Признаки близкого крушения этого мира множились. В числе причин, по которым политическая культура Европы не воспрепятствовала превращению Старого Света в пылающие руины, можно назвать неоднозначность этих признаков, невозможность просчитать все последствия. На Балканах непомерно возросшая национальная гордость сербов опиралась на частично мифологизированную историю. Бурно развивавшаяся экономика государств Западной Европы все больше зависела от рынков и сырья из колониальных владений, без которых им грозил экономический крах. В 1905 году Россия проиграла войну Японии, и вдруг обнаружилось, что на мировую арену выходит новая держава, представлявшая собой, несмотря на свою долгую и увлекательную историю, полнейшую загадку для большинства жителей Запада. К тому же Соединенные Штаты выиграли войну с одряхлевшей европейской державой – Испанией. Вооруженные столкновения, подобные короткой, но кровопролитной Крымской войне и затяжной Гражданской войне в США, показали, что новые технологии способны приводить к гибели десятков тысяч человек, калеча и травмируя целые поколения. Государства и империи играли целыми народами как шахматными фигурами, но хрупкий мир еще как-то поддерживался. Хитроумными усилиями старых европейских держав была создана сложная система взаимосвязанных альянсов, так что падение в пропасть одного увлекало туда всех остальных.
Конфликт начался летом 1914 года: Германия и Австро-Венгрия (Центральные державы) вступили в войну с Францией, Великобританией, Россией и Сербией (членами Антанты, или Союзниками). Это событие вызвало хищную радость у романтически настроенных людей. Далее мы увидим, что писатели, художники, актеры и первые кинорежиссеры поступали на службу в пехотные, артиллерийские и пулеметные подразделения. Многие европейцы (хотя, конечно, не все) относились к этой войне как к приключению – скорее всего, кратковременному, оживление которого развеет скучную рутину повседневности. Каждый надеялся вернуться домой героем. Темные тучи близкой войны казались им грозой, нарушившей однообразие жаркого сухого дня и несущей вместе с громом и молнией живительную влагу.
Однако всего через несколько кратких недель летний военно-патриотический угар сменился ужасом. На Западном фронте Германия прошлась катком по Бельгии. Немецкие войска стояли в 30 километрах от Парижа, и из 3 миллионов парижан покинул столицу как минимум каждый третий. Британские и французские войска дали немцам отпор в битве на Марне, но обе стороны понесли катастрофические потери. Всего за две недели боев погибли 15 000 британских солдат. На востоке царская Россия поначалу добилась некоторых успехов в боях с Австро-Венгрией и Германией, вторгшись в Восточную Пруссию. Но в августе в битве при Танненберге относительно небольшая немецкая группировка под командованием Пауля фон Гинденбурга и Эриха Людендорфа нанесла Российской империи поражение, от которого она так до конца и не оправилась. Боевые действия охватили и Восточную Европу: Болгария выступила на стороне Центральных держав, Сербия и Румыния – на стороне Антанты.
Во Франции к концу 1914 года немцы были отброшены и вынуждены перейти к обороне. Обе стороны принялись рыть хитроумные системы окопов, сооружать земляные укрепления, неуютные блиндажи и братские могилы. Нейтральная полоса – или «ничейная земля» – между позициями противников превращалась в выжженную местность, опутанную колючей проволокой, испещренную воронками и покрытую незахороненными, разлагающимися трупами. Солдаты обеих сторон, месяцами не сменявшиеся на передовой, жили в отвратительных условиях: зловоние, грязь, мрак, крысы и всевозможные паразиты. Артобстрелы – знак предстоящего наступления – могли продолжаться по несколько дней, расшатывая нервы обороняющимся. Ночь взрывалась ружейным огнем и грохотом пулемета максим, косившего ряды атакующих. Блиндажи, строившиеся в целях безопасности, превращались в могилу, как в рассказе Эдгара По «Заживо погребенные», где солдаты задыхаются под землей и обломками рухнувшего оборонительного сооружения.
Вид окопов ужасал тех, кто видел эту картину впервые. Член британского парламента и друг Уинстона Черчилля Валентайн Флеминг, побывав во Франции в конце 1914 года, рассказывал об «абсолютно неописуемых последствиях огня современной артиллерии, разрушительных не только для людей, животных и зданий в зоне поражения, но и для самого лика природы». Он описал пейзаж, «усеянный трупами людей и испещренный наспех вырытыми могилами», и воздух, который днем и ночью разрывал «отвратительный… непрекращающийся грохот, свист и рев снарядов всех типов и калибров», сопровождаемый «зловещими столбами дыма и пламени».
Такие места, как Ипрский выступ (вблизи бельгийского города Ипр), превратились в неузнаваемые руины; мертвые тела устилали «ничейную землю» на протяжении десятков километров. Эта бельгийская территория стала местом одного из самых ужасных кровопролитий; в период с 1914 по 1918 год здесь произошло не менее трех крупных сражений. Именно под Ипром в начале 1915 года Германия впервые применила отравляющие газы, и страны Антанты назвали это варварством и бесчеловечностью, обвинив немцев в нарушении правил цивилизованной войны. В течение нескольких месяцев обе стороны усовершенствовали этот вид оружия и начали использовать его почти на всех фронтах; жуткого вида противогаз, придающий человеку сходство с призраком, сделался такой же обычной принадлежностью солдатского снаряжения, как каска.
К 1915 году линии оборонительных сооружений протянулись от Северного моря до Швейцарии. Любые усилия по переходу в наступление приводили к десяткам тысяч погибших и сотням тысяч раненых. Некоторые солдаты совершенно утрачивали связь с реальностью, отрешенно бормотали что-то себе под нос, галлюцинировали и порой даже слепли на нервной почве. По мере того как окопы превращались в фабрики по производству трупов, изменялось само понятие «битва». До 1914 года короли и полководцы полагали битву средством добиться решающей победы в течение одного-двух дней. Вопреки ожиданиям, в битве при Вердене, ознаменовавшей начало немецкого наступления в феврале 1916 года, бои продолжались ежедневно до декабря и обернулись почти миллионом погибших. На некогда покрытой пышной зеленью местности даже сейчас, спустя 100 лет, видны увечья той войны.
Война быстро превратилась в мировую. К исходу второго года сражений Османская империя, государство со столь же древним политическим устройством, как и Австро-Венгрия, вступила в борьбу на стороне Германии и Габсбургов. Атака Союзников на турецкий порт Галлиполи в 1915 году обернулась настоящим кошмаром. Крупный армейский корпус, прибывший из Австралии и Новой Зеландии, окопался на побережье, но солдаты гибли десятками тысяч как от артиллерийско-пулеметного огня, так и от болезней. Противостояние, длившееся более восьми месяцев, окончилось ничем, если не считать почти 300 000 погибших.
В схватку вступила Италия в надежде отторгнуть сопредельные территории Австро-Венгрии. Вскоре к Антанте присоединилась и Япония, чтобы захватить германские колонии в Тихом океане. Сразу после начала войны британцы захватили в Африке немецкие колонии Тоголенд[2] и Камерун, расположенные к югу от Сахары. Немецкие войска вели партизанскую войну, которая, по всей видимости, стоила жизни большему числу мирных жителей Африки, чем британских солдат. На протяжении всей войны в Южной Африке бились солдаты регулярных британских и немецких частей.
В 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Антанты, а над Россией вскоре взошла красная звезда революции. Несмотря на то что большевистская революция в октябре 1917 года положила конец жестокому царскому самодержавию и вывела Россию из мировой войны, она в итоге привела к еще большему насилию в виде Гражданской войны (1917–1922), когда Антанта попыталась помочь сторонникам прежнего режима уничтожить революционное правительство. Новообразованный СССР взял курс на социализм; вскоре страну возглавил Иосиф Сталин.
В последнем столкновении с Центральными державами Антанту поддержали Соединенные Штаты, обладавшие неиссякаемым запасом солдат и боевой техники. Весной 1918 года Людендорф и Гинденбург предприняли массированное наступление под названиемKaiserschlacht («Кайзершлахт» – «Битва кайзера»), задуманное как широкомасштабная операция с целью разбить Союзников во Франции до того, как американские войска ступят на землю Европы. И вновь немцам оставалось дойти всего несколько десятков километров до охваченного паникой Парижа, но злобный дух Великой войны опять остановил немецкое наступление, обратив триумфальный марш в мешанину грязи, крови и выпущенных внутренностей. С прибытием на фронт американских войск немцы утратили надежду на быструю победу во Франции, и Антанта начала оттеснять их к прежним границам. Пришло время для прекращения огня, соглашение о котором было подписано 11 ноября 1918 года. Однако продовольственная блокада Германии Союзниками продолжалась, что позволило превратить перемирие в унизительный для немцев мирный Версальский договор, заключенный в июне 1919 года. Чудовище вернулось в свой шкаф и затаилось в ожидании.
Ни одна война еще не приводила к такому количеству трупов. Только в первый день битвы на Сомме в 1916 году погибли 20 000 британских солдат. Историк Мартин Гилберт отмечает, что в дальнейшем, с августа 1914 по ноябрь 1918 года, столько же людей погибало в среднем каждые четыре дня. В общей сложности жертвами Первой мировой войны стали 40 миллионов человек, половина из которых – военнослужащие, а остальные – просто мирные жители, гулявшие по улицам, ухаживавшие за скотом, растившие детей и пытавшиеся жить своей жизнью.
После такого кровопускания мир не мог остаться прежним. В одной только Великобритании к 1922 году правительство назначило пенсии 50 000 ветеранов, получивших боевые психические расстройства. Правительство с осторожностью относилось к постановке такого диагноза, поскольку, как мы увидим далее, правильность самого термина подвергалась сомнению. Подлинное число ветеранов и гражданских лиц по всему миру, которые страдали от невыносимых ночных страхов, сильного психического возбуждения и даже галлюцинаций, возвращавших их в Верден, на Сомму или под Ипр, подсчитать невозможно.
Как невозможно и отделить историческое от ужасного. Наши монстры порождаются историческими событиями. Перефразируя французского режиссера Жоржа Франжю, снявшего в 1960 году фильм ужасов «Глаза без лица», можно сказать, что открывать для себя историю – все равно что быть обезглавленным, причем так, что голову тебе не отрубают, а медленно откручивают1.
Что же представляет собой ужас? Страх перед темнотой и мертвецами, которые могут вернуться под ее покровом, возможно, преследовал человеческое сознание с момента его зарождения. Погребальный обряд предшествует письменной истории; этот акт явно был попыткой задобрить покойника, чтобы тот не совершил нежелательного возвращения с того света. Корни религии как таковой, вероятно, кроются в самом этом позыве, а преподнесение даров умершим представляет собой первый ритуал.
На самом деле многое из того, что мы полагаем «естественной человеческой жизнью», может проистекать из ужаса перед смертью и мертвецами. Даже сексуальное влечение и сопутствующие ему постоянно меняющиеся представления о ролях полов могут быть связаны со страхом смерти. Стремление давать жизнь себе подобным может быть связано с невротической фантазией обмануть смерть путем продления собственной жизни в потомстве. Вы можете проверить изначальную силу этой культурной идеи, отметив, что никто не ставит под сомнение рациональность воспроизводства жизни даже в мире быстро истощающихся ресурсов. В то же время люди, предпочитающие не заводить детей, часто становятся объектом как религиозного, так и светского презрения и воспринимаются как эгоисты, нарушители негласного общественного договора или просто чудаки.
Означает ли движущий нами страх смерти, что ужас всегда был нашим темным спутником, универсальным человеческим переживанием, для которого наскальные рисунки и киноэкраны – просто разные средства передачи одного и того же жуткого содержания? Это не совсем так. Идея смерти и разрушения как развлечения, даже чего-то такого, на чем можно построить свой образ жизни, впервые появляется в XVIII веке в таких романах как «Замок Отранто» Горация Уолпола (1764) и «Монах» Мэтью Льюиса (1796). Этот стиль получил название готического, так как интерес к руинам и замкам ассоциируется с готическим стилем архитектуры Средневековья.
Привычный нам современный термин «готичный», используемый для описания множества вещей, начиная с направления в музыке и заканчивая черным лаком для ногтей, безусловно, происходит от названия приверженцев «готического» стиля XVIII века. Богачи того времени могли в полной мере предаваться этому новому увлечению, превращая свои поместья в подобия средневековых усадеб и заставляя слуг, вдобавок ко всем прочим унижениям, появляться на вечеринках в рясах, придававших им сходство с персонажами, которых литературовед Клайв Блум называет «монахами-вампирами». Нельзя сказать, что данное увлечение было широко распространено, поскольку романы, использующие саспенс[3] и послужившие источником такого поветрия, были кое-где прокляты или запрещены, да и мало у кого имелось подходящее поместье, деньги и слуги, чтобы поиграть в «дом с привидениями»2.
Жанру хоррор в его нынешнем понимании еще предстояло возникнуть. Слово уже существовало, и история у него была под стать жанру. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «ужас» (horror) появилось в XIV веке как синоним слова «грубый» или «неотесанный». Через несколько веков этот термин приобрел оттенок чего-то крайне грубого, то есть грязного, убогого и вульгарного до содрогания.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
В дальнейшем в большинстве случаев используется принятый в отечественной историографии термин «Первая мировая война». –Прим. пер.
2
Тоголенд находился на территории современных государств Того и Гана. –Прим. изд.
3
Саспенс – набор художественных приемов, используемых для погружения читателя в продолжительное тревожное состояние и напряжение. –Прим. ред.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов