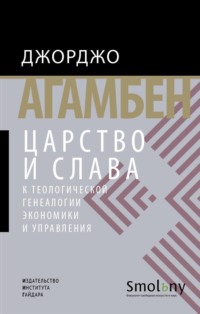
Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления
Cлова «в тебе Бог» выражают тайну экономики – а именно, что Слово воплотилось и вочеловечилось, что Отец пребывал в Сыне, а Сын пребывал в Отце и что сын разделил с людьми град человеческий. Вот что необходимо понять, братья мои: что воистину это Слово было тайной экономики от Святого Духа и Девы Марии – тайной, которую Сын привел к свершению [apergasamenos] во имя Отца [Ibid. 810].
Если у Павла экономика означала деятельность, призванную раскрыть или исполнить тайну воли или слова Божьего (Кол. 1:24–25; Эф. 3:9), то теперь сама эта деятельность, воплощенная в фигуре Сына-Слова, становится тайной. Здесь также основное значение ойкономии, как явствует из последнего предложения второго отрывка (сын исполняет, приводит к свершению экономику отца), остается неизменным; но значение «плана, сокрытого в Боге», который был возможной, хотя и неточной парафразой термина mystērion, тяготеет здесь к тому, чтобы сместиться в сторону самого термина oikonomia, придав ему новую глубину. Здесь больше нет экономики тайны, то есть деятельности, направленной на исполнение и откровение божественной тайны; но таинственна сама «pragmateia», божественный праксис сам по себе.
Таким образом, упомянутая в последнем отрывке ойкономия, буквально воспроизводя стилему Тациана, стремится отождествиться с гармоничным слиянием тройного божественного действия в единую «симфонию»:
Эту экономику нам передал преподобный Иоанн, освидетельствовав ее в своем евангелие; он утверждает, что это слово есть Бог, в следующих выражениях: «В начале было Слово, и Слово было у Бога». Если Слово было у Бога, и Слово было Бог, что же из этого? Неужели Иоанн утверждает существование двух богов? Я не говорю, что богов двое: я говорю, что бог один, но лиц двое, а третий – святой дух. Отец распоряжается, Слово исполняет и проявляется в сыне, с помощью которого отец получает веру. Экономика гармонии [oikonomiai symphōnias] приводит к единому Богу. [PG, 10, 822]
Вследствие дальнейшего развития изначально риторического значения термина как «упорядоченного расположения» экономика теперь представляет собой деятельность – и как таковая она в самом деле таинственна, – которая разветвляет божественное бытие на три ипостаси и в то же время сохраняет и «гармонично преобразует» его в некое единство.
ℵ Значение, которое имело в создании экономико-тринитарной парадигмы перевертывание Павлова выражения «экономика тайны» в «тайну экономики», подтверждается упорством, с которым последнее навязывает себя в качестве канонического толкования текста Павла. Так, уже у Феодорита Кирского (первая половина V века) мы встречаем утверждение, будто Павел в своем Послании к Римлянам раскрыл «тайну экономики и обосновал причину воплощения» (Theodoret. Paul. Ep. Rom., 5, II, PG, 82, 97).
2.11. Именно в писаниях Тертуллиана принято видеть поворотный момент, когда ойкономия начинает однозначно толковаться как исхождение лиц в божестве; однако от Тертуллиана – манеру которого Жильсон назвал «антифилософской» и даже «упрощенческой» – не приходится ждать ни строгости аргументации, ни терминологической точности.
Ойкономия – как и ее латинские эквиваленты dispensatio и dispositio – скорее диспозитив, посредством которого в своей полемике с «беспокойным» и «крайне развращенным» Праксеем он пытается противостоять невозможности философской аргументации в обосновании тринитарного учения. Так, он начинает с того, что инструментализирует термин и в то же время наделяет его некоей таинственностью, оставляя в тексте его греческий вариант:
Мы же всегда, а теперь особенно […] верим в Единого Бога, при сохранении того распределения, которое мы называем ойкономией [sub hac tamen dispensatione quam «oikonomian» dicimus]: в соответствии с ним у Единого Бога есть Сын, Его Слово, которое произошло от него… [Tert. Adv. Prax., 2, 1. Р. 17].
В последующем рассуждении придание термину технического характера направлено на нейтрализацию «монархической» аргументации противника:
Латиняне непрестанно повторяют слово «монархия», но ойкономию не хотят понять даже сами греки [«oikonomian» intellegere nolunt etiam Graeci]. [Ibid., 3, 2. Р. 21.]
Но ключевым жестом, как и в случае Ипполита, является инверсия использованного Павлом выражения «тайна экономики» в oikonomias sacramentum: в результате этой инверсии «экономика» наделяется всем тем семантическим богатством и двойственностью, которые могут быть присущи термину, одновременно означающему клятву, священнодействие и тайну:
Как будто невозможно, чтобы Бог, будучи единым, был во всем, ибо все происходит от Одного через единство сущности, и чтобы при этом сохранялось таинство домостроительства[56], которое располагает Единицу в Троицу [oikonomias sacramentum quae unitatem in trinitatem disponit], производя триаду из Отца, Сына и Святого Духа – и трех не по положению [statu], но по степени [gradu], не по сущности [substantia], но по форме [forma], не по могуществу [potestate], но по виду [specie]… [Ibid., 2, 4. Р. 19.]
Колпинг показал, что Тертуллиан не выдумал новое, «христианское» значение слова sacramentum: судя по всему, он обнаружил этот термин в латинских переводах Нового Завета, которые были распространены в его время (в особенности Послания к Ефесянам; Kolping. P. 97). Тем более значимыми представляются преобразование Павлова выражения в загадочную формулу oikonomiae sacramentum и сопутствующая ему попытка прояснить эту формулу через серию оппозиций «положение/степень», «сущность/форма», «могущество/вид» (точно так же Ипполит прибегал к оппозиции dynamis/oikonomia). Антифилософ Тертуллиан не без опаски заимствует терминологию из философского лексикона своего времени: учение о единой природе, которая членится и разветвляется на разные уровни, есть учение стоическое (см. Pohlenz 1. Р. 457), как стоической является идея различения, которое не разделяет на «части», но различает силы и энергии (Тертуллиан открыто обращается к ней в трактате «De anima»; ср. Pohlenz, I. Р. 458).
Разница между сущностным разделением и экономическим различением вновь оговаривается в 19, 8 (Р. 99):
Отец и Сын – это два Лица; но их двое не вследствие разделения сущности, а благодаря экономическому расположению [non ex separatione substantiae sed ex dispositione], когда мы провозглашаем Сына неразделенным и неотделимым от Отца – не по положению, но по степени [nec statu sed gradu alium].
Здесь «сущность» (substantia) следует понимать в том смысле, в котором употребляет этот термин Марк Аврелий (12, 30, 1): есть единая общая усия, которая уникальным образом разветвляется на бесчисленные индивидуальности, каждая из которых обладает своими особыми качественными характеристиками. Так или иначе, наиболее значимо то, что у Тертуллиана экономика толкуется не как сущностная разнородность, но как членение единой реальности, будь то в руководственно-управленческом аспекте или же в риторико-прагматическом плане. Таким образом, разнородность относится не к бытию или к онтологии, а к действию и праксису. Согласно парадигме, которая ключевым образом повлияла на все христианское богословие, Троица представляет собой разделенность не бытия Бога, а Его действия.
2.12. Стратегический смысл ойкономической парадигмы проясняется в пространном отрывке главы 3, где экономике возвращается ее исконное значение «управление домом». Политико-правовое определение понятия «администрирование» всегда было проблематичным для историков права и политической мысли, обнаруживших его истоки в каноническом праве XII–XIV веков, когда термин administratio приближается к iurisdictio в терминологии канонистов (Napoli. P. 145–146). Отрывок Тертуллиана представляет интерес в этом отношении, поскольку он содержит своего рода теологическую парадигму управления, которая обретает свой идеальный exemplum в ангельских иерархиях:
Эти простецы, чтобы не сказать невежды и глупцы, которые всегда составляют большую часть верующих, исходя из того, что само правило веры [ipsa regula fidei] привело нас от множества мировых богов к Единому и Истинному Богу, не понимают того, что следует верить в Единого Бога – но вместе с Его домостроительством, и боятся этого домостроительства, ибо полагают, что оно означает множество, а расположение [dispositio] Троицы считают разделением Единства, тогда как на самом деле Единство, производя из Самого Себя Троицу, не разрушается ею, но сохраняется[57] [non destruatur ab illa sed administretur]. [Tert. Adv. Prax., 3, I. Р. 19–21.]
Так вот, соединение экономики и монархии в фигуре управления оказывается главной ставкой в проводимой Тертуллианом аргументации:
Латиняне непрестанно повторяют слово «монархия», но ойкономию не хотят понять даже сами греки. Я же, имея кое-какое представление об обоих языках, знаю, что монархия означает не что иное, как единственную и единую власть [singulare et unicum imperium]. Но таковая монархия, как принадлежащая кому-то одному, не препятствует тому, кому она принадлежит, иметь сына или самого себя себе сделать сыном, или вершить свою монархическую власть через тех, кого он хочет. И я скажу, что нет такого господства, которое до такой степени принадлежало бы одному и было бы до такой степени единственно – словом, было бы такой монархией, что не могло бы управляться также и через других, ближайших к монарху лиц, которых он сам избрал своими функционерами [officiales]. И если бы у того, кому принадлежит монархия, был сын, то от этого она не разделилась бы и не перестала быть монархией лишь на том основании, что ее участником сделался также сын. В самом деле, она все равно по преимуществу принадлежит тому, от кого сообщается сыну. И поскольку она принадлежит ему, постольку и является монархией, которая содержится двумя связанными друг с другом лицами. Следовательно, и Божественная Монархия, даже если она управляется посредством Ангельских легионов и воинств, – как написано: Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним (Дан. 7:10), – не перестает принадлежать Одному и не перестает быть Монархией, хотя и управляется через столь великое множество Сил. Как же так может статься, что Бог в Сыне и в Святом Духе, получивших второе и третье место как соучастники сущности Отца, претерпевает разделение и рассеяние, которых Он не испытывает в столь великом числе Ангелов, настолько чуждых сущности Отца? Неужели ты полагаешь, что те, кто суть члены, залоги, органы, сама сила и все богатство монархии, искажают ее [membra et pignora et instrumenta et ipsam vim ac totum censum monarchiae eversionem deputas eius]? [Ibid., 3, 2–5. Р. 21–23.]
Остановимся подробнее на этом удивительном фрагменте. Прежде всего, ангелология привлечена здесь в качестве теологической парадигмы управления: тем самым почти кафкианским жестом здесь устанавливается соответствие между ангелами и функционерами. Тертуллиан заимствовал этот образ у Афинагора (по своему обыкновению, не указывая источника); но если у афинского апологета и философа на первый план выдвигались порядок и экономика вселенной, то Тертуллиан использует эту фигуру для того, чтобы показать необходимость соединения монархии и экономики. Не менее важным представляется то, что, утверждая единосущность монархии и экономики, он, не уточняя источника, использует аристотелевский мотив. В начале трактата об экономике, приписываемого Аристотелю, действительно утверждается тождество между экономикой и монархией: «Политика есть полиархия, экономика – монархия» [hē oikonomikē de monarchia] (Aristot. Oec. I, 1343a). Антифилософ Тертуллиан совершает характерный для него жест, заимствуя у философской традиции установленную ею связь между экономикой и монархией: он переворачивает эту связь, развивая ее до идеи божественной монархии, которая включает в себя как составляющую ее часть экономику – аппарат управления, посредством которого формулируется и в то же время раскрывается ее тайна.
Аристотелевское отождествление монархии и экономики, широко проникшее также и в Стою, является, безусловно, одним из более или менее осознанных мотивов, побудивших Святых Отцов разработать тринитарную парадигму в экономических, а не политических терминах. Это позволяет Тертуллиану говорить о том, что экономика ни в коем случае не может повлечь за собой eversio[58]: прежде всего потому, что, согласно аристотелевской парадигме, oikos так или иначе по своей сути остается «монархической» структурой. Однако определяющим является то, что тринитарное членение понимается здесь как функция деятельности домашнего управления, через которую оно всецело осуществляется, не приводя к расколу на уровне бытия. В данном отношении Святой Дух может быть определен как «проповедник единой монархии» и в то же время как «толкователь экономики», то есть «выразитель всякой истины […] согласно христианской тайне [oekonomiae interpretatorem… et deductorem omnis veritatis… secundum Christianum sacramentum]» (Tert. Adv. Prax., 30, 5. Р. 157). Опять же, «тайна экономики», толкуемая теми, кто ее олицетворяет и является ее исполнителем, имеет практическую, а не онтологическую природу.
ℵ Если до сих пор мы в основном делали упор на христологическом аспекте экономики, то это связано с тем, что проблема третьего Лица Троицы и его отношений с другими двумя Лицами обрела полноправное звучание лишь в IV веке. Показателен в этом плане тот факт, что Григорий Назианзин, посвятив 29-ю и 30-ю речи[59] проблеме Сына, счел необходимым добавить еще одну речь, рассматривающую эту божественную фигуру, которая почти не упоминается (agraphon) в Писаниях и разговор о которой «затруднительно вести» (dyscheres) (Greg. Naz. Or. XXXI, I–2. Р. 746). Ключевой с точки зрения тринитарной экономики является проблема, на которой мы здесь не можем задерживаться, – проблема «исхождения» (ekporeusis) третьего Лица от других двух[60].
2.13. Не раз отмечалось, что категории времени и истории обретают в христианстве специфическое и вместе с тем определяющее значение. Христианство считается «исторической религией» не только потому, что оно основывается на существовании исторической личности (Христа) и на событиях, претендующих на историчность (страсти и воскресение Христово), но и потому, что оно наделило время сотериологическим значением и смыслом. И именно в этой связи – то есть потому, что оно толкует самое себя в качестве исторической перспективы, – христианство с самых своих истоков несет в себе «философию» или даже «теологию истории» (Puech. Р. 35).
При этом важно отметить, что христианское представление об истории возникает и развивается под знаком экономической парадигмы и становится неотделимым от нее. Поэтому осмысление христианской теологии истории не может ограничиться, как это обыкновенно бывает, общим упоминанием идеи ойкономии как синонима провиденциального развития истории согласно эсхатологическому замыслу; оно скорее должно основываться на рассмотрении конкретных способов, посредством которых «тайна экономики» в буквальном смысле сформировала и всецело предопределила исторический опыт, в поле которого мы еще по большей части пребываем.
Особенно отчетливо эта фундаментальная связь между ойкономией и историей прослеживается у Оригена – автора, который в своих трудах широко разрабатывает термин ойкономия. Когда история в современном смысле слова – то есть понимаемая как процесс, наделенный определенным, хоть и скрытым смыслом, – впервые являет себя, это как раз происходит в форме «таинственной экономики», которая как таковая требует истолкования и осмысления. В сочинении «De principiis»[61] по поводу таких загадочных эпизодов еврейской истории, как кровосмесительная связь между Лотом и его дочерьми или двоеженство Иакова, Ориген пишет:
Все, даже самые простые из последователей Слова, веруют, что божественное Писание указывает какие-то таинственные распоряжения[62] [oikonomiai tines… mystikai]; но что это за распоряжения, благоразумные и скромные люди сознаются, что не знают этого. Так, если кто-нибудь выразит недоумение касательно кровосмешения Лота с дочерьми, или двух сестер, вышедших замуж за Иакова, и двух рабынь, родивших от него детей, то они скажут, что это – тайны, которых мы не можем ведать [Orig. Princ. 4, 2, 2. Р. 303].
Христианское представление об истории есть результат стратегического объединения этой доктрины о «таинственных экономиках» (в другом месте Ориген говорит о «скрытом и апокрифическом характере экономики [tēs de oikonomias autou to lelēthos kai apokryphon]») и практики толкования Писания.
Ориген также пишет в своем сочинении: «Через истории [dia historias] […] о битвах, о побежденных и победителях некоторые тайны раскрываются тем, кто умеет их лицезреть» (Orig. Princ. 4, 2, 8. Р. 333–334). Итак, задачей просвещенного христианина становится умение «истолковывать историю [historian allēgorēsai]» (Orig. Phil. I, 29. Р. 212) таким образом, чтобы размышления о событиях, о которых повествуют писания, не становились «источником заблуждений [planasthai] для неподготовленных душ» (Ibid. P. 214).
Если, в отличие от представлений классической историографии, для нас история обладает смыслом и направлением, которые историк должен уметь распознать, – если история представляет собой не просто series temporum[63], но нечто, подразумевающее некую цель и назначение, то это в первую очередь вызвано тем, что наше представление об истории сформировано под воздействием теологической парадигмы откровения «тайны», которая одновременно является «экономикой», устроением и «распределением» божественной и человеческой жизни. Прочитывать историю означает разгадывать тайну, которая касается нас напрямую; но эта тайна не имеет ничего общего с языческим фатумом или стоической необходимостью: она связана с некоей «экономикой», которая свободно управляет творениями и событиями, оставляя за ними их контингентный характер и даже предоставляя им свободу воли и побуждений:
Мы думаем, что Отец всего, Бог, для блага всех Своих тварей, неизреченным разумом Своего Слова и Премудрости так управляет [глагол «dispensasse»[64], по всей вероятности, является переводом формы глагола oikonomein] этими различными существами, что все отдельные духи или души – словом, все разумные субстанции, как бы мы их ни назвали, не принуждаются силою делать, вопреки своей свободе, то, что не согласно с их собственными побуждениями […]. При этом различные движения их воли искусно направляются к гармонии и пользе единого мира. [Orig. Princ., 2, I, 2. Р. 236.]
Христианская история утверждает себя в противовес фатуму как свободное действо; тем не менее, поскольку эта свобода соответствует божественному замыслу и осуществляет его, она сама по себе является тайной. Эта «тайна свободы» есть не что иное, как обратная сторона «тайны экономики».
ℵ Связь, которую христианская теология устанавливает между ойкономией и историей, принципиально важна для понимания философии истории на Западе. В частности, можно утверждать, что концепция истории в немецком идеализме от Гегеля и Шеллинга до Фейербаха есть не что иное, как попытка помыслить «экономическую» связь между процессом божественного откровения и историей (в терминологии упомянутого нами Шеллинга – «сопринадлежность» теологии и ойкономии). Любопытно, что, когда левые гегельянцы порывают с этой теологической концепцией, им удается это сделать, лишь поместив в центр исторического процесса экономику в современном значении, то есть как историческое самовоспроизведение человека. В этом смысле они подменили божественную экономику экономикой чисто человеческой.
2.14. Становление понятия ойкономии, последствия которого кардинальным образом скажутся на культуре Средневековья и Нового времени, происходит в плоскости его сближения с темой провидения. В этом направлении его разрабатывает Климент Александрийский, чье творчество, возможно, является самым оригинальным вкладом в становление теолого-экономической парадигмы. В «Изречениях из Феодота» Климент, как мы видели, несколько раз употребляет термин ойкономия в отношении последователей Валентина; но и в центральном его сочинении «Строматы» этот термин появляется очень часто, притом во всем разнообразии своих возможных значений (всего около шестидесяти раз, согласно указателю Штелина). Климент особенно подчеркивает, что ойкономия относится не только к управлению домом, но и к управлению самой души (Clem. Str., II, 22, 17), и что не только душа, но и весь мир зиждется на «экономике» (ibid., II, 225, 7). Существует даже «экономика молока» (oikonomia tou galaktos), в силу которой грудь роженицы наполняется молоком (162, 21). Но самое главное – есть «экономика спасителя» (такое сочетание вполне характерно для Климента: hē peri ton sōtēra oikonomia: 34, 8; oikonomia sōteriou: 455, 18; 398, 2), которая была провозвещена и которая исполнилась через страсти Сына. Именно в перспективе этой «экономики спасителя» (спасителя, а не спасения: исконное значение «действия, поручения» здесь еще сохраняется) Климент связывает воедино экономику и провидение (pronoia). В «Протрептике» он называл «пустыми баснями» (mythoi kenoi) предания язычников (Clem. Protr., I, 2, I); здесь же он выносит свое окончательное суждение: «…философия, которая следует божественной традиции, предполагает и утверждает провидение: если исключить провидение [(tēs pronoias) anairetheisēs], экономика, связанная с фигурой спасителя, покажется всего лишь сказкой [mythos… phainetai]» (Clem. Str., II, 34, 8).
Стремление предотвратить любую возможность толкования «экономики спасителя» как мифа или аллегории у Климента неизбывно. Если кто-то, по его словам, утверждает, что Сын Божий, Сын Создателя вселенной, воплотился и был зачат во чреве девы, если рассказывает о том, как возникла «его скудная зримая плоть», как он претерпел страсти и воскрес, – все это «представится аллегорией [parabolē] тому, кто не ведает правды» (Ibid. 469, 3). Лишь идея провидения способна придать правдивости и значимости тому, что кажется мифом или выдумкой: «Поскольку провидение существует, нечестиво полагать, будто пророчества и домостроительство вокруг спасителя не произведены согласно провидению» (329, 13).
Без осмысления теснейшей связи между ойкономией и провидением невозможно осознать степень новизны, которую несет в себе христианская теология в сравнении с мифологией и «теологией» языческой. Христианская теология не есть «рассказ о богах»; она сама непосредственно является экономикой и провидением, то есть действием самооткровения, управлением и устроением мира. Божество членится в троице, но это не есть ни «теогония», ни «мифология», но ойкономия, то есть одновременно членение и организация божественной жизни и управление творениями.
Это обусловливает специфику христианского представления о провидении. Понятие pronoia было широко распространено в языческом мире благодаря стоической философии; говоря о том, что «домостроительство тварного мира прекрасно [ktistheisa… oikonomia]: все разумно устроено, ничего не происходит без причины», Климент лишь озвучивает одну из идей, распространенных в александрийской культурной среде его времени. Но, поскольку стоическая и иудаистская тема пронойи соединяется здесь с экономикой божественной жизни, провидение обретает индивидуальный и преднамеренный характер. Выступая против стоиков и Александра Афродисийского, которые утверждали, что «сущность богов – в провидении подобно тому, как сущность огня – в тепле», Климент полностью лишает провидение всякого характера естественности и непроизвольности:
Бог не является неким невольным благом – как, например, огонь, который просто греет: он дарует благо добровольно […]. Он не творит благо по необходимости, но благодетельствует в силу свободного выбора. [III, 32, I.]
Свобода или фатализм; опосредованный или прямой, общий или частный характер провидения: эти споры, разделившие, как мы увидим, теологов и философов в период с XIII по XVII столетие, обнаруживают здесь свой архетип.
Связуя воедино экономику и провидение, Климент не только, как было замечено (Torrance. P. 227), укореняет в вечности («в вечных деяниях и словах», Clem. Str. II, 493, 18) временную экономику спасения, но также кладет начало процессу, который приведет к прогрессивному утверждению дуализма экономики и теологии, Божественной природы и исторического действия. Провидение означает, что этот разрыв, который в христианской теологии соответствует гностическому дуализму праздного Бога и деятельного демиурга, является – или же, по крайней мере, провозглашается – мнимым. Экономико-управленческая парадигма и парадигма провиденциальная обнаруживают здесь свою сущностную сопринадлежность друг другу.