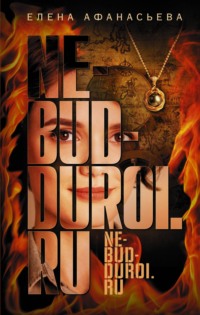
Ne-bud-duroi.ru
Куда бы он ни плыл, оказывалось, что он только уплывал от лучшего друга… И от самого себя.
Куда плывешь, капитан Магальянш…
И все же, если бы не Васко, его душа так бы и осталась отданной небу.
Море сманило. Но небо, навечно растворившись в крови, помогло найти свой главный путь – путь вокруг земли. Там, в мореходной школе в Сагрише, впервые взяв в руки астролябию, Фернандо вспомнил, как видел сие загадочное колесо у старика-звездочета. Две бездны – звезды и море – еще раз слились в одной точке. Точнее, в двух.
Уже в Испании с новым другом, астрономом Руи Фальерой, он, Фернандо, много дней провел в расчетах небесных и морских путей. Благодарение Господу, это помогло убедить короля, что по небу, по звездам можно найти новый paso – пролив меж океанами и проложить новый, западный путь в Индию.
Вместе с Фальерой они приехали в замок, ко двору юного Карла V. И еще по дороге, увидев похожий на огромный корабль королевский замок, Фернандо почувствовал – все получится!
Получилось. Чуть выпятив вперед нижнюю губу, отличительный знак всех Габсбургов, и почесывая тяжелый подбородок, Карл подписал указ – снарядить экспедицию за владычеством и пряностями. Но в первую очередь все же за пряностями. Вам надлежит действовать успешно, дабы открыть ту часть океана, коя заключена в отведенных нам пределах…
– Его величеству нужен весь мир, – говорил Магальянш.
– Его величеству нужны имбирь и корица, – возражал его тесть Диего Барбоса. – Даже если из запрашиваемых тобой пяти каравелл вернется одна, но полная пряностей, ее хватит, чтобы окупить всю экспедицию и изрядно заработать. А мировое владычество – это уже в придачу…
Фальеру не поплыл с ним, отказался.
– Я составил гороскоп. Нам не вернуться из этого плавания, Фернандо.
…Слабый стук в дверь его командорской каюты показался грохотом.
– Земля, Господин.
Смысл слов не сразу дошел до него. Энрике-Трантробан произнес это таким тоном, как недавно, подавая крыс, говорил «Еда, Господин». Желанное слово было похоже на галлюцинацию истощенного сознания…
– Что? Что ты сказал?!
– Земля, Господин. Остров…
Земля.
На всех трех кораблях все, кто мог еще двигаться, сбивались к правому борту – Земля.
Ад отступает. Земля…
Но…
Земля, показавшаяся после трех месяцев и двадцати двух дней их бесконечного океанского странствования, была пустынной – она сама казалась новым адом, скалистым адом бесплодия. Первый открытый им остров не мог дать ничего, кроме наследственного титула adelantado – наместника. Ни грамма съестного на голых скалах. Даровав надежду, судьба отняла ее еще более безжалостно.
И на следующих островах, названных после набега туземцев Ладронес – «Разбойничьими», удалось отыскать лишь несколько птиц и гору плодов. Но надолго ли трем изголодавшимся кораблям хватит того, что уместилось на двух небольших шлюпках.
За считаные часы от съестного остались лишь воспоминание да странные колючки, брошенные на палубе «Тринидада». Еще через несколько дней пути толстая скорлупа колючек стала растрескиваться, источая тошнотворный запах. У ночного горшка звездочета, объевшегося привезенной из Индии новинкой – табаком, запах был и то терпимее, чем этот («Кто ж знал, что эту странную траву надо раскуривать, а не есть?!»).
– Это воняет так, что даже крысиная моча покажется изысканным вином, – заметил Дуарте Барбоса, брат Беатрисы, которого по его горячему желанию и с тягостного разрешения тестя Фернандо взял с собой в экспедицию.
Странные, напоминающие неподвижных ежей плоды валялись в углу.
– За борт их, командор. На «Тринидаде» и без этой туземской нечисти вони хватает, – сказал Дуарте.
– За борт! – произнес Фернандо. Но Энрике-Трантробан робко тронул его за рукав.
– Еда, Господин.
– Для тебя и крыса – еда, – огрызнулся Магальянш.
Он был зол. Поманив добром, судьба снова бросила его в бездну отчаяния. Что делать, если и Разбойничьи острова случайны, если этот океан бесконечен и настоящей земли не будет еще столько же бесконечных месяцев.
– Еда, Господин, – повторил Энрике-Трантробан. – Дуриан.
Не обращая внимания на мерзкую вонь, слуга пальцами поддел внутри треснувшего плода кусок мякоти и засунул в рот. На лице Энрике появилось выражение блаженства, подобное тому, с которым он вспоминал груди толстой кухарки. Забыв о царапающих руку колючках, он снова и снова нырял пальцами в расселину плода, вытаскивая и отправляя в рот новые куски сочной мякоти. Облизывая пересохшие губы, моряки поглядывали на него, не рискуя последовать его примеру. Слишком уж непереносимым для европейского нюха казался запах этих чудищ.
– Дай попробовать твоей еды! – решившись, приказал Фернандо. Слуга засуетился, сбегал за серебряным блюдом, на котором в лучшие времена подавал обед своему «Господин», достал из кучи новый плод, руками раздвинул чуть надтреснутую расселину, выложил мякоть на блюдо.
Поддев оставленный Энрике кусочек и зажмурившись, Фернандо отправил его в рот. И райское блаженство разлилось внутри. Для командора, такого же изголодавшегося, как и последний каторжник, принятый им в Севилье на корабль, нежнейшая мякоть была подобна божественному нектару.
– Бог сокрыл райский вкус за тлетворным ароматом, дабы недостойный не познал его.
– Виктория! – донеслось с разных сторон.
И расталкивая друг друга, команда кинулась к воняющим колючкам, чтобы хоть ненадолго обмануть голод и жажду.
Но долго радоваться столь редкой ныне картине людского насыщения Фернандо не дали.
– Командор, – окликнул Барбоса, собирающийся отплывать на свой «Консепсион», – у Элькано цинга. Он говорит, что хотел бы просить у вас прощения за то… За участие…
Произнести слово «мятеж» Барбоса не рискнул.
Десны Элькано кровоточили. Прикрывая рот тем, что осталось от тончайшего платка, он с трудом приподнялся на подстилке.
– Командор…
От молодого красавца Хуана Себастиана, которого, набирая экипаж, Фернандо впервые увидел в Севилье, не осталось и следа. Магальянш своим не менее износившимся платком оттер пот со лба больного.
– Давно хотел спросить, откуда ты так сведущ в навигации, Себастиан?
– У меня был собственный корабль, – прошептал Элькано.
– О-о! – вырвалось у стоявшего за спиной Фернандо Энрике-Трантробана. Под резким взглядом командора вопль смолк, но и слуга и господин думали в тот момент об одном – владельцы кораблей просто так кормчими на чужие каравеллы не нанимаются.
– После осады Триполи казначейство отказало мне в выплате суммы, назначавшейся для расчета с экипажем. Я был вынужден занять денег у савойских купцов. А когда по истечении срока не смог с ними расплатиться, пришлось отдать в уплату долга свой корабль.
Энрике-Трантробан теперь молчал, но выражение ужаса застыло на его лице. За годы португальской и испанской жизни недавний абориген усвоил, что продажа корабля чужестранцу считается преступлением наитягчайшим. Суд, которому доводится рассматривать подобное дело, не принимает никакие оправдания в расчет. Вердикт «Виновен!» ждет любого, даже потерявшего собственный корабль лишь потому, что честно служил родине.
– Я бежал в Севилью, надеясь затеряться на любом из кораблей. Ибаролла привел меня к вам… – продолжил Элькано. – Простите, что скрыл.
– Не думай об этом. Разве я не знал, что на кораблях у меня будут не только младшие сыновья и внебрачные дети знатных господ, но и беглые каторжники, и убийцы, и воры. Знал. Но знал и то, что только море способно истинно определить, кто чего стоит. В море гранды оказываются разбойниками, а бывшие разбойники являют благородство души, достойное грандов.
– Я не хотел вас предавать, командор, – еще тише проговорил больной. – Кассада… он заставил…
– Знаю! – резче, чем следовало бы, прервал его Фернандо. – Не знал бы, и твои четвертованные останки давно сгнили бы на шесте, рядом с шестом Гаспара. Меня предупреждали, что испанские гранды не простят бедному португальскому дворянину внезапного его возвышения. Не простили.
…Предупреждение было прислано вдогонку. Энрике-Трантробан принес с берега свиток. Было это на Тенерифе, куда в сентябре 1519 года, через неделю после выхода из Санлукара, его маленький флот зашел за провизией и водой.
«Остерегайся зависти испанских капитанов остальных кораблей. Тебе не простят…» – тесть Барбосы предупреждал о тайном сговоре испанских капитанов.
Не простили. Всё пытались обратить против него.
Вскоре после отплытия, двигаясь меж Зеленым Мысом и его островами, флотилия попала в полосу штормов и встречных ветров и долго не могла продвинуться по намеченному пути. «Дьявольский знак!» – шептали за его спиной.
После не кончавшегося шестьдесят дней дождя на мачтах и вантах появились мерцающие огни. «Дьявольский знак», – настраивал капитан «Консепсиона» Кассада. И только обучавшийся всему на свете Пигафетта долго и путано объяснял про какие-то заряды – будто две тысячи лет назад древние греки заметили, что если тереть кусочком шерсти о янтарь, появляются крохотные сияния, названные греками в честь янтаря – электриситы…
Против невзлюбленного командора обратили и долгий срок зимней стоянки у берегов Бразили.
– Не знает, куда плыть!
– Поворачивать назад!
– Никакого иного мира и другого пути к пряностям нет!
– Домой, в Испанию!
Доставшаяся Фернандо карта Мартина Берхайма из секретного архива португальского короля обещала на сороковом градусе южной широты пролив меж Атлантическим и Индийским океанами. В марте 1520-го его флот достиг 49-го градуса южной широты. С трудом пробившись сквозь рифы, корабли вошли в маленькую бухту, которую Магальянш назвал Пуэрто Сан-Хулиан. И приказал располагаться здесь на зимовку. Его не послушали. Тридцать человек с «Консепсиона», среди которых был и Элькано, захватили еще и «Сан-Антонио», и «Викторию». Только головной «Тринидад» и маленький, рассчитанный на разведывательные плавания, а не на подавление бунтов «Сант-Яго» остались верны ему.
Ночью, когда мятежники пытались покинуть гавань на захваченных ими кораблях, произошло сражение. Самое страшное из всех, в которых капитан Магальянш участвовал за все сорок лет его жизни. Свои стреляли по своим. Воинской хитростью – еще одним его божьим даром – он сумел двумя оставшимися кораблями отрезать изменщиков от выхода из пролива и стремительно отбить «Викторию». Дальше было сражение. Настоящее. Жестокое.
В том сражении он победил. Но был ли он прав?
Сейчас он все чаще думал: а что, если бунтовщики были не так уж виновны? И Картахен, которого король пожаловал титулом veedor – «королевского надсмотрщика», и другие капитаны флотилии хотели не так уж много – знать, почему они здесь. Тайну обещанного на 40-й широте пролива, кроме короля и членов Casa de la Contratacion – Дома контрактов, Фернандо не открывал никому. Не отыскав в обещанном месте пролив и решив не возвращаться с бесчестием, а искать, буквально ощупывая берег, он ничего не объяснил ни остальным капитанам, ни экипажу.
После пересечения экватора с каждой милей становилось все холоднее. И спускаясь все дальше и дальше на юг, он понимал, что для нормальной зимовки требуется временное возвращение в благословенную обильную Бразиль. Как понимал и то, что при злобе, которую он уже вызвал у Картахена и других капитанов, его приказ развернуть флотилию будет равносилен приказу о собственном аресте. И он продолжал молчать. Вплоть до бунта. И после.
Он победил. И потом, призвав писарей, вынес приговор: Кассаду четвертовать, Картахена с ближайшими сподвижниками оставить на пустынной земле с небольшим запасом продовольствия – и пусть Господь решает, жить им или умереть. Прочих, как Элькано, простить.
Истинная его победа пришла не в тот день, а полугодом позже. Пролив! Он все-таки отыскал пролив. Не там, где был заветный крестик на секретной карте. Много ниже. Но отыскал!
Не найди он пролив, все случившееся при подавлении мятежа было бы расценено как убийство испанских грандов, а он, португалец, был бы назван изменником и преступником. Теперь же это должны счесть не более чем платой за мировое владычество Испании.
Он победил. Но чем заплатил он за ту победу?
В те дни, поняв, что обещанный королю путь в иной океан найден, Фернандо плакал от счастья и уверенности, что все снова свершается по божественному предначертанию. Но разведывавший дорогу «Сант-Яго» разбился во время шторма, потом исчез «Сан-Антонио». Фернандо долго надеялся, что корабль затерялся в пути. Снова возвращался к мысу, оставлял на берегу испанский флаг с подробными объяснениями потерявшимся, куда плыть, чтобы догнать основную экспедицию. Но в душе знал – затаившиеся мятежники угнали «Сан-Антонио» назад, в Испанию. Теперь они могли уже доплыть до дома и втоптать его доброе имя в грязь.
Фернандо взял больного за руку. Истощавшая кисть тонула в его тоже усохшей ладони.
– Говорят, что в мире не бывает худа без добра. А добра без худа. Не случись мятеж тогда, подле берегов Бразили, он обязательно случился бы в этом океаническом переходе. Но здесь он был бы смертельным для всех. А в нескольких сотнях миль от цели это слишком обидно, согласись.
– Но мы до цели еще не дошли, – с трудом раскрывая кровоточащие уста, прошептал Элькано, – а я уже, наверное, и не дойду…
– Дойдешь! – Магальянш сам не верил в то, что говорил. Знал, что это изможденное тело не сегодня завтра опустят за борт. Но вслух произнес: – Уже совсем близко. Энрике чует.
Элькано с трудом улыбнулся.
– Дойдешь! И вернешься домой! – говорил Фернандо, лишь бы что-то говорить. – И король тебя простит. Дарует рыцарство. И герб.
– С дохлой крысой на нем, – пробормотал Хуан Себастиан.
Магальянш подумал, что если Элькано даже сейчас находит в себе силы шутить, то он может выжить. Сколько раз в плаваниях он видел, как выживали безнадежно больные и погибали почти здоровые, полные сил, но хоть на минуту сдавшиеся отчаянию.
– А почему бы нет! – ответил он шуткой на шутку. – Если хоть одна дотянет до дома – это будет единственная в мире крыса, совершившая путешествие вокруг света. С нее напишут портреты. Не нравится крыса, можешь взять себе на герб каравеллу. «Консепсион».
– «Виктория» красивее, – пробормотал Себастиан.
– Значит, «Викторию». И палочки корицы…
– Если мы их найдем…
– Конечно, найдем. Острова пряностей близко. Ведь я уже был здесь, когда с другой стороны доплывал до Маллаки. Энрике оттуда привез, – кивнул на слугу Магальянш.
И вдруг понял, откуда в последние пару дней появилось в нем это непрекращающееся ощущение ветра в парусах – он здесь уже был. Десять лет назад. Чуть южнее. Добираясь до этих меридианов с иной стороны земли, он здесь уже был! А это значит, что он, Фернандо Магальянш, уже обогнул мир. Первым! И единственным из людей!
Пусть пока этот земной круг составлен из двух плаваний. Но Господь освещает его путь, и он закончит новый виток и вернется домой. И Энрике вернется…
Как же он забыл про Энрике. Вывезенный из этих мест на запад и снова плывущий в родные края с востока, Энрике-Трантробан вместе с хозяином тоже обогнул мир!
– Энрике, – кликнул он слугу, – ты знаешь, что нас только двое?
– Два? – переспросил слуга.
– Да, мы двое! Из всех тысяч, миллионов, живущих в мире, только мы двое обогнули его!
Ошеломившее Магальянша открытие не произвело на Энрике никакого впечатления. Слуга снова мечтал о грудях своей толстой кухарки.
…Месяцем позже флотилия подходила к еще одному острову в большом архипелаге, названном Фернандо островами Святого Лазаря. Уж здесь-то неизвестных прежде островов было без счета. И каждые два из шести волею короля дарованы ему, Магальяншу.
На их пути оказался радостно встретивший их цветущий остров Самар. Местный вождь, чью речь легко понимал радостный Энрике-Трантробан, на прибрежном песке рисовал им дальнейший путь вокруг архипелага, усердно тыча палкой в один, чуть более крупный из нарисованных им островов: «Себу! Хумабо! Себу!»
– Он говорит, это остров Себу. Очень богатый, – перевел Энрике-Трантробан. – Говорит, правитель зовут Хумабо, хороший. Надо пылыть к Себу.
– Командор, вы никогда не чувствовали себя посланцем Бога на земле? – спросил входящий в капитанскую каюту Барбоса. – Взгляните – так встречают только посланцев богов!
Магальянш вышел на палубу. Со всех сторон приближающегося острова, размахивая ветками пальм и восторженно крича, к берегу бежали аборигены.
– Они говорят: «Посланцы небес», – перевел Энрике-Трантробан, – они так зовут нас.
Неделя на Себу была сном. Не сном – раем! Почести, еда, пальмовое вино. Вождь Хумабо согласился не только присягнуть испанскому королю, но и принять христианство.
Хумабо поселил Магальянша в своей хижине. И в первую же ночь привел к нему одну из своих дочерей – совсем еще девочку.
– Лалу! – сказал Хумабо. И, поклонившись много раз особым ритуальным манером, вышел из хижины.
– Вождь сказал, ее зовут Лалу, – перевел Энрике-Трантробан, проверяя, не кроется ли в плетеных стенах хижины какой угрозы для его «Господин». – Вождь сказал – бери в жены! Почесть!
Энрике-Трантробан недовольно поморщился. Не прикрытые ничем, кроме бус из ракушек и семян, острые грудки Лалу не стоили ни части сокровищ его кухарки. Но Энрике не понимал, что случилось. Его господин обычно не обращал внимания на женщин. Не глядел на знатных сеньор, одаривающих его знаками внимания в мадридских соборах. Не замечал дешевых портовых шлюх, на которых в больших городах, яростно потроша свои кошели, бросалась вся остальная команда. Не видел и аборигенок – у берегов Бразили мужчины за один нож отдавали двух, а то и трех женщин, единственным одеянием которых были их длинные волосы.
Теперь же его обычно бесстрастный господин не отводил глаз от острых грудок дочери вождя. И приказал: «Ступай!» Перевод господину больше был не нужен.
В эту ночь Магальяншу показалось, что он поднялся в недоступное прежде для него небо и вернулся в свой истинный дом. Мир в объятиях Лалу переворачивался и летел куда-то в звездное облако, что сопровождало их в открытом им океане.
Мысли о долге, о жене не могли остановить безмерности этого полета. Он обогнул мир. Он на пути домой. Он любит. Может быть, впервые в жизни.
Кто из женщин был в этой жизни? Робкая маленькая Мария, которую в густых зарослях не налившегося еще винограда за домом он, двенадцатилетний мальчишка, гладил и целовал сквозь старенькое, много раз чиненное платье… Инесс, фрейлина королевы Элеоноры, открывшая мальчику-пажу путь в свою роскошную спальню и в свое роскошное тело… Ставшая законной женой Беатриса…
Ни одна из случайно попадавшихся на его пути женщин не дарила того, что было в этой маленькой девочке с острыми, открытыми всему миру грудками. Эти оголенные грудки казались ему раем. Он ревновал к каждому брошенному на них взгляду, не желая понимать, что подобная обнаженность для туземцев не греховна: «Но взгляды моих моряков греховны!» Ночи напролет с упоением, с которым новорожденный ищет материнскую грудь, искал губами ее два пригорка. И приникал к ним иссохшимися губами как к пригоршне святой воды после исповеди.
Он любил свою Лалу и в этой маленькой хижине, их первом доме, и на берегу, под открытым небом, которое здесь, в азиатском краю, в одночасье, будто разом задули все свечи, становилось черным, и у себя на корабле, куда напросилась завороженная невиданным прежде зрелищем Лалу. Побитый о скалы, источенный червями «Тринидад» казался девочке чудом. А ему чудом казалась она – тоненькая, сильная, способная ночи напролет ласкать его возрождающуюся к новой жизни плоть. Он любил ее снова и снова, не понимая, откуда брало силы еще недавно полностью изможденное тело. На прошлой зимовке, перестав видеть любовь даже во сне, он решил, что его колодец уже пуст. Но теперь колодец был снова полон и счастьем выплескивался через край.
«А ведь я должен казаться ей стариком!» – мелькнуло в голове в одну из ночей. Но, чувствуя, как Лалу извивается на нем всем своим гибким сильным телом (ни одна из его прошлых европейских дам не рискнула бы оказаться сверху!), как прижимается губами к его набирающей силу плоти, он терял никчемную мысль, растворяя ее в наслаждении. Лалу натирала его и свою кожу пальмовым маслом, и взаимное скольжение становилось столь легким, что он уже не мог поверить, что где-то там, в далекой северной жизни, несколько раз ему приходилось поспешно натягивать штаны, не свершив того, к чему стремился.
Если ему, как любому живущему на земле, был отпущен свой сосуд наслаждений, то до благословенного дня вступления на землю Себу он, Фернандо Магальянш, сорока лет от роду, не отпил из этого сосуда и десятой доли положенного.
Совпадая с приливом, отвечая каждой волне, они входили в свой ритм. И постепенно наращивая его, обгоняли море и землю, пока течение любви не выбрасывало их, изможденных, на пустынный берег, подходы к которому охраняли воины вождя и верный Энрике-Трантробан.
«Посланец неба женится на дочери вождя!» – произносили воины, стараясь не бросать завистливых взглядов в сторону берега.
Он подарил Лалу бусы, яркие шали и вещь, завораживавшую всех островитян, – зеркало. Единственное уцелевшее из десяти больших зеркал, загруженных в Севилье, казалось, сохранилось только для того, чтобы отражать в себе эту божественную девочку.
В ответ в одну из ночей Лалу подбежала к своему уголку хижины, где хранились ее детские сокровища. И, достав большую раковину, протянула ему. В центре еще хранящей в себе остатки морской жизни раковины лежало переливающееся черное яйцо размером с перепелиное. Выскочив из хижины и взяв факел у одного из воинов, оберегающих их покой, Лалу поднесла огонь к яйцу. Ослепительный блеск заиграл на его мерцающей гладкой поверхности.
– Жемчуг?! – не поверил Фернандо.
Жемчужины таких размеров и такого идеального черного цвета не доводилось ему видеть ни в одном из королевских убранств. Жемчужины Инесс были величиной с крупный горох. Испанская королева гордилась ожерельем, в котором сверкали белые жемчужины размером с большую виноградину. А эта…
– Лалу – Фемо! – по-детски не выговаривая звуки, произнесла его возлюбленная, протягивая свой дар любви. Фернандо хотел спрятать жемчужину, но при всем желании не мог бы этого сделать. В двух обнаженных телах нет места, куда можно спрятать даже жемчужину. Солнце сливалось с луною, день с ночью, берег с землею. И он уже не знал, от чего качает его тело – от бесконечных волн за бортом или от волн иных, возникающих от его слияния с Лалу.
В один из дней Лалу напросилась ночевать на каравеллу. Привыкшая к невысоким хижинам и невысоким лодкам, на которых аборигены совершали свои плавания между островами, она никак не могла насмотреться на огромный корабль. Забыв о вечном правиле – женщине на корабле места нет! – ступая вместе с ней на борт «Тринидада», Фернандо подумал, что так девочка ощущает свое приобщение к тем, кого сочла посланцами неба. Рядом с ней он готов был забыть про точащих его корабли червей.
…Он проснулся от крика Лалу. Девочка бегала по палубе, истошно крича. На ближайшем к соседнему острову Мактан берегу собирались люди, не похожие на тех восторженных аборигенов, что встретили их неделю назад. Показались воины с иной раскраской лиц и другими перьями на голове, чем у воинов Хумабо.
– Лапу-Лапу! – кричала перепуганная Лалу, размахивая руками. – Мактан. Лапу-Лапу…
– Дониа говорит, что это воины Лапу-Лапу, вождя острова Мактан. Что вождь Хумабо недавно установил с ним мир и обещал Лалу ему в жены. Но это было до того, как приплыли «посланцы небес». Лалу говорит, что Лапу-Лапу убьет Хумабо.
– Скажи ей, что никто не убьет ее отца. Я не позволю, – крикнул Фернандо, быстро одеваясь в своей каюте. – Крикни, шлюпки на воду. Много не надо. Сорок человек. Скажи Лалу, что ей лучше остаться на корабле…
– Дониа не слушает, Господин. Дониа хочет на берег. Дониа говорит, что скажет что-то Лапу-Лапу и не будет война…
Подплывая ближе к берегу, Фернандо заметил, что горит крест, установленный им возле хижины вождя, – символ свершенного накануне обряда посвящения аборигенов в христианство. Горит и лодка, первой посланная на подмогу воинам Хумабо. Сами воины в знакомой ему раскраске племени Себу смешались с врагами, и двое из них вбивают в свои боевые барабаны убыстряющийся ритм. Услышав этот ритм, Лалу задрожала. Его тайный язык сообщал девочке нечто, что не в силах были понять пришельцы.
– Спрячь ее! Уведи к отцу! – крикнул Фернандо слуге. Но, прижимая к лицу руки, Лалу продолжала что-то лопотать.
– Дониа говорит: «Беда!» Дониа говорит, не надо Господин плыть туда. Она говорит, отец Хумабо предать Господин. Она говорит, у Лапу-Лапу отравленные стрелы…
– Я сказал, спрячь ее! Где хочешь спрячь! Головой отвечаешь.
Энрике кивнул. И когда до берега оставалось несколько сотен метров, вдруг нырнул в воду, увлекая Лалу за собой. Фернандо дернулся в ту сторону, но один из спутников остановил его.

