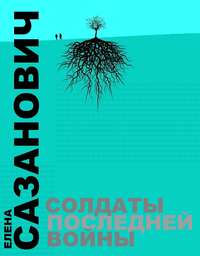
Солдаты последней войны
Ай да Лерка! Мне она уже начинала нравиться. И я отправился в палату, чтобы во всем воочию убедится самому. К тому же наступило послеобеденное время тихого часа и мне надлежало проследить, чтобы этот час был действительно тихим.
На удивление палата пребывала в глубоком покое. Кроме Лерки там находились еще две женщины. Одна старушка, которую я уложил в больницу из чувства жалости, хотя в лечении она тоже не нуждалась. Она жила совсем одна, получала маленькую пенсию, хотя была ветераном войны, и была моей давней пациенткой. И я знал про ее жизнь все. Или почти все. Ее дети умерли еще в 42-м во время ленинградской блокады. Их хоронили соседи, потому что женщина вслед за мужем ушла на фронт. Они оба уцелели в той мясорубке. И прожили бок о бок всю жизнь. Женщина пережила многое, но никогда не роптала на судьбу. И что такое депрессия никогда не знала, не понимая вообще смысла этой болезни. Для нее это было чужеродным понятием. И она не раз говорила мне, что депрессия – просто горе. Я пытался убедить в том, что ее болезнь несет другую, более глубинную опасность. Но она и слушать не хотела, говоря, что кроме горя других печалей не бывает… И вот недавно ее вновь настигло это самое горе. Умер муж.
Они давно готовились к смерти. Но такой исход она принять не смогла. Ее муж умер, попав под машину. Она плакала у меня в кабинете и все твердила, что старик прошел всю войну, а значит не мог умереть в мирное время, переходя улицу на зеленый свет и соблюдая все правила уличного движения.
Меня настолько тронула ее история, что я решил все проверить. Оказалось, что какой-то пьяный негодяй летел по проспекту с такой скоростью, что, наверняка, зашкаливал спидометр. И на красный свет, а тем более на невзрачного старичка, переходящего дорогу, просто не обратил внимания. Просто не заметил такой мелочи. И хотя он сразу же «смотал удочки», его все-таки нашли. Но эта сволочь смогла откупиться.
В милицейском отчете я обнаружил официальную врачебную справку о том, что старик страдал сильной близорукостью. Я попытался доказать обратное. Например, что еще во время войны погибший носил «плюсовые» очки. Но сей факт никого не волновал, учитывая что доказательств тому уже просто не было. И я, для очистки совести посетив еще парочку милицейских кабинетов, так и остался ни с чем… Тогда я и стал понимать, что зарождалась новая прослойка коррупционеров, усвоивших, что все позволено. Даже то, что запрещено.
Так к женщине пришло горе. Которое не называлось депрессией. И прекрасно понимая, что старушке нельзя оставаться одной, пусть даже на некоторое время я сумел устроить ее в нашу клинику. Что я мог еще предложить ей кроме больничной койки? Где во всяком случае она могла пообщаться с людьми, сытно покушать и, может быть, выспаться. Я прекрасно знал, что это всего лишь оттяжка по времени, что всю жизнь я не смогу ее держать здесь. Но что еще я мог для нее сделать?..
Со второй соседкой по палате было проще. У нее на самом деле была глубокая депрессия. Не очень молодую и не очень красивую учительницу с двумя детьми бросил муж (типичная причина), променяв ее на очень молоденькую и очень хорошенькую секретаршу. К этому женщина была совершенно не готова. Давным-давно она, молоденькая учительница пожалела его, запутавшегося в жизни и отсидевшего срок бездельника, подобрала, накормила и обогрела. Теперь же, с внезапно появившимися нечистыми деньжищами, тот бросил ее и купил себе другую… Что ж, жалость в наше время обходится дорого. И как правило, не прощается.
Трех женщин (третья была Лерка) – разных судеб и разного возраста – я застал неподвижно лежащими на кровати. И вначале даже встревожился, потому что они никак не отреагировали на мое обычное приветствие. И только Лерка немного подняла голову, поднесла палец к губам, а потом показала на часы.
Я приблизился к ним и только тогда заметил на их лицах маски. Из арбуза. Ну, и Лерка! Наверняка, ее рук дело. Убедить старушку и учительницу делать фруктовые маски в труднейшие дни их жизни! Просто так, словно ничего не случилось, словно и жизнь для них не остановилась. Это не каждый сможет. Это могла только Лерка.
Я не стал им мешать и вышел в коридор. Там беседовали двое больных, вполголоса расхваливающие Лерку, но заметив меня, они смутились и бросились по палатам.
К Лерке я заглянул позже. Мои пациентки уже сидели на кроватях, что-то оживленно обсуждая. По-моему, Лерка рассказывала, как правильно делать макияж.
– Ну, девушки, вы на глазах похорошели! – широко улыбнулся я.
– Вы уж нас извините, – покраснела учительница. – Просто Лера сказала, что нельзя шевелиться.
– Первый раз такой ерундой занимаюсь! За такое мой старик выгнал бы из дому, – махнула рукой старушка. Впервые она вспомнила своего старика без слез, очень просто, словно наконец-то поняла, что он все равно всегда будет с ней рядом. И заметила. – А все равно интересно. Хоть в конце жизни попробовать на лице такую ерунду.
Я подумал, что чаще всего именно такая ерунда, какой-то незначительный пустяк, какая-то несущественная мелочь, и выводит людей из длинного темного тоннеля депрессии. Заставляя забыть трагедию и зачастую возвращая к жизни. И я взглянул на Лерку.
Она сидела передо мной, белокурая и румяная, в коротеньком махровом халатике. В ней было очень много жизни. Большой, открытой жизни, не осложненной неясностями и тайными помыслами. В которой одна за другой меняется погода. Времена года. Где в июле расцветают луга, а в октябре осыпаются листья. Где в далекие края улетают осенью птицы, а весной возвращаются домой… И мне вдруг так захотелось прижать Лерку к своей груди. Чтобы хоть на миг почувствовать вкус простой, реальной, настоящей жизни. Чтобы клубок надуманных и ненадуманных проблем, который я свил за всю свою жизнь, наконец-то начал распутываться, складываясь в одну длинную прямую дорогу. По которой мне суждено идти. Может быть, с Леркой?
По-моему, именно в тот миг я решил, что непременно на ней женюсь. И только позднее узнал, что такое решение первым принял не я. А она. что я захотел жениться только благодаря ей. Благодаря умело сплетенной паутине, которую она искусно приготовила для меня… И кто сказал, что все серьезные решения принимают мужчины? Они всего лишь произносят вслух те слова, которые им умело подбрасывают женщины.
– Вас завтра выписывают, – обратился я к Лерке. И уже немного замялся, словно сделал что-то предосудительное. – Да. И зайдите ко мне на прием, чтобы я смог убедиться в вашем выздоровлении.
– Плохо, что выгоняете девчонку, – вздохнула старушка. – Тоскливо без нее будет. Жаль, старику не могу про нее рассказать… И кому мне теперь рассказывать?..
– М-да, – протянула учительница. Взглянула в окно, за которым накрапывал мелкий дождь. И сказала куда-то вдаль. Самой себе, не замечая нас. – Совсем скоро осень. Моим в школу. Столько еще купить нужно будет. Тетрадки, учебники… А зачем?
Они вновь погружались в свое горе. У маски из спелого арбуза оказалась слишком кратковременное действие. И я впервые подумал, насколько в нашем деле важны люди. Не просто их профессионализм и умение поставить правильный диагноз. Важно их отношение к жизни. И чем больше они открыты жизни, тем быстрее помогут вернуться к ней и своим пациентом. Я впервые подумал: что (черт побери!) здесь делает сухая, бездушная Зиночка, несмотря на всю ее высокую квалификацию?! И, черт побери, что здесь делаю я?! Вечно сомневающийся, задающий себе нелепые вопросы и не пытающийся даже отыскать на них верные ответы.
– Так, все! – хлопнула по своим острым голым коленкам Лерка. – Подумаешь, осень! Подумаешь, школа! Кстати, я сейчас вам такое расскажу про школу… Как я ловко прогуливала уроки…
Она встрепенулась, взглянув на учительницу.
– Ой, извините, вы кажется учительница?
Та в ответ лишь тепло улыбнулась. И почти умоляюще попросила, пытаясь зацепиться за соломинку Леркиного рассказа:
– Ничего, Лера, рассказывайте. Прошу вас.
– Мы тебя просим, – поддержала ее старушка…
Ближе к вечеру мы с Леркой уже сидели в моем кабинете и пили приготовленный Зиночкой кофе. Если бы она узнала, что готовит кофе не только для меня, то наверняка бы подсыпала туда мышьяк. Но Зиночку я предусмотрительно отправил в конференц-зал – читать актуальную для больных лекцию «Самый верный путь к выздоровлению». И хотя она глядела на меня весьма подозрительно, отказаться от лекции не могла по субординации. Тем более, что именно она придумала этот лекторий, который приносил ей самой огромное удовольствие, – как научить других не просто умению выздоравливать, но и умению жить.
– Так вот, Лера, может, я покажусь тебе сумасшедшим идиотом, может, безнадежным романтиком, но я хочу предложить тебе работать в нашей клинике. Параллельно ты сможешь учиться в медицинском… У тебя дар, Лера. Дар лечить души.
Лерка очень долго хохотала. А я молча смотрел на нее. Все больше убеждаясь, что действительно – идиот. Лерка мечтала быть только кинозвездой. Не больше и не меньше. Время выбора профессии по призванию давно миновало. Время врачевать души давно прошло.
– Единственное, что могу предложить в ответ – остаться здесь еще на пару деньков, – наконец сказала она. – Тем более, что мне это пойдет только на пользу.
– На пользу имиджу, – поправил я.
– Называйте, как хотите. Но в любом случае, своих пациентов, – произнесла она нарочито громко, – да, своих пациентов из четвертой палаты за эти дни я поставлю на ноги. Ручаюсь. Кстати, чем вы здесь занимаетесь?
– Не надо дерзить.
– Пусть. Но это лучше, чем тупая самоуверенность. Разве не вы меня еще утром с треском выгнали из кабинета. И разве не вы к вечеру просите меня остаться? Не загадывайте более чем на сорок пять минут вперед.
– Почему именно сорок пять? Что за время «Ч»?
– Вечный закон жизни, который я сама вывела еще в школе. Сорок пять минут – урок. И только после урока все может перемениться – или к лучшему, или к худшему… Так что советую, если захотите принять решение, повремените еще сорок пять минут и тогда уже принимайте.
– Спасибо за совет, Лера.
Как ни странно, Леркиным советом я потом частенько пользовался по жизни. И как ни странно, он помогал. Вообще, Лерка, несмотря на всю ветреность и поверхностность, частенько давала мудрые советы. Впрочем, с годами я убеждался, что слишком умных и слишком серьезных людей нужно слушать в полуха. У них, как правило, есть несколько слоев потаенных мыслей, из которых не всегда появляются нужные и полезные.
Мы поженились зимой. В сильный трескучий мороз. Лерка была похожа на хорошенькую Снегурочку. Стройная, в белоснежном платье, волосы и ресницы покрыты серебристым инеем. Я так боялся, что она вдруг растает… Она много и заразительно смеялась. И, наверное, была счастлива. Впрочем, как, наверное, и я. Жизнь тогда еще легко разбрасывалась надеждами и подарками. Я был студентом консерватории, много сочинял, мою музыку признали. Но тогда еще мы не могли знать, что время начнет работать против нас, исчезая в два раза быстрее обычного. И мчаться так, что невозможно было удержаться в седле и сохранить безвозмездные подарки судьбы…
Серьезная музыка постепенно становилась ненужной, обесцененной и лишней. Я все чаще впадал в отчаяние. Лерка все чаще была неверной, злобной и глупой…
Она ушла от меня тоже зимой… Как-то в белой длинной шубе, со сверкающим ненавистью взглядом, она встретила меня на пороге с огромным чемоданом. Напоминая уже не Снегурочку, а Снежную королеву. И я уже не боялся, что она растает. Такие, как она, просто не исчезают и просто не сдаются. Такие, как она, разворачивают судьбу лицом к себе, даже если та и не хочет. Впрочем, к таким, как она, нынешнее время само раскрывает объятия.
– Да, Кирилл, так будет лучше, – она затягивала наше расставание. И мне было невыносимо больно. Мне хотелось, чтобы она поскорее убралась. Но Лерка непременно нуждалась в театральных сценах. И упустить подобный шанс, разыграв обманутую в лучших надеждах жену, было выше ее сил.
– Почему ты молчишь? Ты ничего не хочешь мне сказать?
Я скользнул по ней равнодушным взглядом. Хотя мое сердце бешено колотилось.
– А что… Нужно что-то сказать?
– О, Боже! – она заломила руки в белых кожаных перчатках. – И кто посмеет упрекнуть, что я ухожу! Ты посмотри на себя! Только посмотри! Вялый, ни на что не способный человек! Что ты мне дал в жизни?! Что?! Я чуть было не загубила свою карьеру из-за тебя! Ты даже не хотел меня знакомить с нужными людьми! Все пришлось делать самой! Абсолютно все!
Лерка умела перевернуть любую ситуацию в свою пользу. Она прекрасно понимала, что бросает меня в самый трудный период. Когда я потерял работу. А мои музыкальные опусы уже никто не принимал. И сейчас она просто добивала меня своим уходом, оставляя в полном одиночестве. Разбитым, опустошенным, неуверенным в себе, все чаще заглядывающим в рюмку. Лерке же непременно нужно было убедить себя в обратном. И ей это удавалось.
– Хорошо, – равнодушно ответил я. – Будем считать, что во всем виноват я. Так будет лучше.
У меня не было сил для борьбы. Тем более, я не хотел бороться с женщиной, кем бы она ни была.
– Ну, вот! – почти истерично выкрикнул Лерка.
Ей непременно хотелось, чтобы я обвинял. Тогда бы она смогла по-настоящему защищаться. И выглядеть несчастной жертвой. Но такого шанса я ей не предоставил.
– О, Боже! Боже! – продолжала она с тем же запалом. – Тоже мне благородство! Ты даже… Тебе даже абсолютно все равно, что я ухожу! Тебе всегда было все равно, чем я занимаюсь. Мои мысли, чувства тебя совершенно не волновали!
А были ли у тебя мысли и чувства, хотел спросить я, но вовремя удержался. Пусть высказывается одна. Я примирился с этой неизбежностью.
– Ты… Ты даже мне смел утверждать, что я бездарна! И ни на что не способна! И мое единственное место в этой жизни – быть медсестрой для твоих получокнутых! Но нет! Тебе не удалось из меня сделать посмешище! И я… Я тебе докажу, на что я способна!
– Зачем, Лера? Зачем тебе нужно, что-либо мне доказывать. Я и так верю, что услышу про тебя совсем скоро. Ты непременно своего добьешься.
Лерка на секунду смешалась, соображая – издеваюсь ли я над ней или говорю серьезно. Но так и не поняла.
– Ну вот, – уже спокойнее протянула она. – Конечно, добьюсь… Но и ты… Я хочу тебе посоветовать не заниматься больше этой ерундой. Твоя музыка никому не нужна. Разве что этим древним старушкам, которые сто лет назад почему-то решили, что настоящая музыка должна быть только такой. Глупости все! То, что сочинили Моцарт с Бахом и им подобные, хватит еще на десять веков. А тебе нужно жить…
– Не трогай мою музыку, Лера, – вяло ответил я.
У меня уже не было сил защищать даже свою музыку. И я говорил скорее по инерции. Лерка пожала плечами и уткнулась в воротничок беленькой шубки. Исподлобья сверкнув на меня глазками. И мне на миг показалось, что она хочет мне понравиться. И ждет слов любви, слов о моих разбитых надеждах и невозможности жить без нее.
– Так ты ничего не хочешь мне сказать на прощание, Кирилл?
– Ну, разве, как врач пациенту – не болей.
– Словно мы и не прожили вместе пять лет…
Нам еще не хватало воспоминаний.
– Иди, Лера, тебе пора. Тебя ждут.
– И ты даже не ревнуешь? – Лерка надула свои пухлые губки. – Он кстати и красив, и знаменит.
– Вот ты сама и ответила. Разве я могу состязаться с совершенством.
– О, боже, ты даже проститься не умеешь. И не хочешь говорить серьезно… Что меня всегда бесило!
– Теперь уже не будет. Я за тебя спокоен.
Мне надоел дурацкий разговор. И затянувшееся прощание. И неизбежный разрыв. Лерка была еще рядом и мне от этого было все еще больно. И я грубо подтолкнул ее к двери.
– Все, иди, Лера. Мне еще нужно будет поработать.
Пожалуй, такого Лерка не могла вынести. Такого тупого равнодушия. Ей, наверняка, казалось, что в день нашего прощания я буду биться головой об стену. Рыдать или в крайнем случае сидеть, оцепенев в шоке. Что угодно, но только не заниматься обычным повседневным делом. Обычным повседневным делом она давно уже считала мою музыку.
Но такой радости я ей не доставил. Тем более, что подобные сцены я не раз наблюдал в своей клинике и повторять их для себя, хотя и бывшего, но все же врача, было бы по крайней мере глупо. Но Лерка с этим никак не могла смириться. И использовала свой последний шанс. Она медленно повернула ко мне свое лицо. И в ее больших глазах я увидел слезы и подобие страдания.
– Да, Кирилл… Я хочу, чтобы ты знал… Я ведь тебя еще люблю.
И поспешно, но очень страстно поцеловав меня в губы, выскочила за порог, театрально хлопнув на прощание дверьми.
Пожалуй, последняя сцена ей все-таки удалась, чего я не мог не признать. На моих губах горел ее страстный поцелуй, обжигающий лицо. А ее прощальные слова остро резанули по сердцу. Лерка не хотела меня отпускать. Она не хотела оставить мне шанс жить без нее. Она заставляла постоянно чувствовать ее, жалеть о потере и надеяться на возвращение. И все же ее победа была недолгой. Хотя я был готов, как и мои пациенты, биться головой о стену и рыдать взахлеб, но все же сумел справиться и привести мысли в порядок. Продолжать любить Лерку в том безысходном положении, в котором я очутился, было непозволительной роскошью. Нужно было думать, как жить дальше… Та Лерка, которую я когда-то любил, ушла в прошлое. Настоящая же Лерка уехала со своей знаменитостью искать счастье за океан, словно там этого счастья было навалом. И оно непременно хотело, чтобы им в безразмерных количествах воспользовалась моя бывшая жена…
Я уже давно перестал тосковать о Лерке. И сейчас же, мчась в ненавистном катафалке, бок о бок с чужими людьми, вспомнил ее просто из-за вновь накатившего одиночества. Которое, впрочем, навеки поселилось в моей маленькой квартирке. И к которому сегодня, впрочем, как и вчера, и позавчера, мне не хотелось возвращаться. Потому я просто уцепился за жалкую возможность провести вечер в чужом и абсолютно безразличном мне доме. Впрочем, я быстро убедился, что этот чужой дом не мог оставить равнодушным даже меня. Уж очень он был хорош.
Дом высился на самом краю дорогого коттеджного рая. Почти в лесу. Выйдя из машины, я с жадностью вдохнул свежий сосновый воздух, вкус которого уже успел позабыть за последние годы, безвылазно прожитые в столичной истерии сменяющихся один за одним дней. В сумасшедшем ритме попыток найти свое место, постоянно заканчивающихся провалом. Каждый день довольствуясь городской пылью, ревом сирен и скрежетом шин. Вот почему как завороженный я стоял посреди стройных мудрых деревьев, под чистым спокойным небом и слушал щебет лесных птиц. И не мог понять, что же я столько лет делал в городе?! И почему не нашел времени сбежать от него туда, где еще оставалась единственная возможность жить правильно. Наверное, я всегда подсознательно чувствовал, что придется вернуться. Возвращаться всегда гораздо больнее…
Едва мы поравнялись с огромной неприступной оградой, мои мысли перебил громкий лай собаки.
– Ничего, она привязана, – поспешил успокоить меня Павел, пропуская вперед.
Едва я переступил порог, все мое внимание сосредоточилось исключительно на собаке. Насколько псина была красива, настолько и свирепа. Казалось, еще секунда – она сорвется с цепи и с удовольствием меня слопает. Этакая смесь бульдога, носорога и тигра, с редким паленым окрасом, слишком большой головой и острыми зубками, готовыми в любую секунду вцепиться в горло.
– Милый песик, – бодро заметил я.
Павел принял мое замечание за чистую монету. И за пару секунд, пока мы шли к дому по асфальтированной дорожке, обсаженной карликовыми деревьями, он сумел изложить всю информацию о четвероногом друге. Я узнал, что собачка стоит «всего» пару тысяч баксов, что это редкая порода фила бразилейро и, естественно, является любимицей всех бразильцев, и что иметь в доме такого пса весьма престижно.
– Представляешь, Кирилл, – радостно сообщал мне Павел, – в Англии они вообще запрещены. А в других странах для их приобретения необходима лицензия. Как на оружие. Уж очень свирепы эти животные. И могут запросто убить непрошеного гостя. Зато очень надежны. Как любят говорить бразильцы, «верный, как Фила».
– А у нас, конечно, все наоборот. В нашей стране никаких лицензий не надо, все, как в свободной стране, разрешено, – съехидничал я.
– Ну, к твоему сведению и европейцы, и американцы, конечно, очень богатые, с удовольствием заводят этих псов. Никакой самый надежный замок, никакая охрана и сигнализация не заменит их, – проигнорировал он мое замечание.
Наверное, парню и впрямь есть, что охранять, раз не поскупился на подобного сторожа. Я ничего не имел против животных, тем более собак. Но меня шокировало, когда их превращали в некий неодушевленный объект купли-продажи, делая вещью, к которой необязательно питать чувство симпатии или жалости, а просто ценить ее по «замочным» качествам. И для меня они уже не были просто частью природы, нашими «братьями меньшими», а какими-то роботами. Хотя сами собаки в этом были меньше всего виноваты.
– У нее имя хоть есть? – поинтересовался я, питая слабую надежду, что с именем она приобретет для меня подобие некого живого существа, а не компьютерной системы.
– Конечно. А как же… Его зовут Сталлоне. В честь моего любимого Сильвестра.
Ну, конечно же! Бобик или Шарик – как-то мелковато. Так я и думал. Что ж, погладить ее по загривку и почесать за ушами, сказав: «Дай, Джим, на счастье лапу мне», так и не придется. Она была просто крепким импортным замком, железной дверью, охраной и сигнализацией «в одном флаконе». И не более. Единственное, на что в лучшем случае я мог рассчитывать, что она перестанет скалиться и мечтать, как бы мною отужинать.
Дом был огромный, просторный и светлый. Наполненный исключительно дорогими вещами, но отнюдь не вычурными, а напротив довольно простыми. Легкий хаос создавал атмосферу уюта и теплоты. И я даже удивился, что в нем нет обычного в таких случаях снобизма. Дом не давил на меня ни ценой, ни значимостью. Гостиная была обставлена в бледно-розовых тонах, словно там навеки поселилось утро. Кругом были разбросаны подушки, тут же стояло очень много ваз с полевыми ромашками, васильками и незабудками. Огромные окна слегка прикрывали такие же розовые занавески. А многочисленные деревянные полки и этажерки с книгами создавали иллюзию деревенского быта, слегка приправленного легким налетом интеллектуальности.
Павел не вписывался в такой интерьер. Это был явно не его стиль. Такие, как он, едва добравшись до легких денег, стараются их вложить в нечто весомое, тяжелое, по-царски дорогое и не по-царски безвкусное. Хозяин тут же подтвердил мою мысль.
– Все моя жена, – как бы извиняясь, сказал он. – Если бы не я, она бы вообще довольствовалась книжками, парочкой кресел и обеденным столом. Хозяйка она не ахти какая, но от домработницы категорически отказалась. Решила, что управится сама. Но где уж ей. Вот и приходится мириться с хаосом вперемежку с жалкими попытками наведения порядка.
Павел взглянул на часы и присвистнул.
– Фу, леший, теперь благодаря ей и с ужином придется подождать. Где ее только черти носят! – о своей жене он говорил с заметным раздражением, но я не мог не почувствовать в его голосе плохо скрываемую нежность.
– Я, наверное, не кстати, – ради приличия сказал я. Уходить мне уже не хотелось.
– Да ну, брось ты! – махнул рукой Павел. – Сегодня наш праздник. Ты спас нашего сына, а такое не часто случается… Надеюсь, больше и не случиться.
Я бросил взгляд на Котьку, который все это время молчал, витая в своих потаенных мыслях.
– Ну, Котька, развлекай пока своего спасителя, а я пойду приму душ.
Котька покорно поплелся на второй этаж по лестнице, и я не менее покорно последовал за ним. Мне все равно где было убивать время.
– Моя комната.
Котька равнодушно обвел детскую печальным взглядом. И бухнулся на диван, приглашая присесть рядом. Я принял его приглашение и огляделся. Явно тот, кто устраивал детскую, собирался ее сделать самой веселой и беспечной комнатой в мире. Желтые стены, желтая мебель, желтые шторы. Словом солнышко в любое время года. И среди этой желтизны – процессия упитанных, совершенно дурацких нарисованных и вышитых белых уток. Гордо шествующих не только по обоям, но и по занавескам и покрывалам, останавливающим свой поход где-то посреди круглого ковра. «Слава, Богу, – подумал я, – еще не залазят на пианино.» Инструмент, кстати, несмотря на показное ребячество комнаты и на всю свою тяжеловесность, один выглядел естественным и даже живым в Котькиной комнате.
Тот, кто собирался создать здесь атмосферу веселья и безоблачного счастливого детства, явно просчитался. Котьке эта атмосфера была до лампочки. В его душе жила печаль. И, сегодня, чуть ли не угодив под колеса автомобиля, он наверняка меньше всего думал об пузатых уточках, заполонивших его комнату.

