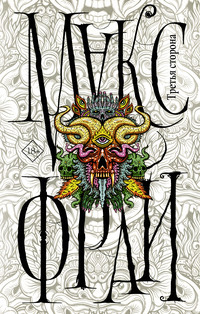
Третья сторона

Макс Фрай
Третья сторона
Сны про море в ночь с воскресенья на понедельник
Юзефа закрывает глаза.
Некоторое она лежит на спине, вглядываясь в темноту под закрытыми веками. Под её пристальным взглядом темнота постепенно приходит в движение, загорается разноцветными искрами, становится похожа на дырявый занавес, за которым спрятано – да чего там только не спрятано. Проще сказать, что там спрятано всё.
Юзефа умеет засыпать. То есть, уснуть дурное дело не хитрое, так или иначе, оно удаётся всем. Но Юзефа умеет выбирать, что будет за дырявым занавесом. Что случится, когда он поднимется, отодвинется в сторону, растворится в скрытых за ним свете, движении, смысле. Иными словами, Юзефа умеет выбирать сны.
Юзефа спит, и ей снится, как она стоит на морском берегу, а волны – разноцветные, пенные, гладкие, как застывающее стекло, быстрые, медленные, мутные и прозрачные – в жизни такого разнообразия не бывает, но во сне-то бывает всё что угодно, а Юзефе как раз снится сон – одна за другой набегают на берег. Ревёт, грохочет, шуршит и ласково шепчет; в общем, шумит прибой.
Волна Валентин Александрович вздымается к небу, винно-красная, густая, тяжёлая, пьяная и пьянящая, горячая, безмятежная, бешеная волна. Весь остальной Валентин Александрович счастливо выдыхает: ну наконец-то! Но не просыпается. Что ж он, совсем дурак – просыпаться сейчас?
* * *Волна Катерина прозрачная, чистая, серебрится в лунном свете, как рыбья чешуя, и катится медленно-медленно, растягивает удовольствие, только затем и нужен берег, чтобы никогда его не достичь, – думает Катерина, прижимаясь во сне к горячему винно-красному боку мужа, и прямо сейчас, не просыпаясь, вспоминает, как когда-то в него влюбилась – вот за это, не за что-то другое. Словно заранее откуда-то знала, что когда они оба станут бушующим морем, Валентин Александрович окажется бешеной, пьяной, сладкой, тёплой тёмно-красной волной.
Волна Алёнка ярко-зелёная, как её самый любимый лимонад, и газированная, как лимонад. Она очень умная, во сне дети гораздо умнее взрослых, это нормально, они просто пока лучше помнят, как тут надо себя вести. И сейчас Алёнка сразу сообразила, что можно не разбиваться о берег, а прыгать туда-сюда, вперёд-назад, гоняться за другими волнами и от них удирать, а иногда перемешиваться, потому что это очень красиво, всё в мире будет красиво, если в него добавить ярко-зелёный газированный лимонад. Волне Алёнке так весело, что спящая Алёнка вертится во сне с боку на бок, отбрасывает в сторону одеяло, зябнет и кутается в простыню. В конце концов Алёнка падает с дивана на пол, вернее на мягкий ковёр, не ушибается, даже не просыпается, только смеётся во сне – вот это сейчас был прыжок!
Волна Сигуте как бы мозаичная, из отдельных фрагментов, не просто разного цвета, но и из разных материалов, не только из воды. В волне Сигуте попадаются густые, тяжёлые лоскуты ртути, пригоршни песка, кусочки ткани и меха, и ещё кружева, а в водяных частях этой сложносочинённой волны мечутся мелкие рыбки, ползают крабы, даже один воробей затесался, мокрый, взъерошенный, зато, похоже, двоякодышащий, то есть, воробей не гибнет в морской воде. Волне Сигуте так интересно быть волной Сигуте, что она даже не осознаёт, что кроме неё существует целое огромное море. Но это не страшно, у волны Сигуте есть время, чтобы разобраться в себе и начать оглядываться по сторонам, всё время этого мира – её.
Волна Мартинас обнимает волну Сигуте, то есть, спящий Мартинас обнимает Сигуте, но и волна, которой он себе снится, тоже обнимает волну; волна Мартинас большая и тёмная, но почти невесомая, неощутимая, призрачная волна. Быть этой волной так сладко, что уже почти страшно; впрочем, будем честны, не «почти». Мартинас просыпается от крика волны Мартинаса, к счастью, Сигуте ничего не услышала, он её не разбудил.
Мартинас – уже просто сонный Мартинас, но всё-таки ещё немножко волна – долго лежит на спине, старательно, как когда-то на йоге учили, дышит, надувая живот при вдохе и втягивая при выдохе, успокаивает себя, думает: «Я есть, я же точно есть», – он действительно есть, но всё равно получается как-то неубедительно, поэтому Мартинас очень осторожно, чтобы не потревожить Сигуте, встаёт, идёт босиком на кухню и долго, большими глотками пьёт воду, хотя пить не особенно хочет, его не мучает жажда, просто надо разбавить призрачную, слишком лёгкую воду, из которой он всё ещё состоит, нормальной, обычной водой.
Напившись, Мартинас возвращается в спальню, ложится, обнимает Сигуте, засыпает, и теперь ему снится, что он – нормальная, то есть, никакая не призрачная, а настоящая, мокрая, тяжёлая, весомая, горько-солёная морская волна.
Волна Тадеуш хочет быть самой главной волной в этом море, выше всех других волн. Но волне Тадеушу приходится быть осторожной, потому что на её белопенном гребне безмятежно покачивается серый полосатый кот. На самом деле, кот спит, примостившись на подушке Тадеуша, то есть, на его голове, они оба давно так привыкли, и обычно кот не мешает Тадеушу спать; спать он, собственно, и сейчас не мешает, зато меняет сюжет сновидения, в ходе которого волна Тадеуш вместо того, чтобы вздыматься к небу и бушевать, с рёвом и грохотом обрушиваясь на берег, очень аккуратно и бережно несёт на своём гребне нахала-кота.
Волна Энрике сама не знает, как выглядит, волне Энрике не до того, волна Энрике пляшет и вовсю веселится, хорошо, хорошо быть волной!
Волна Ульяна Михайловна внезапно обнаруживает в себе русалку, в точности как из сказки – девчонку с рыбьим хвостом, немного похожую на внучку Нийоле. Сама Ульяна Михайловна не любит и не умеет играть с детьми, даже с сыном никогда не играла, только покупала ему игрушки; говорила вслух: «Ничего для сына не жалко», – а про себя добавляла: «Сам с этой фигнёй возись».
Но волна Ульяна Михайловна всё на свете умеет, на то она и волна. Ей понятно, чего хотят такие маленькие девчонки – кружиться, кувыркаться, играть. И саму волну Ульяну Михайловну такая перспектива совершенно устраивает, не то что наяву. Поэтому волна Ульяна Михайловна, собиравшаяся неторопливо катиться к берегу, как положено нормальной приличной волне, без сожалений меняет свои планы, обнимает покрепче девчонку-русалку и говорит ей: «Ну, дорогая, держись!»
Андрюс не спит, он – «сова», три часа ночи для него – рабочее время, самый разгар. Такое счастье, что теперь стало возможно работать из дома, по удобному тебе графику, и если чётко выполняешь договорённости, соблюдаешь дэдлайн, никого не волнует, когда ты ложишься и когда поднимаешься. Хорошие пришли времена! Андрюс уже давно так работает, а всё равно не может нарадоваться, каждый день заново благодарит судьбу, что так удачно сложилась; в юности-то казалось, выбор у него из двух зол: или мучиться, пытаясь вписаться в общий режим, жить унылой выморочной полужизнью, или совсем пропадать.
В общем, Андрюс не спит, он работает, но внезапно, ещё сам не понимая, зачем это надо, встаёт, подходит к окну, стоит, прижавшись носом к холодному стеклу, крепко держится за подоконник, потому что даже не пол под ногами, а весь мир ходит сейчас ходуном, и сам Андрюс ходит ходуном вместе с миром. Вроде, стоит на месте, но всем телом, так же ясно и внятно, как ощущают тепло, или холод, Андрюс чувствует, как вздымается к небу счастливой тугой ревущей волной.
Андрюсу кажется, что так проходит целая вечность, но потом, вернувшись к компьютеру, он убедится, что прошло всего восемь минут, вздохнёт, мечтательно улыбнётся – мама, что это было? А можно ещё? – и закурит прямо там, в кабинете, хотя обычно выходит курить на балкон.
* * *Юзефа открывает глаза. Юзефа проснулась, но пока не встаёт, лежит на спине, уставившись в потолок, думает: отличный у нас получился сон. Даже не ожидала, что им так хорошо зайдёт! А я-то, дура, им то романтику пихаю, то какие-нибудь катастрофы. Надо, получается, чаще про море сны выбирать.
Наконец Юзефа встаёт, потому что время неумолимо, и пространство неумолимо, и рабочий график неумолим, и, тем более, шеф. В этом мире вообще слишком много неумолимого, – думает Юзефа и тихонько смеётся, разбивая яйца на раскалённую сковородку: – Такой несговорчивый, непокладистый достался нам мир!
У Юзефы есть час десять минут, чтобы позавтракать, выпить кофе, умыться, одеться, привести в порядок причёску, наложить неброский дневной макияж, вылететь в окно, немного покружиться над городом, а потом приземлиться и быстренько добежать до автобусной остановки, успеть на самый удобный автобус, экспресс, без пересадок, прямо до офиса, отъезжающий в восемь тридцать пять.
Валентин Александрович просыпается за полчаса до будильника, такой отдохнувший, словно неделю проспал, и почему-то очень счастливый. Слишком счастливый для понедельника. Нормальному человеку утром понедельника быть таким счастливым просто неприлично, нельзя, – весело думает Валентин Александрович и смеётся – беззвучно, чтобы не потревожить жену Катерину, которая так сладко сопит, положив ладошку под щёку, что жалко её будить.
Некоторое время Валентин Александрович лежит и бездумно, бессмысленно улыбается. Наконец встаёт и идёт в комнату дочки. Так и знал, опять свалилась с дивана, спит, завернувшись в простыню, на ковре. Хорошо, что Катерина не видит, она почему-то всегда очень пугается, хотя чего тут пугаться? Мы все в детстве иногда падали с кровати во сне, это просто нормально, – думает Валентин Александрович, сгребая дочку в охапку. Говорит ей: «Привет! Хорошо спала?» Алёнка энергично кивает и пытается объяснить: «Мне снилось такое… такое… не знаю, какое, но самое лучшее в мире!» «И мне, – говорит Валентин Александрович. И с удовольствием повторяет: – И мне».
Сигуте и Мартинас просыпаются одновременно и смотрят друг на друга, пытаясь собраться с мыслями. Обоим есть что друг другу сказать, но нужных слов никто из них не находит. Хорошо, что можно просто обняться, иногда обняться – единственный способ поговорить.
Потом, когда оба встанут и нарочно, для смеху, толкаясь локтями и бёдрами, будут варить кофе – Сигуте Мартинасу в старой армянской джезве, а Мартинас Сигуте в новой гейзерной кофеварке «мокка», ей больше нравится так – Сигуте скажет Мартинасу: «Забей на того заказчика, ты мне нужен живым и здоровым, всех денег не заработаешь, ты же его давно хочешь бросить, вот и бросай», – или не скажет, а только подумает, что вечером обязательно надо будет об этом поговорить. А Мартинас совершенно точно не скажет, потому что это сюрприз, но с удовольствием будет думать, как обрадуется Сигуте завтра, когда он принесёт ей годовой абонемент в тот шикарный бассейн, про который неделю назад говорили, сокрушаясь – ах, не можем себе позволить! А на самом деле, ещё как можем. Мы, – будет думать Мартинас, – можем всё.
Тадеуш просыпается от того, что кот мурлычет, уткнувшись ему в макушку и одновременно щекочет ухо хвостом. Тадеуш вспоминает, что ему снилось, и смеётся в голос – ну и сон! Гладит кота, выгнув руку – очень неудобно, но не погладить нельзя. Наконец встаёт, выходит на кухню, где уже, приплясывая, крутится у плиты Энрике, студент-медик из Гватемалы, каучсерфер, Тадеуш решил попробовать, как это, и Энрике – его первый гость. Вчера Энрике Тадеушу не особо понравился: плохо говорит по-английски, с таким ужасным акцентом, что почти невозможно понять, выглядит по-дурацки, одевается как подросток и не пьёт даже пива, пришлось покупать ему лимонад. Но сегодня Энрике колдует над сковородкой, подмигивает Тадеушу: «Завтрак готов!» – и дело даже не в том, что приятно, проснувшись, сразу получить горячий омлет, а в том, что глаза у Энрике такие весёлые, что Тадеушу тоже становится весело. И он думает: «Да нормальный он, этот Энрике. Надо будет вечером позвать его на концерт».
Ульяна Михайловна просыпается от удивительного ощущения: у неё в кои-то веки ничего не болит. Встаёт по привычке осторожно, неторопливо, внимательно прислушивается к ощущениям – спина в порядке, и колени в порядке. То ли дурацкие витамины с айхерба, присоветованные невесткой, действительно помогают, то ли как в том анекдоте – если у вас с утра ничего не болит, значит, вы умерли. Вот как, оказывается, – весело думает Ульяна Михайловна, – выглядит рай. В раю у меня двухкомнатная квартира и новые тапки, точно такие же, как купила вчера. Вот интересно, в раю всегда понедельник? Смешно совпало, что именно в понедельник у меня выходной!
Ульяна Михайловна накидывает поверх пижамы старое шерстяное пальто, переведённое в ранг домашней одежды, выходит на балкон и долго-долго стоит там, глядя по сторонам, словно не всю жизнь в этом дворе прожила, а только вчера приехала. Ну или правда поверила, будто попала в рай. Такой, Сведенборговский рай, простой и понятный – всё осталось, как было, только ничего не болит. И двор, засаженный туями, вдруг стал похож на маленький парк. И явно теплее на пару градусов, чем обещали сиоптики. И небо чуть-чуть голубее, чем положено в январе.
Выпив чаю, Ульяна Михайловна достаёт телефон и набирает номер Юргиты, невестки. Говорит: «Извини, дорогая, я вчера отказалась забирать Нийоле на лето, а сегодня подумала: ну я и дура! Вдвоём же в сто раз веселее. Так что поезжайте спокойно в свою Аргентину. Отлично мы с ней будем жить».
Андрюс спит; он лёг почти в половине шестого утра, это даже для него слишком поздно, зато работу закончил и отослал. Андрюсу снится, что из квартиры на втором этаже, где на самом деле – он даже во сне это помнит – живёт такая строгая тётка, похожая на директора школы, поздоровается при встрече, а кажется, что сейчас начнёт тебя распекать; так вот, Андрюсу снится, что из квартиры на втором этаже вылетел ангел, покружил над двором, хлопнул себя по лбу: «Ай я балда, опять перепутал, здесь же нельзя летать в таком виде!» – быстренько превратился в галку и полетел по своим непостижимым ангельским делам.
Это будет длинный день
(из сборника «Сказки Старого Вильнюса VII»)
Брат и сестра близнецы До-й-Хо и Дой-и-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море, смеются, болтают ногами, подставляют лица лучам изумрудного солнца, которое в это время стоит высоко над горизонтом и светит гораздо ярче оранжевого; им весело, им хорошо.
Строго говоря, До-й-Хо и Дой-и-Хмарра не то чтобы именно брат и сестра. Они – две части единого целого, при этом – не совсем идентичной природы; вряд ли это хоть немного похоже на разницу между мужчиной и женщиной, но надо же как-то обозначить, что разница есть.
Когда я говорю, что они близнецы, это означает, что До-й-Хо на пятнадцать тысяч закатов зелёного солнца старше: кому-то из близнецов приходится рождаться первым, жить в одиночку и дышать за двоих, чтобы однажды придумать себе второго, вернее, отчётливо вспомнить, что этот второй всегда был, и тогда осуществляется младший близнец, всё это время скрывавшийся в сладких потёмках несбывшегося, изнывая от нетерпения – сколько можно, меня всё нет и нет! Каждому даётся своё испытание – старшему неполнотой, младшему – долгим, томительным предчувствием бытия; объединившись, они обретают безграничный покой и счастливую силу, и это всё, что можно сказать о них человеческими словами, хотя, конечно, и этого тоже нельзя.
* * *Так вот, брат и сестра близнецы До-й-Хо и Дой-и-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море; это, конечно, тоже не так, пирс не похож на пирс, и море – совсем не то, что мы привыкли называть «морем», но если я скажу, что два немыслимых существа радостно замерли на границе между сияющей тьмой своего бытия, легко допускающей их возможность, и остальными тьмами, не способными вынести их целиком, выйдет примерно так же неточно, но при этом настолько туманно, что о дальнейших событиях вообще невозможно станет рассказывать, я просто ни одного подходящего слова не подберу.
Поэтому пусть будет море, пирс и двое подростков, старший и младшая, или наоборот, как угодно, сидящих на самом его краю под жаркими лучами изумрудного солнца; про солнце, кстати, почти совсем правда, там, рядом с ними, действительно светится что-то ярко-зелёное, очень похожее на небольшую приручённую звезду.
Брат и сестра близнецы До-й-Хо и Дой-и-Хмарра сидят на мокром шершавом краю очень длинного пирса, далеко уходящего в море, и младшая – младший? – прикончив третий по счёту кусок пирога с чьими-то тайными желаниями (из совершенно невыполнимых получается самая вкусная начинка, немного похожая на сладкий творог), со свойственным всем младшим всех времён и миров нетерпением спрашивает: «Когда, ну когда уже можно будет нырнуть?» До-й-Хо смеётся: «Когда плавать научишься», – специально дразнится, чтобы услышать негодующий вопль: «Да я уже так хорошо плаваю, что даже тебя обгоню!» А потом отвечает: «Может быть, и обгонишь, если плавать у самого берега. А тут – глубина».
Но на самом деле, нельзя бесконечно откладывать, даже развлечения – особенно развлечения, – думает До-й-Хо. И говорит: «Ладно уж, прыгай, ныряй до самого дна. Будет здорово, если сумеешь передать мне оттуда привет».
* * *Девочка Туся, она же Натуся, Ната, Наташа, Наталья, двух с половиной лет, в тяжёлой цигейковой шубке и уродливых чёрных сапожках, доставшихся ей от кого-то из старших кузенов, неуклюже, но резво бежит по улице Яблонскё навстречу незнакомой женщине, которая катит коляску с ребёнком, подбегает, заглядывает в лицо младенцу, бормочет: «Не ты!» – и начинает рыдать, да так отчаянно, что садится прямо в сугроб, наотрез отказывается подниматься; матери приходится брать её на руки, вздыхать: «Какая ты у меня тяжёлая!» – и нести домой, ласково приговаривая: «Ты моя хорошая девочка, кто обидел заиньку, ну хватит, не плачь». Туся успокаивается только после того, как с неё снимут шубу, шапку, рейтузы, остальное тёплое, уличное и переоденут в домашнее: с этого момента всё, что случилось на прогулке, больше не считается, новая одежда – новая жизнь.
«У Туськи очередная причуда, – жалуется Наташина мать заглянувшей на чай с пирогом сестре. – Как увидит на улице кого-то с коляской, тут же несётся знакомиться. Догонит, посмотрит, и сразу в слёзы, поди её успокой. Не понимаю, если ей малыши так не нравятся, чего она к ним лезет? А если нравятся, зачем реветь?» – «Затем, что молодость прошла и уже не вернётся, Туся умная девочка, раньше других это поняла», – отвечает сестра, и обе смеются, тихонько, чтобы не разбудить наконец-то, слава богу, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, вроде бы уснувших детей.
* * *Четырёхлетняя девочка Ната играет с бабушкиными пуговицами, ей разрешают, знают, что в рот не потащит, не проглотит, не разбросает, ничего плохого с ней не случится, наоборот, счастливый ребёнок будет тихо сидеть в своём углу, а не вмешиваться во взрослые разговоры, не крутиться под ногами возле плиты и не рыдать взахлёб перед телевизором, по которому опять показали ей одной ведомое «что-то не то»; с нашей Натальей никогда не угадаешь заранее, что её огорчит или испугает, – вздыхает мать, – когда родная бабушка умерла, ходила довольная, пела песни, всех утешала: «Бабушке там хорошо», – а когда в дурацком мультфильме кто-то обидел то ли зайца, то ли слонёнка, рыдала так, что кровь носом пошла.
Но пока Ната играет с пуговицами, в доме покой и тишина.
Ната строит из пуговиц что-то вроде цепочки сложной конфигурации; не хватает одной зелёной, в коробке закончились, а зелёная очень нужна, без неё ничего не выйдет. Ната оглядывается по сторонам – точно-точно никто не видит? – тихонько крадётся к журнальному столику, берёт из круглой железной коробки один леденец, он подходит по размеру и цвету, а без дырочек, как на пуговицах, как раз легко обойтись. Цепочка готова, теперь можно отправить записку; спроси – кому? – Ната не сможет ответить, даже если очень захочет, но ей надо, чтобы записка дошла. На записке большими кривыми печатными буквами написано: «ЯНАТА», – слитно, и буква «Я» перевёрнута наоборот, но это совершенно неважно, главное, эту драгоценную информацию обязательно, обязательно вот прямо сейчас передать. Ната пристраивает записку на дальнем конце пуговичной цепочки; некоторое время ничего не происходит, в таких случаях главное не зареветь, потому что сбегутся взрослые, они ничем не помогут, только окончательно всё испортят, поэтому надо сидеть очень тихо, внимательно смотреть на записку и стараться понять, почему она не отправляется, это же самая лучшая в мире почта – где надо, прямая, где надо, скрученная, и по одной зелёной пуговице на каждый завиток.
Несколько долгих минут спустя Нату наконец осеняет, что записку надо положить не просто рядом, а засунуть под пуговицы, да так, чтобы на каждую букву пришёлся свой, правильный цвет; какое-то время она возится со своей конструкцией, наконец, записка исчезает, Ната вскакивает, от избытка чувств хлопает в ладоши, в комнату заглядывает мама, спрашивает: «Хочешь на ужин пирог?»
* * *Девочка Натуся утром своего шестого дня рождения стоит перед журнальным столом и разглядывает синюю тарелку, на которой лежат два апельсина. Ярко-оранжевое на синем это так красиво, что хочется плакать, но если заплакать, услышит мама, испугается, огорчится, а когда мама расстраивается, мир вокруг делается более красным, и как будто с иголками, они не колются, но всё равно явственно есть; жить в таком мире неуютно, в нём всё тускло и как бы присыпано пылью, даже если включить яркий свет. Поэтому Натуся сдерживает слёзы, она уже знает, как быстро успокоиться: нужно говорить себе шёпотом разные зелёные слова: «жаворонок», «июль», «жасмин», «надежда», «жемчужина», «пятница», «пятьдесят», «южный», «ненужный», «желание», «юнга», «юла», – зелёных слов очень много, они разных оттенков, успокоиться помогают все.
* * *Девочка Наташа девяти лет впервые в жизни стоит на берегу моря, и у неё кружится голова. Конечно, она уже видела море в кино и на фотографиях, так много раз, что не сосчитать, но когда рассматриваешь картинки, не знаешь, даже представить не можешь, как море будет шуметь – не только снаружи, но и в тебе.
«Море почти такое же большое, как я, – думает Наташа. – Наверное, с ним можно дружить».
* * *Студентка первого курса Наташа сидит на самом краю крыши шестнадцатиэтажного дома, болтает ногами – высоко-высоко над землёй, и у неё вдруг мелькает мысль: «А ведь можно прямо сейчас вернуться домой, всего один шаг вперёд, и…» От этой мысли Наташе становится очень страшно: какой «шаг вперёд»? Какое «домой»? Совсем дура? Да, я совсем дура. А это вообще я? Или кто?
Наташа отползает подальше от края крыши, медленно, осторожно, спиной вперёд, потом становится на четвереньки, отступает к двери, ведущей с крыши в подъезд, и только там решается подняться на ноги, вцепившись в дверную ручку с такой силой, словно висит над пропастью, хотя до края крыши отсюда метров десять, не меньше. И потом, в подъезде, Наташа крепко держится за перила, двумя руками, а в лифт не заходит, ну его, лучше спуститься пешком. Ей очень страшно, нет ничего страшнее, чем внезапно выяснить, что себе нельзя доверять.
* * *Женщина Наталья просыпается рядом с мужчиной, в которого влюблена; они отлично вчера погуляли, хотя на вино следовало налегать поменьше, теперь от похмелья слегка болит голова, а в ушах шумит море, которое далеко; просто ближайшее – в трёхстах километрах, а ближайшее тёплое – вообще хрен поймёшь, зато у меня есть любовь, а это почти то же самое, что…
«Ты моё море», – почти беззвучно шепчет Наталья спящему, но ещё не договорив, вдруг отчётливо понимает: нет, он – не море. И не её. Просто красивый мужчина, рядом с которым приятно проснуться, но отдельный чужой человек, что вообще-то нормально, все люди друг другу чужие, просто некоторые из чужих иногда просыпаются рядом, так случается, вот и всё.
* * *Госпожа Наталья ставит на стол пустую чашку, говорит: «Это сейчас кажется, что мне всегда было весело и легко. А семь лет назад, когда я сюда приехала, бросив престижную, как принято говорить, работу, сдав квартиру чужим незнакомым людям, по договору, как минимум, на год, с кучей планов, как начну новую жизнь у моря и буду делать только то, что хочу, но даже без грамма уверенности, что завтра же не сбегу обратно, каждый день приходила к морю плакать, просто от ужаса перед ближайшим будущим и тихим, спокойным, понятным прошлым, которого уже не вернуть, рассудив, что моря так много, и оно такое солёное, что даже пол-литра слёз перепуганной тётки ничего не изменит, можно с чистым сердцем сколько угодно рыдать. Впрочем, всё это глупости, не слушай меня, на самом деле, мне и правда всегда всё давалось весело и легко… Допивай, пошли танцевать».
* * *Наталья Иосифовна сидит на берегу моря, ночью на этом дальнем пляже нет никого, думает: «Всё-таки я молодец, что сюда переехала, могла бы, конечно, пораньше собраться, но и как есть, тоже хорошо. Отлично всё у меня получилось, даже немного жаль всё бросать. Впрочем, Миша справится с танцевальным клубом, а Йори – с кофейной лавкой, я с прошлой зимы ни во что не вмешиваюсь, даже заходить стараюсь пореже, и всё равно прекрасно идут дела».