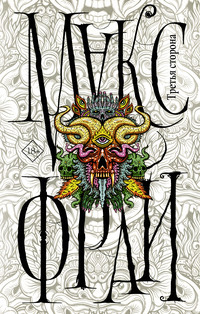
Третья сторона
Наталья Иосифовна достаёт из сумки большую коробку, осторожно, кряхтя, становится на четвереньки, раскладывает на песке разноцветные пуговицы и стеклянные бусины, долго их собирала, строит из них что-то вроде цепочки сложной конфигурации, местами прямой, местами скрученной, по одной зелёной бусине на каждый завиток. Работы предстоит очень много, но Наталья Иосифовна спокойна: до рассвета ещё почти пять часов.
На самом деле, можно было бы не возиться, никакой особой необходимости в этой смешной детской пуговичной магии нет, но Наталье Иосифовне всю жизнь, сколько она себя помнит, хотелось не просто умереть, а исчезнуть, не оставляя следов. Вот и не оставит, разве что, пару стеклянных бусин в прибрежном песке, но это даже неплохо: какие-нибудь детишки, кувыркаясь в прибое, их случайно найдут, и радости будет столько, что это вполне сойдёт за поминальный салют.
* * *До-й-Хо читает записку: «ЯНАТА», – улыбается: «Вот молодец!» – медленно считает до четырёх и протягивает руку – ровно за миг до того, как, Дой-и-Хмарра, младший – младшая? – из близнецов, выныривает из тёмной, будем считать, что воды, отфыркиваясь, вылезает на, будем считать, что пирс, повисает на шее у старшей – старшего? – и вопит: «Вот это ничего себе! Вот это да! Вот здорово! Вот, значит, как ныряют! Ррррраз – и туда! А там!.. Мне сначала было так страшно! А тебе тоже бывает страшно, когда ныряешь?» До-й-Хо кивает: «Да, ещё бы. Но и весело тоже. И интересно. А тебе как, понравилось? Или нет?»
«Ты ещё спрашиваешь! Как оно могло не понравиться?! Это было так странно! Так глупо! И почему-то так хорошо!» – возбуждённо орёт Дой-и-Хмарра; это обычное дело, вынырнув, все громко орут, особенно поначалу, тем более, в самый первый раз.
Потом, успокоившись, Дой-и-Хмарра сидит на пирсе, прижавшись к старшему – старшей? – брату – сестре? – молчит, переваривая впечатления, наконец предлагает: «А давай в следующий раз нырнём вместе!» До-й-Хо качает головой: «Нет, так нельзя. Кто-то из нас обязательно должен ждать на берегу, потому что мы сами и есть берега друг для друга; иных берегов для нас нет».
Дой-и-Хмарра хмурится, но и сам – сама? – знает, что спорить тут не о чем. У каждой игры есть правила, которые надо выполнять, если хочешь, чтобы она продолжалась, это понятно всем. Наконец говорит: «Ладно, нельзя так нельзя. А мы сегодня ещё понырять успеем?» – «Конечно, – улыбается До-й-Хо. – Чего только мы с тобой не успеем. Это будет длинный день».
Будешь смеяться, не будешь
(из сборника «Неизвестным для меня способом»)
Полидевк пишет Кастору:
Здравствуй, родной. У нас на Олимпе всё как всегда, этот наш вечный сияющий май, тёплый и сладкий, ни дуновения ветра, ни капли дождя. Знал бы ты, как опостылела мне эта божественная погода, специально предназначенная для удовольствия бессмертных божеств, то есть, нас – на этом месте начинаем смеяться; ладно, я начинаю прямо сейчас, а ты досмеёшься в свой срок.
Мне тебя не хватает. Я не грущу, не скучаю, но мне тебя не хватает, как руки, отражения в зеркале, тени, биения сердца, воды, но я не печалюсь, это разные вещи, ты знаешь. Или узнаешь заново, когда окажешься на моём месте – скоро, скоро уже.
Добрая весть: я подружился с Бореем; я со всеми легко схожусь, ты знаешь, и это лучшее, что я мог сделать для себя (для нас обоих, потому что он обещал и тебя опекать). Представляешь, он дует! Приходит украдкой, как вор, как тайный любовник, и дует. Здесь, на Олимпе, посреди блаженного вечного штиля, дует грозный Борей – правда, только в стенах нашего медного дома, для меня одного, но какое мне дело до остальных. Не то чтобы мне нравилось мёрзнуть, но когда блаженство не просто возможно, а неизбежно, поневоле начинаешь тосковать по обычным человеческим неприятностям, например, по шквалам, ливням и граду. А обнаружив на своём ложе, обычно устланном всякой сладостной чепухой, вроде фиалок и перистых облаков, настоящий снежный сугроб, как высоко в горах и в далёких северных землях, испытываешь – даже не счастье, а то, что превыше счастья – ликование и азарт. Стучать зубами от холода на Олимпе, хохоча от невыносимой нелепости происходящего – прекрасный способ стать чем-то бо́льшим, чем просто блаженный бессмертный. Не могу объяснить, чем именно, не стану даже пытаться: ты и так понимаешь, а остальных не касается, это только про нас.
Самый счастливый человек на Олимпе, конечно, Гефест: у него работы по горло, он всегда занят делом, а не от случая к случаю, как остальные. Очень ему завидую, с самого первого дня, я-то никчемный бездельник, а выступать в этой роли, ты знаешь, совсем не по мне. Когда это мы с тобой праздно сидели на одном месте больше двух часов кряду, даже если это место – за пиршественным столом?
Кстати, о пиршественных столах, к амброзии и нектару я, наверное, никогда не привыкну, хотя они хороши, но все причитающиеся мне порции (и твои заодно, прости) на тысячи лет вперёд я бы сейчас отдал за кусок свежего мяса, плохо прожаренного в середине, обуглившегося по краям, с этим – помнишь? конечно, ты помнишь! – горьким запахом дыма от наспех сложенного костра. А если так, придётся придумать, как бы это устроить, хотеть и не делать нам с тобой не к лицу. Надо всё-таки научиться спускаться с неба на землю, как отец и другие, хотя бы ради охоты, дело стоит того.
Вряд ли это тебе интересно прямо сейчас. Там, где ты есть, всё иначе, я помню. Я собирался оставить эту записку перед уходом, на ложе, чтобы попалась тебе на глаза, но пройдоха Гермес мне сказал, что сумеет доставить письмо, где бы ты ни был, хвастался, для него не существует границ между мирами бессмертных, живых и мёртвых; в общем, мы с ним поспорили на блаженный весёлый сон о поцелуях усмирённой, покорной менады, и знал бы ты, как я хочу проиграть ему этот сон, да хоть все сны с поцелуями разом, сколько их уже было, вечно одно и то же, легко без них обойдусь.
Вряд ли ты мне ответишь, это я понимаю, сам бы не стал (и не стану, когда придёт моё время остаться вне времени), но если захочешь и сможешь передать хотя бы просто привет на словах, мне, положа руку на сердце, будет куда веселей на этом нашем блаженном Олимпе; ну в общем, сможешь так сможешь, а нет – значит, нет.
Кастор пишет Полидевку:
Будешь смеяться (не будешь), но твой легконогий посланец принёс не только письмо, но стило и табличку, сунул мне… ладно, скажем так, в руки, хотя откуда им взяться? Неведомо. Однако сунул их мне, и теперь нетерпеливо приплясывает на месте в своих смешных крылатых сандалиях, пока я помню тебя и пишу.
Обычно я о тебе не помню, ты знаешь, ты сам обо мне не помнишь в Аиде, здесь забвение – общий удел. Но мне тебя не хватает, даже когда не помню, и это, будешь смеяться (и снова не будешь) совсем не мучительно, скорее, наоборот. Мёртвые одиноки настолько, что возможность ощутить чьё-то (неведомо чьё, чьё – мы не помним) отсутствие, как настоящую недостачу, становится выходом из абсолютного одиночества, подсказывает, что бывает иначе, а знать, что бывает иначе – это уже почти стать живым.
А быть живым здесь, в Аиде – отличное приключение, это жутко и весело, я затем и пишу, чтобы ты непременно попробовал, когда окажешься на моём месте, считай, подстрекаю, как всегда подстрекал на разные дурацкие выходки, которые редко кончались добром, но тебе они нравились, значит, понравится и сейчас.
Это знаешь, на что похоже? Конечно, ты знаешь, но я всё равно расскажу. Помнишь, как мы проходили Симплегады? Гребли изо всех сил, направляя корабль вперёд, одновременно усилием воли удерживали скалы на месте – не сейчас, не сейчас! – и у нас получалось, мы уже почти ликовали, когда перед нами поднялась та чудовищная, до неба, неумолимая, как небо, волна. Сколько молитв всем богам о спасении каждый из нас уместил в ту долю секунды, даже гекатонхейру на пальцах не сосчитать, и молитвы сработали, явилась Афина, мы прошли Симплегады – помнишь тот общий, один на всех выдох? Ради одной только сладости этого выдоха стоило всё затевать.
Будешь смеяться (конечно, не будешь), здесь тоже примерно так: наша сила и воля против волны забвения и тьмы, смыкающейся со всех сторон. Только Афина не явится в самый последний момент, ей не место в Аиде. Хочешь спастись – на здоровье, спасайся, но сам. Только сам.
Так вот, я – великий счастливчик, потому что во всякий страшный последний момент ко мне на помощь неизменно приходишь ты, сероокий, огромный, с пылающим факелом, сам пылающий, всемогущий, как Афина пред Симплегадами, и подобно ей усмиряешь волну, останавливаешь движущиеся скалы, и я успеваю, я всегда успеваю, раз за разом – пройти, проскочить, уцелеть и сделать тот самый счастливый ликующий выдох, который доступен только живым. И это такая победа, о которой не только герои, но и сами бессмертные боги не могут мечтать, они просто не в силах вообразить, что такое бывает – это во-первых. А во-вторых, даже если вообразят, всё равно повторить не смогут: у них нет тебя. А у меня ты есть.
Полидевк пишет Кастору:
Здравствуй, родной. Гермес принёс твой ответ, а платы не взял даже снами, хотя я так ликовал, что всё готов был отдать, остаться в одной тунике, самой ветхой, испачканной кровью Амика; впрочем, и её бы отдал.
Я и теперь ликую. Живу, непрерывно ликуя, как, наверное, и подобает бессмертным здесь, на Олимпе. Раньше, будем честны, получалось довольно неубедительно, словно я не единокровный сын Зевса, а самозванец, мошенник, украдкой пробравшийся на небеса, но не сумевший стать одним из бессмертных. Был бы ты рядом, сейчас рассмеялся бы: самозванец и есть! – а я бы пихнул тебя в бок, мы бы славно подрались, как в детстве, когда рукопашная – просто возможность держать друг друга в объятиях сколько угодно долго, у всех на глазах.
Послание от тебя – это было так много и одновременно так мало, что я обезумел. И во мне совсем не осталось древнего тайного страха, которого ты, я знаю, всегда был лишён – что однажды отец, всемогущий вершитель, наделяющий жребием, поражающий громом, подающий благие советы, ниспосылающий дождь, отвернёт от меня свой сияющий лик, и тогда от меня не останется ничего, даже памяти о тебе.
Я отправился к Зевсу и спросил его прямо: зачем ты солгал, посулив, что мы с братом будем вдвоём царить на Олимпе и вдвоём низвергаться в Аид? Тогда как на деле мы вечно сменяем друг друга, отправляясь поочерёдно то на Олимп, где каждый миг блаженного бытия исполнен горчайшей муки, то в Аид, где забвение сладко, как сон предрассветный. Почему ты нас разлучил?
Отец не разгневался, представляешь? Только зачем-то коснулся моих волос; не будь это Зевс, я бы решил, что он погладил меня по голове, как няньки ласкают младенцев, а так – до сих пор не пойму, что бы это могло означать.
Он сказал (или я подумал; сам знаешь, иногда голос Зевса бывает так тих, что неотличим от мыслей): что бы там ни болтали невежды и сплетники, но у Леды родился только один сын. А что в двух разных телах, бессмертном и смертном – нашли чему удивляться. Ещё и не такие причуды бывали в нашем роду.
Он сказал (наверное, он сказал): я тебе не солгал, когда обещал, что вы с братом останетесь вместе. Вы и остались вместе, я вас не разлучал. Разлучить кого-то с самим собой даже мне, прозванному Эрихфеем, Разрывающим, не под силу. И браться не стал бы. Да и зачем?
Он сказал (конечно же, он сказал, я бы не сумел так подумать): такова твоя участь – всегда пребывать в двух телах, бессмертном и смертном, скорбеть на небесном Олимпе, блаженствовать за Ахероном, тут ничего не попишешь. Рождённый мостом между жизнью и смертью, таким навсегда и останется, это высокая участь, ликуй, Полидевк, и не плачь.
Он сказал мне: «Не плачь», – представляешь? Но я и не плакал. С чего бы? Я не младенец. А влага, текущая по щекам, просто подарок Борея; я же писал тебе, что он иногда является в гости с дождями, снегами и шквалами? Ну вот, и сейчас, и сейчас.
Кастор думает, растянувшись на ложе, в медном дворце на Олимпе:
Будешь смеяться (не будешь, не будешь), я так и знал.
Белый ключ
(из сборника «Сказки Старого Вильнюса VI»)
Правильно заваривать чай его учил Зденек в те смешные времена, когда на паях с приятелем открыл чайный клуб (прикинь, какой прикол: почти сто сортов чая и больше ничего, ни вина, ни сэндвичей, ни печенья какого-нибудь, ни даже кофе, только чай, а народ всё равно ходит, мест свободных нет).
Без практики знания быстро вылетели из головы, остались только бессмысленно красивые формулировки: «жемчужные нити», «рыбьи глаза», «шум ветра в соснах», «белый ключ». Всё это разные стадии кипения воды; лучше всех запомнил «белый ключ». Во-первых, его легко определить, это когда закипающая вода становится мутно-белой, а во-вторых, именно в этот момент и следует заваривать чай; кофе, кстати, тоже – если используешь френч-пресс. Очень важно успеть, пару секунд спустя уже будет поздно. Китайцы называют крутой кипяток «мёртвой водой», вроде бы, в ней остаётся слишком мало кислорода, или что-то вроде того.
Выражение «мёртвая вода» его впечатлило, всегда был излишне чувствителен к словам. С тех пор всегда покупал прозрачные чайники и кипятил воду только в них. Стоял у плиты, заворожённо смотрел, как со дна поднимаются мелкие пузырьки, постепенно складываются в тонкие нити, а потом их становится так много, что вода белеет, словно в неё добавили молоко, вот в этот момент и пора убирать чайник с огня.
Сам Зденек быстро утратил интерес к чайным церемониям, демонстративно заливал бумажные пакетики «липтона» крутым кипятком, щедро сыпал сахар, резал лимон, ржал: «Я – чайный гранж-мастер». А он так на всю жизнь и остался верным последователем «белого ключа».
За Зденеком вообще было не угнаться, он всегда был скор на расправу со своей жизнью, менял одну на другую, не задумываясь, не торгуясь, не искал ни выгоды, ни даже какого-то особого смысла, только возможности в любой момент всё разрушить и начать заново. Что Зденек действительно отлично умел, так это красиво начинать.
Очень этой его лихости завидовал. И вообще всему Зденеку, целиком. Впрочем, «завидовал» не совсем верно сказано. Просто хотел быть таким же, а родился совсем другим – собой. Говорят, выше головы не прыгнешь; глупости, выше – как раз запросто. Что действительно невозможно, так это выйти из собственных берегов, а глядя на Зденека, хотелось именно этого. Зденек был – океан.
Впервые увидел Зденека в детстве, на пляже, и запомнил на всю жизнь.
Никогда не спрашивал, бывал ли Зденек в том курортном городе, куда его каждое лето возили отдыхать, и без расспросов не сомневался: там, у моря, был именно он. Прыгал в воду с высокого пирса и так при этом лихо кувыркался, словно в цирке выступал. Думал тогда, этот дочерна загорелый белобрысый мальчишка гораздо старше; оказалось, ровесник, просто такой вот длинный. Зденек на всю жизнь так и остался выше, почти на целых полголовы, и это тоже было обидно – вот же засранец, и тут обскакал.
А в тот день смотрел на него, открыв рот. Сам прыгать с пирса не стал, понимая, что на фоне белобрысого акробата будет выглядеть неуклюжим мешком. Потом до отъезда тренировался, чтобы тоже так научиться. В конце концов, более-менее получилось, однако особой радости не принесло. Во-первых, где теперь тот белобрысый мальчишка, поди его отыщи. А во-вторых, даже если объявится, ясно, что не станет сидеть в стороне и восхищаться его кувырками.
А на меньшее был не согласен.
Вспомнил об этом несколько лет спустя, когда Зденек пришёл в их класс – посреди учебного года, видимо, семья внезапно переехала; впрочем, какая разница, главное, что в классе появился новенький, длинный, белобрысый и такой загорелый, словно на улице стояло лето, а не дождливый ноябрь.
Сразу его узнал и понял, что это шанс. Незаметно открыл окно, вышел из кабинета, обогнул здание школы, каким-то чудом, цепляясь за карнизы, вскарабкался на подоконник третьего этажа. Ему тогда здорово повезло, что не свалился, потому что проделывал этот трюк в первый раз.
Ввалился в класс через окно, сразу после звонка, как ни в чём не бывало, поздоровался с математичкой, вежливо извинился за опоздание и сел на своё место; нечего и говорить, что это был настоящий триумф. Его, конечно, таскали к директору и родителей вызывали, мать перепугалась до смерти, дома был страшный скандал, но всё это не имело никакого значения, потому что Зденек смотрел на него примерно так, как он сам когда-то на пляже, с плохо скрываемым восхищением – во даёт!
На третий день знакомства они подрались; теперь уже не вспомнить, по какому поводу, и был ли он вообще. Драку, можно сказать, свели вничью: Зденек был сильнее, а в нём оказалось больше злости, о которой до того дня даже не подозревал. Потом, конечно, подружились, как это нередко случается после подобных драк, которые на самом деле не столько выход агрессии, сколько исследование: кто ты? И кто я, когда я рядом с тобой?
Это была странная дружба; впрочем, наверное, любая дружба странная, когда смотришь на неё не со стороны, а будучи одним из действующих лиц. Откуда вдруг возникает прочная связь между двумя чужими людьми? Чем скрепляется, пока длится, почему так радует и даёт столько сил? Как вообще всё это работает? Чёрт его разберёт.
Потом, много позже, став взрослым, почти пожилым человеком, говорил, что дружба это неосознанная, но очень храбрая попытка установить личные отношения с, условно говоря, богом, используя другого человека в качестве средства связи. Всегда провальная, никогда не напрасная.
Впрочем, вряд ли важно, что он там говорил. Слова это только слова, даже если удачно подобраны. Правда настолько больше слов, что в человека не помещается. Человек – мелкое озерцо, в лучшем случае, море. Правда – всегда океан.
Ладно, это была странная дружба, а как ещё сказать. Даже не то чтобы постоянное соревнование, скорее выступление, нескончаемые танцы на глазах друг у друга. Оба в результате стяжали сладкую славу неуправляемых хулиганов, при этом школу он закончил с отличным аттестатом, хотя прежде имел твёрдую репутацию «способного, но ленивого» троечника, как, наверное, все нормальные дети, которых никто ничем толком не сумел заинтересовать. Но мычать и блеять у школьной доски на глазах у Зденека, обладавшего феноменально цепкой памятью, было бы невыносимо, поэтому приходилось зубрить всё, включая ненавистные языки, которые этому гаду давались с полпинка, как бы сами собой. Дозубрился до того, что несколько раз решал за друга особо сложные задачи по физике. Засчитал себе, как победу; что думал по этому поводу Зденек, так никогда и не узнал.
Это продолжилось в университете. На вступительных экзаменах сами толком не понимали, чего хотят больше: учиться вместе или всё-таки утереть другому нос, оставив его за бортом. В любом случае, поступили оба, причём как-то на удивление легко, особенно если вспомнить, сколько дешёвого белого вина выпили в ходе подготовки к экзаменам, демонстрируя друг другу гигантские размеры болтов, якобы забитых на учёбу. На самом деле, оба, конечно, зубрили, как проклятые – в лютом похмелье, врозь, по утрам.
Их преподавателям и сокурсникам, можно сказать, повезло; по крайней мере, скучно не было. Хотя, вспоминая их со Зденеком выходки, шутки и перепалки, догадывался, что с точки зрения окружающих всё это было немного чересчур утомительно. Да и для него самого, даже тогда – перебор. Но куда деваться, если где-то рядом вечно болтается Зденек и его надо, как минимум, приводить в изумление. В идеале – восхищать.
Долгое время был уверен, что Зденек совсем не старается его поразить. Думал, он сам по себе такой – парадоксальный, блестящий, феерический. Кумир девушек в возрасте от четырёх до восьмидесяти и некоторых особо злобных профессоров. Но однажды Анна, та самая, которую они несколько раз азартно отбивали друг у друга, к сожалению – где были наши глаза?! – вовсе не ради её самой, сказала что-то вроде: «Без тебя Зденек совершенно нормальный, а при тебе вечно начинает выпендриваться так, что тошно становится». Сделал вид, будто не обратил на её слова никакого внимания, но на самом деле, конечно, ликовал. Надо же, оказывается, Зденек тоже прикладывает усилия, чтобы меня удивить! Засчитал этот факт как победу, вместе с теми школьными задачками по физике. Хотя в глубине души догадывался, что существование этого списка побед само по себе сокрушительное поражение. Нокаут, не по очкам.
Очень много в те годы путешествовали, в основном, автостопом – у студентов, даже подрабатывающих всеми доступными способами, редко есть деньги на билеты. Иногда ездили компанией, но чаще отправлялись вдвоём, и это, наверное, самое лучшее, что с ним было, не только во времена их со Зденеком дружбы, а вообще за всю жизнь. Мир оказался безгранично велик, местами обескураживающе красив и так интересен, что можно было временно оставить друг друга в покое. У гор, морей и звёздного неба всё равно лучше получается изумлять человека, как ни старайся, их не превзойдёшь, и это совсем не обидно. Ну, почти не.
Тогда, собственно, и познакомились по-настоящему, уже совсем всерьёз. Путешествия дают ответы примерно на те же вопросы, что и школьные драки: кто ты? И кто я, когда я рядом с тобой? – только гораздо более развёрнутые и подробные.
Интересные ответы, надо сказать.
Когда буквально через месяц после защиты диплома родители погибли в аварии, оставив его с четырнадцатилетней сестрой Лаурой на руинах раз и навсегда рухнувшего мира, сразу позвонил Зденеку. Честно сказал: если можешь, будь рядом, я при тебе сразу начну притворяться великим героем, глядишь, выдержу, не сорвусь. Так и вышло, при Зденеке он отлично держался, и сестрёнка, глядя на них, более-менее успокоилась – насколько это вообще было возможно. Положа руку на сердце, Зденек их тогда спас – самим фактом своего существования, не допускавшим возможности лечь и сдаться, пойти вразнос.
На поминках они не пили – рано было расслабляться. Оставались трезвыми весь вечер и ещё три дня, пока не отвезли Лауру в Ригу, к родственникам, которые организовали ей плотную программу с поездками и развлечениями до конца лета. А вернувшись домой, наконец-то надрались как следует, вдвоём, в просторной квартире на улице Агуону, которая, несмотря на оставшуюся от родителей мебель, казалась совершенно пустой.
Вот тогда, на исходе второй бутылки, Зденек горячо зашептал, склонившись к самому уху: «Ты не думай, что их совсем нигде больше нет. Там, после смерти, дофига всего интересного, в сто раз больше, чем здесь».
Господи, да ему-то откуда знать?
Тараторил с такой скоростью, словно боялся, что с неба вот-вот спустится ангел в милицейской форме и потащит его в райскую кутузку за разглашение секретных сведений, не дав договорить: «Когда мне было восемь лет, я утонул – совсем, представляешь? Мы тогда жили у моря, я часто удирал купаться с мальчишками из двора, плавать ещё толком не научился, а в тот день были сильные волны, и одна… Ай, неважно, в общем, я утонул и умер, и за мной пришли такие отличные сияющие чуваки… или, кстати, чувихи, не знаю, вот уж на что мне тогда было плевать. Они мне очень понравились, обещали отличные приключения, я даже обрадовался, что можно с ними пойти, но тут вспомнил, что нам послезавтра должны оставить дядину собаку на две недели, я с начала лета этого ждал, а вечером по телевизору будет новая серия мультфильма про Чёрного Плаща, и так стало обидно всё это пропустить, что я отпросился. Ну что ты ржёшь, действительно отпросился, ты меня знаешь, я, если очень надо, кого угодно могу уговорить, а у моих сияющих чуваков оказался покладистый характер, они согласились, что собака это ужасно важно, и мультфильм интересный, а у них телевизоров нет, сказали – ладно, гуляй ещё тридцать лет, потом приходи».
Пьян был к тому моменту до изумления. И всё ещё раздавлен гибелью родителей. Наверное, поэтому так легко поверил в Зденеков гон о сияющих чуваках и прекрасной загробной жизни, которая понравится маме и папе – чего ещё можно было желать. И что рыдал в три ручья у него на груди от горя и облегчения, тоже, в общем, понятно. И теоретически простительно. Но простить себя, конечно, не смог. И Зденека за компанию – что оказался одновременно причиной и свидетелем его слабости. Хотя Зденек никогда, ни при каких обстоятельствах об этом не вспоминал.
Не то чтобы они после этого разговора перестали дружить, но виделись гораздо реже. По объективным причинам, – говорил он себе. Ему тогда пришлось много работать, Лауркина пенсия по утрате кормильцев курам на смех, а почти взрослую девицу надо не только кормить, но и наряжать, и возить на каникулы, и водить к репетиторам, и за всё это как-то платить. И дома её надолго одну не оставишь, и бухать с собой не потащишь, и к себе никого особо не приведёшь, сестра-подросток в этом смысле гораздо хуже самых строгих родителей: при ней противным взрослым хмырём, который знает, как лучше, и всё запрещает, поневоле становишься ты сам. Удивительное превращение, вот уж от себя не ожидал.