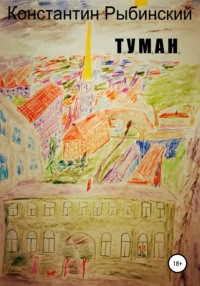
Т.У.М.А.Н.
– Однако, – пробормотал Светлый закуривая. Огонь спички на секунду ослепил, согрел ладони, горький дым папиросы ожёг горло. – Тонкий мир всё ближе.
Он не спеша покурил, смакуя табак, в тишине снегопада, и шагнул вперёд, пересекая ровную, как по линейке проведённую, цепочку кошачьих следов.
Поднявшись на крыльцо, Светлый оказался перед железной дверью с кодовым замком. Когда-то все двери были деревянными и не запирались, но с приходом Тумана горожане стали подозрительнее, злее и закрыли под замок всё, что могли. Впрочем, именно эту дверь можно было открыть, не зная код. Светлый обеими руками ухватился за ручку, резко рванул всем телом. Створка со щелчком распахнулась, и подъезд встретил теплом. Это был своеобразный ритуал посвящённых, тайное знание низкого градуса. Как часто бывает, практический смысл в этих мистических манипуляциях полностью отсутствовал: замок отлично работал, а код нацарапан на стене рядом.
Светлый прыгал в сумраке через две ступеньки, спеша миновать удушливые облака аммиака, волнующие запахи жареной с салом картошки, цыплёнка табака и марихуаны. Поднялся на самый верх, дважды нажал круглую кнопку звонка.
– Буэнос диэс! – воскликнул Железный, впуская его внутрь.
– Ни хао! Уже почти ночес, – ответил Светлый. – Я вижу, ты уже основательно поддат, маэстро.
– Я не пью! – вскинулся Железный, и, вдруг, спросил: – А ты видел когда-нибудь морских черепах?
– Нет.
Железный печально улыбнулся:
– А я вот их периодически наблюдаю….
Тесная бежевая прихожая была завалена одеждой и уставлена обувью. Слева на лакированной тумбе размещались советские тёмно-синие весы с блестящими чашами и красной стрелкой под стеклом, а справа на стене висела отчеканенная на меди картина с кавказскими мотивами: обнажённая девушка, посыпанная то ли песком, то ли пеплом сидела, склонившись над коленями. Железный перехватил взгляд Светлого.
– На этих горских этюдах чувственность изображения оттеняется подразумеваемой строгостью нравов. Голая француженка Мане – просто кукла.
– Ничего не понимаю в морских черепахах и живописи, – улыбнулся Светлый. – Но девка на чеканке – чудо, как хороша!
– Волнует?
– Волнует.
– И меня волнует. И всех прочих, ну, может, кроме гомиков. Но волнует не так, как порно, или даже эротический постер. Неуловимо иначе. Именно этим искусство и отличается от Хастлера. Но ханжам не понять: они и в Венере Милосской видят, главным образом, сиськи. Я думаю, это от подавленной сексуальности и фиксации на анальной стадии психо-сексуального развития.
– К чёрту грязную свинью Фрейда, Железо. Я замёрз.
– Намёк понят, пошли.
В центре просторной студии стоял мольберт с полотном средних размеров, выхваченный из тьмы узким лучом рампового светильника. Впрочем, Город на картине настолько пропитался солнечным светом, щедро пролитым на него автором, что, казалось, может сиять и сам. Здесь, в тёмной мансарде под самой крышей унылого муравейника, посреди утопленной в густом Тумане зимней ночи, распахнулось окно в иной, солнечный мир, в такой, каким только мир и должен быть.
– Круто! – выдохнул ошеломлённый Светлый.
– Да уж, – Железный протянул ему гранёный стакан. – На вот, запей.
Светлый не глядя взял стакан, опрокинул в рот. Поморщился: разведённый ржавой водопроводной водой спирт с гидролизного завода. Он подошёл поближе, вгляделся в детали, в каждый мазок масла, густо положенного на холст. Шершавая, в маленьких трещинах сольфериновая черепица сочилась кирпичным теплом, золотые шпили нестерпимо слепили бликами, тёмно-зелёные шапки лип манили прохладой, голубые горы звали в дорогу.
Картина называлась «Город».
– Волшебная работа! – сказал, наконец, Светлый. – Правда, она будит такую яростную и беспросветную тоску, что хочется немедленно напиться в дым, – добавил он, оглянувшись на окна. Железный наполнил протянутый стакан из трёхлитровой банки с игривой этикеткой «Огурцы»:
– А говоришь, что не разбираешься в живописи.
– Спасибо! – раздалось слева сзади. – Лучшей оценки я не мог и желать. Именно из этой тоски работа и родилась.
Светлый обернулся на голос. Рядом стоял высокий человек в чёрном свитере с высоким горлом. Глядел прямо в глаза, без улыбки.
– А вот и автор шедевра! – воскликнул Железный.
– Знакомьтесь: это – Чёрный, это – Светлый.
Они пожали руки.
–Да мы, кажется, виделись уже, – пробормотал Светлый смутившись. – Великолепная работа, поздравляю. Просто круто.
– А как положено масло! – воскликнул Железный.
Чёрный поморщился, махнул рукой:
– Спасибо, польщён. А напиться, действительно, хочется.
– Так в чём проблема? Прозит!
– На здрави!
– Ура!
Зазвенели стаканы.
Людей в студии осталось не много. Человек пятнадцать небольшими компаниями расположились вдоль стен, заваленных мольбертами, холстами и прочей утварью художников. Из двух колонок не громко, но качественно тянуло Лед Зеппелин, в воздухе слоями плавал табачный дым. Кроме сияющего полотна, вся остальная студия терялась в полумраке. Это был особенный уют мягко освещённой театральной сцены, когда спектакль окончен, зрители с актёрами уже разошлись, а искусство осталось.
Чёрный сидел в углу на бордовом пуфике у низкого столика карельской берёзы, оглядывая зал усталым полководцем после славной виктории. Вечер прошёл хорошо. Всем пришедшим его картина понравилась, ему жали руку и горячо поздравляли. Это приятно щекотало тщеславие. Но подумалось, что главная часть этого слова – тщета. Пока работа писалась, он чувствовал себя подключённым к источнику высокого напряжения, по телу струились потоки лазурной энергии, а с кончиков пальцев слетали искры. Мир вокруг существовал постольку, поскольку был необходим холст, краски и то, что приходило, как озарение. Само его бытие оправдывалось лишь актом творения, загадка которого вызывала дрожь и трепет.
Не всё шло гладко. Материя сопротивлялась, доводила своей неуклюжестью до белого каления, так что несколько холстов, уже почти законченных, полетели в печь. Не один раз он порывался забросить всё к чертям, напивался до беспамятства, но утром опять вставал к мольберту. Там, на сером холсте медленно появлялся Город, который он любил, и которого не существовало в этом мире, наверное.
Теперь вот он: сияет в самом сердце зимнего мрака невозможным окном, и, глядя на него, хочется выброситься в окно возможное, за которым треклятый туман и отвратительные оранжевые пятна уличных фонарей внизу. Картина сделалась чужой, как ставший взрослым эгоистичный ребёнок, начавший жить своей свежей интересной жизнью, в которой отцу отведено почётное, но незавидное место обязательных скучных посещений.
А восторги…. Они быстро проходят. Остаётся память о жизни с электричеством на кончиках онемевших пальцев, и ожидание новой встречи с ней.
Жажда.
– Так вот, об искусстве, – вернул его в студию голос Железного. – Для чего, зачем этот дивный цветок распускается на грязной помойке нашего мира?
– Искусство, – отозвался Чёрный. – Заполняет пустоту внутри.
– Но искусство бывает разное, – возразил сидящий напротив Светлый.
– Так и пустота внутри бывает разная. Бывает такая, куда ничего кроме помоев и не льётся. Впрочем, вполне возможно, что это взаимопорождающие явления.
– А я считаю, что искусство должно быть утилитарным, – заявил модно одетый мужчина, которого все называли Мажор.
– В смысле: дырки на обоях Ван Гогом завешивать? – усмехнулся Чёрный.
– Если у тебя лавэ хватит, тогда, таки, да! – спокойно ответил Мажор. – Вообще же, Ван Гог – скорее для закусочной средней руки. И Де Га туда же, вкупе с Тулуз Лотреком и Сезанном. В центровой кофейне уже уместнее Сальвадор. В ресторации лучше средиземноморские пейзажи – улучшают аппетит. Ну, а для туалетной комнаты – маринисты.
Посмеялись.
Чёрный развёл руками:
– Масса народа как раз в такой базарной манере и работает. Один пишет для офиса, другой для сортира, третий в Ялте пейзажи толкает. Только к искусству это никакого отношения не имеет.
– Плохие пейзажи?
– Не плохие. Посредственные. Искусство нельзя творить с рыночной мотивацией. Вдохновение – не оргазм, его нельзя имитировать. К мольберту нужно вставать тогда, когда терпеть уже не можешь.
– Когда терпеть не можешь, нужно идти не к мольберту, а в туалет! – заметил со смешком Мажор, цепляя вилкой скользкий гриб.
Чёрный взглянул наверх: потолок медленно покачивался над головой. Неловкая пауза за столом разрешилась суетливой перепалкой Мажора и Железного, а он сквозь этот гвалт, сквозь Лед Зеппелин и звон стаканов слышал тиканье часов на противоположной стене. Каждая секунда маленьким золотым молоточком била в мозг, и он рассыпался под его ударами фиолетовыми брызгами. Шум в студии стал фоном вечного ритма, так что казалось странным, как люди слышат друг друга из-за этого грохота. В голове раскачивался огромный бронзовый маятник, покрытый причудливыми узорами патины, угрожая сокрушить череп. Мир закручивало в гигантский водоворот, поглощающий всё сущее. Каждое слово, оброненное за столом, вызывало рвотные спазмы. Он встал со стаканом в руке, ухватился за высокую спинку стула Железного, чтобы не упасть. Все замолчали.
– Что ж, это многое меняет, – рявкнул Чёрный, обвёл сидящих безумным ненавидящим взглядом. – Усралось нахер вам писать! – он выпил, размахнулся, и швырнул стакан в свою картину, распятую на мольберте в центре мастерской.
Светлый, сидевший через стол, неожиданно для себя схватил со стола блюдо с остатками нарезки, совершенно джекичановским движением отбил стакан в сторону. Тот отлетел в стену и разлетелся звонкими брызгами в полуметре от головы какой-то девчонки, которая и ухом не повела. Буквально: даже не вздрогнула.
– Жаль, – процедил Чёрный. – Ну, да ладно. Пользуйтесь. Можете в сортир повесить.
– Сдурел, что ли?! – воскликнул Железный.
Девушка в недоумении стряхивала с волос осколки.
– Я? – покачнулся Чёрный. – Я сдурел? А по-моему, так совсем не я. По-моему, дураки – вы! А ты – первый дурак! Неужели не ясно, что всё это вот, – он обвёл рукой неопределённый круг. – Всё это – дерьмо. Это болото, которое рано или поздно засосёт нас всех. Если уже не засосало. Город по крыши заполнен вонючим туманом, вы что, уже не замечаете? Принюхались? Люди превращаются в зомби со стеклянными глазами, им ничего не нужно, они живут рефлексами, как лабораторные свинки. Вы и сами уже почти превратились в них, но не хотите это признать, прикрывая животный позор обрывком загаженного листка элитарности. Помойная элита. Вы же гниёте заживо, но пальцем не хотите пошевелить, чтобы разобраться во всём этом бардаке! А я не хочу гнить, понимаете? Не хочу! – он хлопнул дверью.
– Перебрал, что ли? – промямлил Железный.
Светлый оглядел оставшихся, зацепившись взглядом за растерянную улыбку девушки у стены. Обернулся к картине, посмотрел на ослепительно сияющий шпиль ратуши. Сказал, ни к кому не обращаясь:
– А ведь он прав, – и вышел следом.
Мажор разлил по стаканам припасённый кальвадос:
– В сортир, не в сортир – посмотрим. Ты, брателла, – он повернулся к Железному. – Предложи ему за эту картину хорошую цену, да не скупись. Гордость гордостью, но надо же ему пить на что-то, да краски покупать.
* * *
Сложно найти в Тумане человека, если ты уже потерял его из вида. Тем более в ночном Городе, где извилистые улочки, подворотни, тупики и проходные дворы просто созданы для игры в прятки. Но Светлый почти бежал, надеясь на счастливый случай.
«Вначале было одиночество. И одиночество было у Бога. И одиночество было Бог» – так говорил Железный со слов Чёрного. И всё-таки, у каждого есть своё племя. Иногда оно рассеяно, как горсть пшеницы по ветру, но шанс встретиться есть всегда. А если ты нашёл в этой пустыне человека, то не имеешь права его терять, потому что другого шанса может и не быть, а скорее всего и не будет.
В темноте очередной подворотни шла какая-то нехорошая возня. Он остановился, прислушался. Тишину зимней ночи марали звуки глухих ударов в мягкое и живое, сдержанные возгласы.
– Гопьё поганое куражится, – пробормотал Светлый. – А не Чёрный ли там, часом?
Выхватив из кармана финку, он бросился в подворотню. Заводясь, словно волчара, унюхавший крови, рявкнул не своим, диким голосом первобытного воина:
– Всем стоять, суки! Руки в гору, мать вашу на выселки, стоять, я сказал!
– Шухер! – четыре тени метнулись прочь, в темноту.
Светлый сделал ещё пару шагов, убрал нож, зажёг спичку. Дрожащее пламя осветило Чёрного, скорчившегося на истоптанном, забрызганном кровью снегу. Чтобы привести его в чувство пришлось влить в горло водки из дедовской фляги с выпуклым охотником на тускло блеснувшем никеле. Чёрный закашлялся, потряс головой, застонал, сжимая её ладонями.
– Ну, что, живой?
– Не дождётесь! – просипел Чёрный. – А ты кто?
– Светлый. Я был на твоей выставке.
– Ну, уж и выставка…. Понравилось?
– Очень. Когда ты сбежал, я пошёл за тобой, думал, уже не найду.
– Вовремя нашёл, спасибо.
– Обращайтесь. На вот, глотни ещё, да пойдём к фонарю, осмотрим полученные повреждения.
– Кстати, а куда делась эта нежить?
– Гопники-то? А я их напугал, – он помог Чёрному встать, дотащил до ближайшего фонаря. В жёлтом свете осмотрел разбитое лицо.
– Ничего, останешься красивым. Зубы целы?
Чёрный поводил во рту языком:
– Вроде, да.
– Ну, и то хорошо. На вот, утрись!
Чёрный послушно взял пригоршню чистого пушистого снега, приложил к пылающему лицу. Снег таял, стекал между пальцев алыми каплями.
– Ты далеко живёшь? – спросил Светлый.
– Рядом.
– Тогда пошли, помогу добраться.
Минут через десять они остановились у подъезда. О дверь тёрлась рыжая кошка. Чёрный открыл ей.
– Чаю хочешь?
Светлый махнул рукой:
– Да какой чай, поздно уже! Точнее рано. Устал я. Ты до квартиры дойдёшь?
– Дойду, куда я денусь. Спасибо, что дотащил!
– Сочтёмся ещё.
– Ты, кстати, завтра занят?
– Да нет, – он вдруг рассмеялся. – Ты что, на свидание меня приглашаешь?
– Ага, – усмехнулся разбитыми губами Чёрный. – Прямиком в бар «Голубая устрица»! Как насчёт по пиву?
– А легко! Где?
– На площади у Ратуши есть неплохая пивная, там и встретимся.
– Сговорились. Давай, до завтра! Удачи!
– И тебе.
* * *
Наступившее утро ничем не отличалось от скучной вереницы уже прошедших. Терпкий чабрец из чашки, бутерброды, невнятное радио.
Зимнее солнце встает поздно, нехотя, после людей. Вот и сейчас свет падал через кухонное окно не в дом, а наоборот, выхватывая из темноты ветви дерева и клубы Тумана: они медленно поднимались, опускались, ворочались. Иногда эта дышащая серость казалась одушевлённым, разумным существом, космическим пришельцем, который мягко, но настойчиво налаживает контакт с аборигенами. Но аборигены его либо не замечают, либо яростно ненавидят.
Тонкий фарфор в руке согревал, дурманил запахом диких трав далёких лугов. Зима – время торжества муравья над стрекозой. То, что в июле сорвано обветренными руками высоко в горах, у самых облаков, высушено в печном тепле старой хибары гостеприимных егерей, прилепившейся ласточкиным гнездом к скале над обрывом – теперь отдаёт лето терпеливому, и дарит надежду, что зима – это не навсегда.
– К чему прилетают чёрные птицы с умными глазами, а? – спросил Светлый у отражения в тёмном стекле. Отражение пожало плечами, недоумённо приподняло бровь, отсалютовало.
Что-то изменилось в мире. Будущее, совершенно не похожее ни на что уже виденное, рождалось прямо сейчас, из тонкой ткани обыденности. Одни складки расправлялись, другие появлялись, но пока ещё настолько мелкие, что не разглядеть, а только почувствовать, как начала струиться материя во всех измерениях сразу.
Столько восходов, столько обманутой надежды….
Светлый осторожно поставил чашку на край стола, бесшумно вернулся в комнату. На детской кровати у стены сладко сопел, смешно вытянув шею, младший брат. Светлый вздохнул. Не любить этого тёплого ангела невозможно, а как быть, если он – живое продолжение мерзкого, постыдного предательства отца? Пусть он родился у мачехи, не важно, жизнь – долгая и странная штука, в ней случается всякое. Но он родился через пять месяцев после смерти мамы. Светлый видел, как она таяла. Всегда быстрая и озорная, мама превращалась в грустную улыбку. Прозрачные руки скользили по стене, когда она в три приёма, останавливаясь отдышаться, добиралась до кухни, чтобы приготовить им с отцом обед. Потом обеда не стало.
Теперь мама лежит под землёй на окраине Города и улыбается.
Светлый поправил сползшее одеяло в бежевых мишках, постоял немного в сонной мягкой тишине, затем быстро собрался и вышел.
«Удивительно нелепая судьба у этих рыб,» – думал Светлый, с треском сдирая покрытую изморозью соли чешуйчатую шкуру с куска леща. «Рождаются из маленькой прозрачной икринки, растут, выживают один из тысячи, греются пугливыми стайками на мелководье, плавают среди нежных водорослей в прозрачной полутьме. Всю жизнь молча. Шевелят плавниками, смотрят на 360 градусов. Потом р-раз: боль, сталь в нёбе, неожиданно прозрачный мир, ужасный вес беспомощного тела, всё гаснет вокруг. И вот сухие рёбра торчат колючими шпагами. Вкусно, конечно, но до чего пошлый, бессмысленный замысел!»
Напротив тяжело опустился Чёрный. Его правый глаз заплыл, разбитые губы распухли.
– Привет, я опоздал, прости, – он протянул руку над лакированными плахами соснового стола.
Светлый сунул в ответ сжатый кулак:
– Руки в рыбе. Привет.
Чёрный пожал тонкое запястье, брезгливо покосился на пиво:
– Сегодня нужно пить коньяк.
Светлый отправил в рот солоней соли кусок, прожевал не спеша, с удовольствием запил горьким из запотевшей кружки.
– После вчерашнего, пиво – в самый раз. Как самочувствие?
– Соответственно. Нога ломит, и больно улыбаться. Но глотательный рефлекс в норме. И всё же коньяк.
Светлый тщательно вытер руки салфеткой:
– Коньяк, так коньяк. Я возьму, – он хотел встать, но Чёрный остановил его.
– Не здесь.
– Не здесь? Почему?
Чёрный рассмеялся:
– Всему свыше назначено своё место и время. Сегодня – не здесь. Здесь, может быть, завтра. В двух шагах отсюда – то, что надо. Идём?
Светлый взглянул на недопитое пиво, на недоеденного леща, на Туман за окном; махнул рукой:
– А, чёрт с ним, идём!
Пока шли, повисло неловкое молчание. Светлый чувствовал себя не уютно, он не переносил такие моменты. Право на молчание нужно заслужить.
– Тебе какие художники нравятся? – спросил он, нащупывая почву и наводя мосты.
– Художники мне вообще не нравятся, – не задумываясь, ответил Чёрный. – Сплошь задаваки с комплексом непризнанного гения. Мудаки, словом. А работы… Мне нравится Левитан. Удивительный художник. Шишкин, Айвазовский – невероятно чистое, сильное письмо. Ну, Ван Гог, Дега… Да много кто. Но ты ведь для поддержания разговора спросил, так ведь?
Светлый смутился, но запираться не стал:
– В общем, да. Но всё равно интересно. А критерии?
– Самый надёжный критерий: «нравится – не нравится». Это как с пищей: природа наградила нас великолепной защитой: плохо пахнет – не ешь. Мне могут долго объяснять, что хотел сказать модный автор, наблевав на холст, но я – за прямой диалог со зрителем. Если я вижу на холсте дерьмо – мне не нужны объяснения.
– Убедительно. А критика?
– Критика – это когда одни жулики убеждают других, что те не прогадали, купив поделку у третьих. Ну, да и хрен с ними, мы пришли, – он отворил дверь, и они оказались в гастрономе.
– За мной, – вполголоса сказал Чёрный, делая шаг на узкую лестницу с давным-давно некрашеными обшарпанными ступенями, ведущими на террасу, которая опоясывала торговый зал под потолком. На ней располагались пожелтевшая стойка и столики, что были заведены когда-то на вокзалах и в рюмошных: для того, чтобы выпивать стоя.
– Странно, пробормотал Светлый. – Сколько раз бывал в этом магазине, а буфета даже не замечал.
– Я и сам оказался здесь совершенно случайно. Зашёл за хлебом, а на меня свалился с лестницы перебравший абориген. Ступени видел, какие крутые? Тоже «критерий». Слишком пьяный не поднимется, да и для поднявшихся острастка. Правда, кого когда пугала перспектива упасть из под потолка, когда море по колено. Пойдём, с меня причитается.
Они взяли гранёные стопки, белое блюдечко в васильках с крепкими влажными ломтиками лимона, встали к столику у круглого, основательно запылённого окна в полстены. Других посетителей в бистро под потолком не было.
Сделав глоток, Светлый поморщился:
– А почему именно коньяк?
Чёрный надкусил лимон, брызнувший нестерпимо кислым по языку, сделал ещё один обжигающий глоток, зажевал горькой цедрой.
– Каждому человеку в этом безумном мире ускользающих перемен, способных своей калейдоскопической круговертью снести крышу даже самых стабильных пациентов, нужно что-то стабильное. То, что не меняется никогда. Твёрдая почва. Стратус.
– Коньяк – стратус? – рассмеялся Светлый.
– Для кого-то это может быть Ветхий Завет, – серьёзно заметил Чёрный. – Для меня вся стабильность, что существует в мире, заключена в коньяке. Всё на свете изменчиво – так утверждают Мудрые. И в одну реку нельзя войти дважды. Особенно в Лету, – он улыбнулся. – Только вкус коньяка не меняется, в какие бы реки тебя не занесло. Это успокаивает, – он залпом допил.
Светлый с сомнением глянул в свою стопку, взболтал янтарную жидкость:
– По-твоему, это – хороший коньяк? Вот это, что нам налили в этой дыре?!
Чёрный снова улыбнулся:
– Да плевать я хотел в то, что нам здесь налили! Коньяк не нуждается в определениях. Коньяк – как друг. Сегодня он может быть «Хеннесси», а завтра – «Лезгинка», главное, что он тебя не предаст. Ты его можешь предать, а он тебя – нет. Вот так!
– Ну, хорошо, теперь я возьму по стабильности, – Светлый отправился к стойке.
– Давайте повторим, – обратился он к грузной женщине в несвежем халате, поджавшей губы при его появлении.
– И лимон?
– И лимон, – махнул рукой, как бы восклицая по-гусарски: «Гулять – так гулять!»
Шутку не оценили. Продавец терпеть не могла пьяниц и свою работу.
– Знаешь, чего я больше всего боюсь? – спросил Чёрный, когда Светлый вернулся за столик.
– Разучиться творить?
Чёрный поморщился.
– Нет, творить – это такой дар, который обратно не забирают. Ты можешь попытаться забыть о нём, но тогда он выжжет тебя изнутри. Я боюсь однажды проснуться, и перестать видеть эту серую дрянь, – он, не глядя, указал рукой с крепко сжатой стопкой на пыльный круг окна, за которым проплывали белёсые космы Тумана.
– Так ты же сам говорил… – начал Светлый.
– Ай! Говорил! Я говорил о том, что мечтаю о дне, когда Туман исчезнет из города, а не о том, чтобы перестать его видеть! Вот они, – он ткнул стаканом вниз, на снующих покупателей. – Или она, – стакан метнулся к продавщице, плеская. – Ни черта же не видят. Пьют, жрут, детей рожают – и всё. Хоть Туман, хоть дождь из черепах.
– А мы?
– А мы хотим чего-то большего! Видеть мир, как он есть. Я хочу жить в Городе, который нарисовал, хотя и не видел его таким никогда. Но ты ведь видишь Туман?
– Я вижу.
– И я вижу. И превращаться в свинью у корыта не желаю. Точнее, не смогу. Такого дара у меня нет.
– Жалеешь?
Чёрный тряхнул давно не стриженой головой:
– Иногда да. Может быть, и не иногда. А что толку? Однажды видевший море не сможет его позабыть. Можно помечтать о тихой жизни среди фарфоровых слоников, но не будет им от меня счастья!
Светлый поднял стопку:
– К чёрту слоников! За удачу!
– За удачу!
Они выпили, закусили сводящим скулы лимоном, который снова захотелось запить чем угодно, пусть даже этим резким дешёвым бренди из дагестанской глубинки. Замолчали.
Чёрный подошёл к ограждению, посмотрел на торговый зал, на снующих внизу людей. Никто не замечал его, все занимались своими делами. А он хотел докричаться до каждого, быть этим каждым понятым и принятым. Если же нет, то тогда и ему не нужен никто, пусть провалятся сквозь землю, и магазин этот чёртов пусть с собой заберут.
Мальчик лет пяти в голубом комбинезоне и сползшей набок цветастой шапочке замер перед витриной, даже рот открыл от изумления. В витрине выставлялась свиная голова. Огромная, с бугристой жёлтой кожей. Смерть обескровила и обездвижила пятачок, зажмурила маленькие быстрые глазки, но сама таращилась на мальчика в упор. Ему было и жутко и интересно. Хотелось дотронуться. Может быть, даже посмотреть на убийство. Увидеть, как отрежут голову. В то же время, он до слёз жалел животное, которое никому не сделало зла.
«Он увидит смерть, болезни, страдание, и станет величайшим Учителем» – вспомнил Чёрный. К витрине подошла расплывшаяся тётка в некрасивом коричневом пальто с меховым воротником, утащила упирающегося Будду прочь.