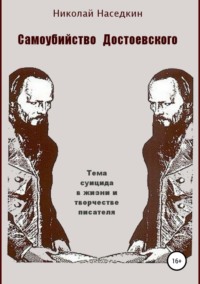
Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и творчестве писателя
Таким образом, совершенно ясно, что восклицание-удивление князя Мышкина: «Странно, что редко в эти самые секунды в обморок падают!», – вырвалось у него отнюдь не случайно. Вернее, вырвалось-оформилось оно у автора: в течение восьми месяцев заключения, во время ночных мучительных бессонниц и дневных последопросных тягостных размышлений он, вероятно, не раз представлял-боялся, как «в эти самые последние секунды» не выдержит и грохнется по привычке в обморок прямо на эшафоте. Воистину, не смерть страшна – позор предсмертный. Между прочим, герой «Последнего дня приговорённого к смерти» тоже боится, уже перед эшафотом, что упадёт в обморок и добавляет уничижительно – «последний проблеск тщеславия!»[76]
Обморочные опасения Достоевского имели основания ещё и потому, что обмороки в то время почти всегда у него были напрямую связаны со смертью, предсмертью, были как бы предвестниками, прелюдией смерти. Эпизод с похоронной процессией в этом плане чрезвычайно красноречив. Ну, а кроме того, и сам Достоевский, уже на склоне лет, вспоминая о своей юношеской поре в разговоре с Вс. С. Соловьёвым (причём в первую же встречу!), признался, что ещё до каторги был подвержен тяжкой нервной болезни, и когда наплывал-накатывал приступ – реальность для него исчезала и, казалось, наступала смерть, «настоящая смерть приходила и потом уходила»[77].
Теперь – насчёт «железо склизнуло». Самому писателю, как уже упоминалось, наблюдать гильотирование не приходилось, но, судя по рассказу-описанию героя «Идиота», испытать – и, вероятно, не единожды – чувства человека, лежащего под ножом гильотины, писателю довелось. Речь, конечно, идёт о тех «болезненных сновидениях», которые мучили его в каземате в ожидании приговора – подробности «Последнего дня приговорённого к смерти» Виктора Гюго, прочитанные-перечитанные и прочувствованные до нервного потрясения, наверняка аукались в ночных кошмарах. Достоевский вообще всю свою жизнь был подвержен ночным кошмарам, так что и во время работы над «Идиотом» вполне мог видеть-переживать вновь и вновь в удушливых сновидениях сцену гильотирования, тем более, что он внимательно читал газеты, а в них постоянно печатали подробности казней через гильотину, которых случались-происходили во Франции в тот период, можно сказать, регулярно. Недаром князь Мышкин признаётся, что уже месяц прошёл после того, как он казнь видел, а она ему снится и снится. Впрочем, Достоевскому, с его гениальным творческим воображением, ничего не стоило и без всякого сна, как бы наяву, вообразить-испытать самые мельчайшие детали-подробности чужой смерти, описывая-воссоздавая её пером на бумаге. В этом плане он умирал многажды вместе со своими героями, в том числе и – самоубийцами…
Однако ж, не стоит опять забегать вперёд. Осталось в приведённом фрагменте рассказа Мышкина обратить внимание ещё на один штрих – на то место, где князь рассуждает о жизни-сознании отрубленной головы ещё в течение секунды, а то, может быть, и целых пяти. Герой повести В. Гюго, представляя-переживая свою уже близкую казнь заранее, в минуту слабости ужасается последнего мгновения, последней полсекунды: «Ничего страшного! Полминуты, нет – полсекунды, и всё кончено. А тот, кто так говорит, поставил ли себя даже мысленно на место человека, на которого падает тяжёлое лезвие и впивается в тело, разрывает нервы, крушит позвонки?.. Как же! Полсекунды! Боль не чувствуется… Какой ужас!..»[78] Мышкин (Достоевский) идёт дальше, он ставит себя мысленно на место человека, голова которого уже отскочила, но человек ещё пять секунд жив – вот где ужас-то! Ещё несколько секунд после момента смерти человек, его мозг, знает, что смерть наступила, что он уже находится по ту сторону, и никакой надежды уже не только нет, но и быть не может. В тех десяти минутах, что выдержали петрашевцы в ожидании команды «Пли!», надежда всё-таки оставалась (и оправдалась!), а вот Достоевскому весь ужас пяти секунд уже после казни, настоящий порог между жизнью и смертью, предстояло впоследствии переживать-испытывать многократно, каждый раз перешагивая этот порог во время припадков эпилепсии.
22 февраля 1880 года автор «Идиота» участвует в публичной казни – второй и последний раз в жизни: 22 декабря 1849 года он был казнимым, теперь, менее чем за год до смерти, – свидетелем-зрителем. Всё на том же памятном ему Семёновском плацу казнили через повешение Млодецкого, совершившего за два дня до того неудачное покушение на главного начальника Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия графа Лорис-Меликова. Достоевский, скорее всего, надеялся, что и Млодецкому, как петрашевцам когда-то, как Ишутину в 1866-м, в последний момент величайшею милостью даруют жизнь. Но палач из-под ног Млодецкого скамью безжалостно выбил, и тело преступника закачалось-задёргалось. Самое ужасное и запредельное состояло в том, что Млодецкий содрогался в конвульсиях и умирал в петле целых 12 (двенадцать!) минут – 24-летний государственный преступник никак не мог и не желал переступить роковой порог. Какие там пять секунд! Если б впечатлительный князь Мышкин присутствовал на казни Млодецкого, он бы, вероятно, тут же и сошёл с ума окончательно. Достоевский несколько дней после 22 февраля был болен, крайне раздражён, угрюм и постоянно в разговорах со знакомыми возвращался и возвращался к чудовищной сцене недавней казни на Семёновском плацу.
В декабре 1867 года, работая над первыми главами «Идиота» – сценами приезда князя Мышкина в Петербург и визита его в дом Епанчиных, – писатель имел только свой опыт десятиминутного ожидания расстрела, читательский опыт «Последнего дня…» Гюго и газетных отчётов о казнях с применением гильотины. Героя романа особенно занимает-тревожит чудовищная, с точки зрения нормального человека, мысль: что лучше – медленно или быстро казнить-убивать человека? Причём, стоит вспомнить, такую запредельно философскую и этическую проблему Мышкин обсуждает с лакеем. На вполне праздный вопрос последнего – кричит или не кричит казнимый в последний момент? – князь возбуждённо рассказывает-вспоминает:
«– Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно… Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно!
… Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах… Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил – плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребёнку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. (Не есть ли эти рассуждения отголоском опасений 27-летнего больного нервами Достоевского, представлявшего-планировавшего во время ночных казематных бессонниц своё поведение после объявления приговора? – Н. Н.) Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог её доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: “не убий”, так за то, что он убил, и его убивать? (А уж какое надругательство над душой, надо понимать, если не за убийство даже, а только за чтение вслух письма одного литератора к другому! – Н. Н.) Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось …
– Хорошо ещё вот, что муки немного, – заметил он (Лакей. – Н. Н.), – когда голова отлетает.
– Знаете ли что? – горячо подхватил князь: – вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрёшь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладёшь под самый нож и слышишь, как он склизнёт над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. … Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно ещё надеется, что спасётся, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он ещё надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. … Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “ступай, тебя прощают”. Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!..»
Думается, если бы Достоевскому довелось в художественном произведении описывать казнь Млодецкого (например, в продолжении «Братьев Карамазовых», где он, по утверждению А. С. Суворина[79], собирался сделать Алёшу революционером и «казнить»), он вряд ли стал бы возвращаться к вопросу: что мучительнее – быстрая или продолжительная агония? И, конечно, нельзя не заметить, что концовка беседы князя с лакеем имеет автобиографическо-реалистические корни: действительно, не каждый способен вынести ожидание приговорной смерти и, утверждая это устами своего героя Мышкина, писатель помнил-вспоминал, без сомнения, судьбу петрашевца Н. П. Григорьева, который после десяти минут на эшафоте сошёл с ума. Впрочем, и у самого Достоевского, надо полагать, после утра 22 декабря 1849 года нервная система, организм полностью и окончательно сформировались (вернее – деформировались) для развития-появления эпилепсии. Ну, а предположение князя, что только человек, стоявший на эшафоте и сам переживший ужасные десять минут, способен рассказать-поведать об этой муке – как раз в романе «Идиот» и воплотилось-реализовалось фактически и натурально. Нельзя забывать, что до петрашевцев подобных инсценировок казни не было, так что ужас и муки ожидания смерти испытали они в полной мере и до конца. Даже Иисус Христос, в какой-то мере, не выдержал – о чём и упоминает Мышкин (Достоевский) – и даже ещё до вынесения смертного приговора, но уже зная о нём, признаётся ученикам, что душа Его «скорбит смертельно» и молит Бога-Отца: «да минует Меня чаша сия…»[80]
Вообще-то странным, на первый взгляд, выглядит то, что Мышкин, едва войдя в дом Епанчиных, всё говорит и говорит о казнях. Ну, ладно бы ещё о сцене гильотирования, которую он видел-наблюдал всего лишь месяц назад и которая мучит его до сих пор в сновидениях. Но зачем он ещё и вспоминает вдруг о рассказе «одного человека», который выдержал на эшафоте несколько минут и был помилован?.. Однако ж, странность эта в какой-то мере стушёвывается, если знать-помнить, что данная (5-я) глава «Идиота» писалась-создавалась Достоевским во второй половине декабря 1867 года, а конкретно этот рассказ князя, не исключено, – именно 22 декабря, аккурат в 18-ю годовщину мрачного события на Семёновском плацу. Ну никак не мог бывший петрашевец не вспоминать то судьбоносное пороговое утро, не мог вновь не увидеть, не пережить те десять минут в воображении, в ночных кошмарах. И эти давние впечатления не могли не выплеснуться на бумагу, дабы облегчить обременённую память.
Но вот что ещё удивительно: сперва князь начинает рассказывать дамам совсем о другом человеке, который «просидел в тюрьме лет двенадцать», у него были «припадки, он был иногда беспокоен, плакал и даже пытался раз убить себя…» Добавив ещё пару подробностей, Мышкин вдруг обрывает эту историю и перескакивает: «Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком…» Право, очень и очень странно и загадочно! Такое впечатление, будто бы герой романа упомянул о заключённом-эпилептике, пытавшемся покончить с собой, только для того, чтобы через сто с лишним лет какой-нибудь исследователь творчества Достоевского соблазнился и констатировал, мол, сам писатель, находясь в каземате Петропавловской крепости, пытался наложить на себя руки.
Или, по крайней мере, думал-мечтал об этом…
3
Но пора, наконец, вчитаться в самые полные и подробные воспоминания Достоевского об утре 22 декабря 1849 года в изложении-пересказе героя романа «Идиот»:
«Этот человек был раз взведён, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но однако же в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут, или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрёт. … Он помнил всё с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. (И это так, но вот количество эшафотных минут почему-то всё время меняется-варьируется, и это наводит на мысль, что для Достоевского время в тот момент совершенно изменило ход, стало неподвластно обычному учёту-исчислению, как перед эпилептическим припадком, когда, подобно Магомету, возможно за секунду осмотреть-изучить все просторы рая. Далее рассказчик-воспоминатель в романе, как мы увидим, и вовсе начинает распоряжаться временем, растягивать и уплотнять минуты, словно согласуясь с будущей теорией относительности Эйнштейна, до бесконечности. – Н. Н.) Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые, длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. (Сам Достоевский на эшафоте стоял шестым и попадал во вторую очередь вместе с Дуровым и Плещеевым. – Н. Н.) Священник обошёл всех с крестом. Выходило, что остаётся жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживёт столько жизней, что ещё сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он ещё распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты ещё положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. … Он умирал двадцати семи (! – Н. Н.) лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. (Зафиксированы в мемуарах два мини-диалога Достоевского на эшафоте и оба отнюдь не на постороннюю тему. «Не может быть, чтобы нас казнили», – сказал он Дурову, а тот молча указал рукой на телегу, покрытую рогожей, полагая, что там лежат гробы – на самом деле там оказались арестантские костюмы. А к Спешневу Достоевский, вспомнив-упомянув перед этим «Последний день…» Виктора Гюго, обратился с полувосклицанием-полувопросом по-французски: «Nous serons avec le Christ» – «Un peu de poussiere»[9], – ответил тот с безобразной усмешкой[81]. – Н. Н.) Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чём он будет думать: ему всё хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живёт, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, – так кто же? Где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольётся с ними… Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжело, как беспрерывная мысль: “Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И всё это было бы моё! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счётом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!” Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтоб его поскорей застрелили…»
Что это предсмертные мысли самого Достоевского легко подтверждается строками из его письма к брату, написанному вечером того же дня: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить; как не дорожил я им…»
И, между прочим, оборвав неожиданно и этот рассказ, Мышкин на вопрос Аглаи, зачем же он всё это поведал им, утверждает, что ему случайно этот чужой рассказ припомнился, вдруг, к разговору, и признаётся, опять же, что он «сцену эту во сне видел, именно эти пять минут видел…» Ну не подтверждается ли этими заявлениями героя романа предположение, что в момент работы над этой главой в очередную годовщину со дня казни петрашевцев Достоевский о ней вспоминал и даже вновь пережил эти «пять минут» во сне?
Люди, не очень сведущие в литературе, считают Достоевского писателем жестоким, тяжёлым, мрачным, пугающим, мучительным и любителем патологического натурализма. Ну можно ли, считают подобные читатели, так подробно и с такими ужасными угнетающими психику подробностями описывать сцену казни?.. Что ж, стоит привести здесь небольшой отрывок, как бы для сравнения-сопоставления, из текста «Последнего дня…» Виктора Гюго – прозаика-романтика и поэта:
«…в конце сентября месяца в тюрьму, к одному заключённому, спокойно игравшему в карты, явились с заявлением, что через два часа он должен умереть; человека охватила дрожь – полгода о нём не вспоминали, и он считал, что страшная кара миновала его; его обстригли, обрили, связали, исповедали, затем посадили на телегу и с четырьмя жандармами по бокам повезли сквозь толпу зевак на место казни. До сих пор всё шло, как обычно, как полагается. Около эшафота палач принял страдальца из рук священника, втащил его на помост, привязал к доске, – говоря языком каторги, «заложил в печь», – и спустил нож. Тяжёлый железный треугольник с трудом сдвинулся с места, ежесекундно застревая, пополз вниз и – вот где начинается настоящий ужас – не убил, а только поранил несчастного. Услышав его отчаянный крик, палач растерялся, поднял нож и опустил снова. Нож вторично вонзился в шею мученика, но не перерубил её. К воплям несчастного присоединились крики толпы. Палач опять подтянул нож кверху, рассчитывая, что третий удар окажется успешным. Ничуть не бывало. Кровь в третий раз хлынула из шеи приговорённого, но голова не отлетела. Короче говоря – пять раз поднимался и опускался нож, пять раз вонзался в шею приговорённого, и после каждого удара приговорённый испускал отчаянный вопль, дёргал всё ещё не снесённой головой и молил о пощаде! Народ, не стерпев этого издевательства, принялся забрасывать палача камнями. Палач соскочил с помоста и спрятался за лошадьми жандармов. Но это ещё не всё. Осуждённый, увидев, что он на эшафоте один, насколько мог поднялся с доски и, стоя так, страшный, залитый кровью, поддерживая наполовину отрубленную голову, которая свешивалась ему на плечо, чуть слышным голосом умолял отвязать его. Толпа, исполнившись сострадания, собралась было оттеснить жандармов и спасти страдальца, пять раз претерпевшего смертную казнь, но в этот миг подручный палача, малый лет двадцати, поднялся на эшафот, велел приговорённому лечь ничком, чтобы удобнее было отвязать его, а сам, воспользовавшись доверчивостью умирающего, вскочил ему на спину и принялся неумело перерезать остаток шеи чем-то вроде кухонного ножа…»
Но и это ещё не всё, можно повторить вслед за Гюго, ибо далее он кратко, но не менее впечатляюще приводит ещё одну запредельно ужасную сцену: «Три месяца назад в Дижоне казнили женщину. (Женщину!) И на этот раз механизм доктора Гильотена действовал неисправно. Голова не была отрублена сразу. Тогда подручные палача ухватили женщину за ноги и, под отчаянные вопли несчастной, до тех пор дёргали и тянули, пока не оторвали голову от туловища…»[82]
Достоевского, судя по всему, привлекли не эти действительно шоковые и предельно натуралистические сцены из предисловия Гюго к своей повести «Последний день приговорённого к смерти», а сама повесть, где сцена казни вовсе не описывается и действие заканчивается, когда герою-смертнику остаётся ещё несколько мгновений жить, и он всё ещё надеется каким-нибудь чудом спастись. В сценах из предисловия всё описывается с точки зрения зрителя (как позже и у Тургенева в «Казни Тропмана»), в самой же повести передано-показано внутреннее состояние героя, его мысли, его восприятие происходящего, его внутренний мир, переживающий смертельную катастрофу. Такой способ-метод письма рассчитан не на внешний эффект, не на щекотание нервов читателя, а на сопереживание, на раздумья, на, если угодно, философские размышления о жизни и смерти, о конечности собственной судьбы, о своём поведении в подобной – эшафотной – ситуации хотя бы гипотетически. Думается, и юный Достоевский (впервые познакомился он с «Последним днём…», скорей всего, когда ему не было ещё и семнадцати – в письме брату Михаилу от 9 августа 1838 года он утверждает, что прочёл всего Виктора Гюго, кроме «Кромвеля» и «Гернани»), с его талантом вживаться в чужой мир, перевоплощаться внутренне в героя произведения, когда поглощал-впитывал повесть французского писателя, – полностью отождествлял себя с приговорённым, воображал как бы въяве своё восхождение на эшафот. Мог ли он тогда предполагать, что через каких-нибудь десять лет он сам в полной мере испытает-прочувствует лично состояние последнего дня приговорённого к смерти! Совсем не случайно он вспоминает об этой повести Гюго прямо на эшафоте, перед казнью, ещё не зная о помиловании, и практически цитирует дословно отдельные строки из неё в письме брату, написанном вечером того же судьбоносного дня 22 декабря 1849 года[83].
И, надо полагать, когда в 1860-м, уже имея за плечами этот личный эшафотный опыт, Достоевский ещё более пристально и пристрастно вчитывался в текст «Последнего дня…», когда просматривал и редактировал новый перевод этого произведения Виктора Гюго, сделанный (вероятно, по его же подсказке) братом Михаилом для журнала «Светоч». И его чрезвычайно высокое мнение об этом шедевре французского автора, никогда не стоявшего на эшафоте, не изменилось до конца жизни. Русский писатель будет вспоминать-упоминать о нём в дальнейшем и не раз в своих произведениях, «Дневнике писателя», письмах; эта повесть Гюго в какой-то мере аукнется в «Записках из Мёртвого дома», «Записках из подполья», «Преступлении и наказании» и особенно в «Кроткой», где в предисловии «От автора» Достоевский напрямую сопряжёт «фантастическую» форму своего рассказа с произведением французского писателя-романтика и именно здесь обозначит-назовёт «Последний день приговорённого к смертной казни» (так у Достоевского) шедевром и «самым реальнейшим и самым правдивейшим произведением из всех им написанных». Ну, а как повесть Гюго проросла в тексте «Идиота», речь у нас только что шла.
И. Волгин в книге «Последний год Достоевского» утверждает, что Достоевский трижды переживал смертную казнь: на эшафоте («изнутри»), в «Идиоте» («художественно») и зрителем на казни Млодецкого («со стороны»)[84]. Позволю себе здесь слегка подкорректировать выводы уважаемого достоевсковеда и учителя (в студенческие годы мне довелось посещать спецсеминар Игоря Леонидовича по Достоевскому), который сам же буквально за две страницы до того справедливо упоминает-подчёркивает способность писателя «вживаться в чужое состояние, в чужой психический мир, видеть в другом равноценное с собой бытие»[85]. Но, без сомнения, эта способность распространялась и на чтение-восприятие им чужих текстов (того же «Последнего дня…», «Казни Тропмана», газетных отчётов на темы казней), а уж при воспоминании об утре 22 декабря 1849 года он, совершенно бесспорно, переживал состояние казнимого, эти ужасные десять минут, каждый раз как бы заново от первой до последней секунды…