
Делириум
Иногда у Манчо наступал период схоластической тишины. Он изгонял всех своих поклонниц, исключением была только Стана Акобс. Он запирался в чулане, в гнезде из старого театрального тряпья. Он мог не выходить неделю. Только иногда благосклонно принимал от нас пищу.
Кончил свой жизненный путь Манчо достойно великого берсерка лесной опушки: он утонул в канализации. Пройдя через увлечение диким бизнесом, где он фигурировал как Манчо-Снежный барс, он стал диггером. Одно из погружений на дно московской клоаки закончилось фатально. Где-то прорвало форсунки, и неистовый водопад грязных вод забрал нашего Манчо к себе в царство Аида*. А ведь он был свидетелем у меня на свадьбе…
Стана Акобс была девушкой Манчо с большой буквы. И если он регулярно изменял ей телом, то душой – никогда, а такого тела хватало на всех.
Она была тихая и резкая. Она не заплачет, просто возьмёт мачете и разрубит обидчика пополам, с ангельским ликом, длинными волосами и длинными-предлинными юбками.
Наконец, апартаменты Эда Гималайского – хозяина, благодетеля, нашего доброго гения. Эд носил длинные неаккуратные волосы, всегда сильно лакированные. Из гнезда волос торчал только длинный нос и почему-то щёчки. Носил он гимнастёрку старого образца, доставшуюся ему в армии как модный неуставной продукт. Эд сутулился и как-то нависал над полом своими длинными перстами, казалось, он не в фокусе или силы гравитации ему мешают, все время опрокидывают нашего барина. При всём своём несуразном виде Эд не был никаким панком. Он был высочайшей пробы эстетом. Он смотрел, искривившись, в потолок. Он мечтательно закатывал глаза и вздыхал о каждой покрытой исторической пылью спинке стула.
В святую комнату Гималайского можно было попасть только по особому приглашению, с высочайшего соизволения. Берлога была абсолютно другой планетой, в другой галактике и в другой вселенной. Золотая шкатулка в пыльном, потертом сундуке – дворец среди руин. Окна укутывали тяжёлые, из зелёного бархата портьеры с кистями. На покрашенных лазурью стенах пускали лучи древние гравюры и живопись великих. Комод, горка, стол времён Людовика XIV и сотни предметов, начиная от меча Зигфрида* и заканчивая китайскими костяными шарами*. В глубине в цветном полумраке нога на ногу, в позе Бердслея*, в клубах дорогого табака клубился наш Гималайский – одетый в махровый халат, брошенный императором Наполеоном в Москве. У него всегда были запас дорогого западного бухла и связка сигар.
Когда мы были не совсем пьяны, старались беречь хозяина. Но часто табор терял тормоза, и дворец Шахерезады подвергался монголо-татарскому нашествию. Однажды в замочную скважину мы застукали Эда, когда он раскидывал деньги и самозабвенно кружился в этом вихре царя Соломона*.
На самом деле я очень люблю Эда и по сей день, при всей его мультяшности он был нашим благодетелем. Пустил такую ораву подонков к себе в апартаменты, обогрел и накормил.
И вот я буквально вчера назначил ему свидание и интервью. А сам к вечеру ужасно набрался, и интервью не получилось…
Вот его огрызки!
2. Эд Гималайский.
Эд родился на Арбате, и когда ему исполнился годик, Эдик переехал в Чистый переулок. В большой коммуналке справа жили замечательные люди, слева замечательные люди, а по центру – алкаши, люди из тяжёлой реальности с «нормальными детьми» – бандитами, хулиганами. Тогда ещё жил в квартире владелец всего дома. То есть тот великий человек царских времен, дружок Булгакова. Он занимал самую большую комнату.
То есть комнату, в которую заселился я с Шульцем.
Седовласый, породистый мужчина с прекрасным набором древних вещей на своей урезанной жилплощади. Он умер, когда мне было восемь лет. Единственное прекрасное воспоминание – это сказочная обстановка старого чёрного дерева, с уникальными предметами и с потрясающей живописью на стенах.
– Я трогал это чёрное дерево и малых голландцев на стенах. В этой комнате было ощущение готики – много пыли покрывало прекрасную антикварную мебель. Волшебный запах старого антикварного магазина, в который почти никто не ходит.
– Простая история – почему я никогда не ем рыбу. Было мне тогда шесть лет, и, вернувшись из детского сада, я сел что-то поесть в комнате своей. И вдруг – крики, ужас, семья алкашей фактически подняла квартиру на дыбы. Оказалось, что мужичок крепенький заглотил селёдку целиком – с костями, шкурой и головой. Алкаши никак не могли её достать обратно.
А я – маленький ребёнок… Все тянут её обратно, кости встают поперек – полнейший ужас… Мне было так страшно, что с этого момента я перестал есть рыбу. Он, конечно, не помер. Как умрёшь, если ты выпил целый жбан!? То ли кошки с чёрного хода съели селёдку у него в глотке, то ли жена достала…
– На самом деле коммуналка не была развлечением. Был спокойный тихий быт. Тётушка с нами не жила. Она жила на Кропоткинской рядом с метро. У тётушки была тоже коммуналка, смешная, двухступенчатая, сложная, деревянная.
Мама была хорошим художником.
Старорежимный хозяин не поддерживал квартиру – боялся соседей, то есть всех нас. Иногда приглашал меня в свою комнату, показывал и разрешал трогать вещи, которые были для меня фантастичными. Как только он исчез, начался п…ц. Дальше покатилось всё по наклонной. Начались драки за эту комнату. Алкаши… То, что вы застали, – это уже были гоблины, то есть дворники, а не настоящие жильцы.
Когда мы заселились на Чистый, там ещё были последние жильцы. Через месяц они исчезли. Например, Валя Свиноподобный… Так вот: выясняется, что это были не настоящие жильцы, а незаконные дворники. Настоящие, видимо, давно уже наслаждались жизнью в Химках. Дело в том, что очень много лучших домов в центре в 90-е поставили на капитальный ремонт, а жильцов выселили. Перестройка, денег у города не было совсем, и дома много лет стояли пустыми, с подключёнными коммуникациями. Вплоть до XXI века…
Художникам повезло, они беззаветно жили и творили в нелегальных творческих коммунах, в центре города, неполные десять лет.
Мы застали Валю Свиноподобного, так его звали. Он что-то долго болтался у нас под ногами, пытаясь с нами дружить. Какой-то склизкий пузатый человек, просто крот. Потом сгинул в Балашихе. Плеер к нему ездил.
Про Плеера дальше…
Плеер иллюстрировал его книгу. Возможно, был Валя и не плох – писатель. Это мы, мы были мерзавцы – высокомерные художники, аристократы.
– У нас была вторая по размеру комната в этой квартире, с самым большим красивым окном на юг. Напротив жила старая семья, душевнейшая старая интеллигенция, жила прекрасная старушка и её дочь, без детей – печальная история. Они показывали мне работы Серова, показывали хорошие книги, сидела со мной старушка на широком подоконнике. Старушке лет под восемьдесят, а её дочери порядка шестидесяти. Они обе чудовищно пострадали от нашей страны…
Две комнаты, так называемые бабушкину и Манчо, занимала семья алкоголиков. Хорошие нормальные алкоголики. Старшего посадили, когда ему было пятнадцать. Младшего – в шестнадцать. Бегали с топором по коридору!
А дальше было интересно. Ползал на коленках. Натирал полы общественные мастикой. Это была, в принципе, очень приличная коммуналка. Потому что алкоголики! Была только одна семья, а приличных три!
В подъезде на приступках стояли вазы, были обширные подвалы, где сидели дворники. Когда ты входил в подъезд, ты встречался со стеной, сделанной из толстого монолитного стекла. Когда ты спускался вниз, ты попадал в дворницкую. Перед подъездом – английская история, дом совершенно английский. Он спроектирован и построен по классической английской схеме хорошего, невысокого, но очень дорогого доходного дома. Дальше мы поднимались по простой широкой лестнице, каждая дверь была в стекле, в слюде.
– Двери помнишь?! Были три с половиной метра. Слюдовая структура, зажатая в тончайшие деревянные рамочки. Уникальная вещь. Конечно, в совдепии это было частично выбито, забито картонками. Ты помнишь, какое было стекло?! Оно было непрозрачное, оно свет пропускало, оно было нормированное и при этом обладало фактурой. То есть оно было рельефно. Это тот самый дом, который описан в «Собачьем сердце». Это был действительно дорогой доходный дом до революции. Наша прихожая – там стояли сундуки. Мать была прекрасным художником: понимала и чувствовала красоту. Собирала вещи на свалках, покупала в антикварных магазинах у красноармейцев…
Так что же я рисовал, когда жил в коммуне в Чистом переулке? Тогда мы много экспериментировали и с техникой живописи, и с материалом, и с сюжетами картин. Может быть, это было в какой-то степени наивно, но точно искренне. Моей рукой водил метафизический космос, ангел высокого искусства стоял за моей спиной. Например, я брал холст два метра на полтора, рисовал на нём маслом жирно-жирно волшебницу Медею на жертвенном костре в наушниках, с приёмником Филипс – буквально выдавливал из тюбика все краски, бросал блинчики нитрокраски. Потом заливал это лужами уайт-спирита и приклеивал к этому цветному тесту слои полиэтилена. Потом это богатство сохло месяц. Затем я отдирал полиэтилен – на холсте оставались нежнейшие складки, лабиринты, уховёртки, многоножки и куколки и имаго – получался магический подмалёвок.
Тогда я садился и уже рисовал тонкими кисточками – наводил совершенные лессировки. Сюжетов было много: Иисус с Буддой под деревом Бодхи, Моби Дик в космосе проглотил Иону, голая истина на дне колодца, «Мне не спасти всех зайцев и не накормить всех волков», «Хлопок – одной ладони».
Я рисовал средневековый город в плену марсиан. Думаю: «Как бы это всё уконтрапупить брутально!?».
Работал я на свежем воздухе, на огороде учёной дачи. Там на меже стояла трёхлитровая банка, доверху наполненная живыми колорадскими жуками. Я высыпал их на сырой холст. Они разноцветными пятнами расползлись по участку – ушли жрать свой картофель.
А средневековый город покрылся древними письменами.
Карма, конечно, немного испортилась.
Ещё я много писал маслом на огромных ярких фотографиях. Потом, когда масло высыхало, корябал слой засохшей краски мастихином, он отделялся тончайшими плёнками – продирал борозды, трещины, лунки в краске.
Мы любили нарушать яростно все академические приёмы и делали это вызывающе. Например – жидкое на густое, рисовали в полной темноте, рисовали со связанными руками, калечили холсты и другие кривые поверхности картины. Здорово было швырять в холст банки с краской, да и вообще всё что под руку попадётся, включая заезжих девчонок с Арбата.
Потом начиналось тонкачество: месяцами можно было искать, ловить фактуру – из цветного хаоса реальную живопись – океаны, горы, города, будд прошлого и настоящего, пророков и влюблённых.
Художников бесил периметр. Проблема не давала покоя, включая мёртвых модернистов тоже. Речь идёт о раме или заборе подрамника, листа бумаги, плоскости картона. Картину приходилось буквально впихивать в периметр забора. Мы были против самого понятия – ЗАБОР. Я думаю, это слово надо уничтожить, стереть из языков мира. Священная вселенная делания за периметром, за колючей проволокой, за забором!
Поэтому мы писали на огрызках рам, а не на том, что рама обрамляет, на надувных шарах, на цилиндрах стиральных машин, на облаках стекловаты, под водой, на дне обоссанной нашими кошками ванной.
Было нескучно – эксперимент длился годами…
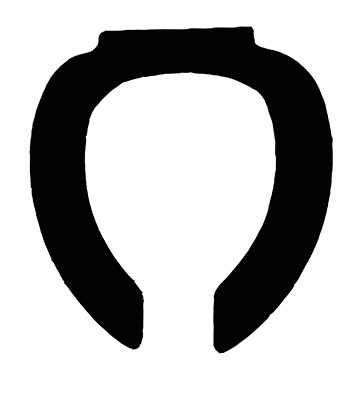
I. Наш дом – примечания.
Метаморфоз – глубокое преобразование формы или структуры в течение развития различных организмов, в процессе которого личинка превращается во взрослую особь. Например, превращение гусеницы в бабочку или головастика в лягушку.
Наукоград – город, построенный вокруг сети научно-исследовательских институтов.
Переборка – вертикальная стенка внутри корпуса судна, разделяющая внутреннее пространство на отсеки.
Кингстон – задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную (судовую) систему, сообщающуюся с забортной водой.
«Срочное погружение» – команда, подаваемая командиром подводной лодки для перехода в кратчайший срок из надводного в подводное положение.
«Гидроакустический горизонт чист» – доклад акустика на главный командный пункт, то есть на акустическом горизонте надводные и подводные корабли отсутствуют.
«Слушать в отсеках» – команда, подаваемая командиром подводной лодки экипажу, то есть слушать посторонние шумы.
Бахус (Дионис) – древнегреческий бог растительности, виноградарства, виноделия, вдохновения и религиозного экстаза.
Тёмная материя в астрономии и космологии – гипотетическая форма материи, которая не испускает электромагнитного излучения.
Мустанги (сленг) – вши.
Мать Тереза – католическая монахиня, основательница женской монашеской конгрегации сестёр – миссионерок любви, занимающейся служением бедным и больным.
Сенсимилья – созревшие, но неоплодотворённые соцветия женских растений конопли.
Нарисовался (сленг) – появился.
Каша и молочище – марихуану не только курят, из неё делают кашу с сахаром и вываривают в молоке.
Бакелит – вязкая жидкость или твёрдый растворимый легкоплавкий продукт от светло-жёлтого до чёрного цвета.
«Nobiscum Deus!» (латынь) – «Бог с нами».
Тонетовский стул – в середине XIX века в Вене Михаил Тонет изобрел стул из гнутого дерева и запустил линейку мебели, сделанную по этому принципу, в массовое производство.
Пивная сиська (сленг) – пластиковая двухлитровая бутылка с пивом.
Спичечный вулкан – в советское время в подъездах подростки слюнявили конец спички, макали в известку, поджигали и – бац – приклеивали к потолку. На белой извёстке получался черный вулкан.
Облатки (устаревшее) – таблетки.
Лессировка (от нем. Lasierung – глазурь) – техника получения глубоких переливчатых цветов за счёт нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета.
«Лампочка Ильича» – патетическое название первых бытовых ламп накаливания в домах крестьян и колхозников в Советской России.
Армия Роммеля – немецкий Африканский корпус (нем. Deutsches Afrikakorps (DAK)) в период Второй мировой войны.
Джонни Роттан – британский рок-музыкант, основатель панк-группы Sex Pistols.
Шкериться (сленг) – прятаться.
Мастихин (от итал. mestichino) – специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления красок.
Гидраха (сленг) – технический спирт, добываемый из разных непригодных к употреблению в пищу продуктов.
Великая теорема Ферма – одна из самых популярных загадок математики. Её условие формулируется просто, на «школьном» арифметическом уровне, однако доказательство теоремы искали многие математики более трёхсот лет.
Треугольник Паскаля – на вершине и по бокам стоят единицы, а каждое число равно сумме двух расположенных над ним чисел.
Коленвал от автомашины ЗИЛ – вал коленчатый, завод имени Лихачёва.
Царство Аида (античное) – Аид – бог подземного царства мёртвых.
Меч Зидфрида – Бальмунг, меч, упоминаемый в «Песни о Нибелунгах».
Китайские костяные шары – удивительные предметы древнего китайского искусства, костяные шары, вырезанные один внутри другого.
Бердслей – Обри Винсент Бердсли (Бердслей) – английский художник-график и поэт.
Царь Соломон – третий еврейский царь, правитель объединённого Израильского царства в период его наивысшего расцвета.
II. ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ ЖИЗНИ
Укрощение Большого Карло. Ночные крыши Остоженки. Мойщик троллейбусов на Миусской площади. Адская кочегарка. Банкет в Новоспасском монастыре. Звездопад в Алмазном центре.
Жизнь в Чистом переулке была выходом в иную вселенную. Это был скрытый в чреве столицы портал для прыжка в материальное подсознание. Все жители, включая бабушку и тётушку, об этом знали и даже скоро как-то стали относиться к чуду как к обыденности. Многочисленные гости, которые набивались к нам с мёрзлого Арбата, сразу это чувствовали.
После очередной трансмутации* я, сначала увёртываясь от голой Заиры, разлив по дороге банку вонючего растворителя по полу, прыгнул в чужую кровать.
Была у нас в Чистом прекрасная Заира – падшая Лоретта Янг*, с грудью подростка, с длиннющими ногами, вся непредсказуемая и совершенно слепая. Она часто ходила по квартире голая и яростно исповедовала крайние формы ордена свободной любви. Почему у нее было плохое зрение, она не разглашала. Был у нее жених-итальянец. Язык его чаровница не понимала, но любила безумно. Она утверждала, что для общения с заграничным принцем ей достаточно одного итальянского слова – рефрижератор.
Этой ночью Заира выбрала меня в качестве проводника в сады наслаждений.
А у меня голова вращалась, и жбан был прострелен стрелой, выпущенной из хищного облака. И я позорно бежал…
В три часа ночи меня разбудила ужасная стекловата рыжей бороды, воткнутая острым клином мне в переносицу. Рядом свистело тело ужасного, губастого колхозника.
Я бессознательно эвакуировался в ледяной космос, в метель плавильни жёлтых фонарей; бросился, взнузданный свирепым снежным ураганом, к Москве-реке. Перебрался через Большой Каменный мост. Там на фасаде Центрального дома художника висели два огромных белоснежных холста, лихо надетых на безупречные подрамники. На одном огромными буквами значилось – «БОЛЬШОЕ КАРЛО». Это судьба: «Я напишу самую большую картину в мире, я переплюну Ива́нова*…», – пульсировало серое вещество в моей голове.
Не раздумывая, я и вращавший меня метельный ветер залезли на леса, набросились на подрамник и сорвали его с петель. Упал, а сверху на меня с глухим стоном рухнул парус, размером шесть на четыре. Я пополз на четвереньках по льду, придавленный стартовой площадкой в большое искусство. Сконцентрировавшись, я заревел, как японский самурай на поле боя, встал в полный рост и моментально превратился в парусник, в котором мачтой служило мое туловище.
Я рвался на мост, но ветер возвращал меня обратно в музей. Тогда я стал двигаться галсами. Помогло. Порыв ветра надул парус и забросил меня на мост.
Я перся по мосту – «Большое Карло» яростно сопротивлялось, вибрировало всеми своими шпангоутами. Оно полоскало меня, словно старую газету, захваченную ураганом, грозя скинуть под колеса машин или с огромной высоты грохнуть на лёд Москвы-реки. Обалдевшие машины сигналили, я дрыгал в воздухе ногами. На противоположном берегу меня сдуло в гранитную пропасть. Пролетев по воздуху, я врезался в землю у бассейна «Чайка». Спрятанный от ветра домами, по безлюдной Остоженке добрался до дома. Теперь требовалось поднять холст на четвёртый этаж. Вращая огромную плоскость, я битый час ввинчивался вверх по лестничным пролётам. Я разбудил всех поселенцев, но чудесный подарок ночи впихнул внутрь.
Отовсюду на меня смотрели тревожные глаза художников: раздавленный подрамником на полу, в темноте я пытался пролезть к свету.
Античный подвиг прославил меня в коммуне Чистого переулка, как Одиссея Троянский конь*. Целую неделю я ходил гоголем*. В скрижалях творческих сквотов 90-х этот подвиг был записан как «Укрощение Большого Карло». До самого Армагеддона «Карло» занимало целиком стену большой комнаты, соблазняя на живописный подвиг художников. Но никто так и не решился нарушить статус-кво*.
Через десять лет в поезде Москва – Одесса, в нашей компании в купе директор ЦДХ рассказала удивительный случай: чудо об исчезновения огромного холста с фасада музея во время подготовки выставки итальянского керамиста Карло Дзаули. Я не раскололся…
Проблема выпивки и корма в нашей коммуне существовала. Поэтому мы с Манчо часто нанимались на различные подённые работы, обеспечивали нашу семью макаронами с тушёнкой, выпивкой и веселящими снадобьями.
У Эда было огромное блюдо, расписанное ромашками и стрекозами: туда высыпали три кастрюли макарон и шесть банок тушёнки, перемешивали с перцем. Особенно Эд вгрызался, словно пиранья, в тушёнку. Макароны падали ему на коленки и на манишку воинской гимнастёрки, которую он, кажется, никогда не снимал.
Главным источником дохода была чистка крыш от снега и прочие высотные работы. Мы чистили крыши на Арбате, в Грузинском центре, на Кропоткинской, в библиотеке Тургенева и в Пушкинском музее, на Остоженке в Зачатьевском монастыре и на крутобоких крышах сталинского жилого сектора. Места были чудные. Район между улицей Остоженкой и набережной Москвы-реки был, наверное, последнем оазисом нетронутой архитектуры. Казалось, кто может уничтожить деревянные купеческие флигели, кривые улочки в лабиринте сказочных мистерий, пережившие суровые времена советского панельного строительства? Весь этот потрёпанный муравейник стоял, уверенный в своем светлом будущем.
Не ищите эти чудные места сегодня, даже памяти не осталось. Явились свободные от своих цепей новые архитекторы, ведомые всемосковским прапорщиком, и сказка перестала быть. Бомжей выгнали, древние речные пакгаузы, а с ними последние деревянные небоскрёбы растоптали, район заселили коррупционерами, в декорации, снятые с обложек западной архитектуры. Просто: «Золотая миля».
Обычно нас с Манчо на ночь запускали на крышу, заваленную снегом, и оставляли в здании, которое было в полном нашем распоряжении. В те времена охранник был совсем не обязателен за каждой дверью. Часто к нам приходили гости, и мы устраивали весёлый пикник на крыше. В любом случае, какие бы мы пьяные ни были, к утру наша крыша вибрировала протуберанцами девственной чистоты, подставляя свои медно-дюралевые переборки лучам нежного зимнего солнца – работали на морозце, весело и качественно. После очередного снегопада нас звали снова и снова.
Мы почистили сотни крыш и упали с них всего три раза. Один раз я покатился кубарем с очень крутой крыши Грузинского центра, но долетел только до балкона третьего этажа, откуда меня вытащил Манчо веревкой. Манчо как-то провалился в забитую мусором и старыми гнёздами широкую трубу парового отопления на Остоженке, откуда я его выковыривал целый час, веревки у нас не оказалось. Вылез он довольный – чёрный трубочист с деревянной коробкой серебряных рюмок. На ушах, в волосах, в рыжей бородке шуршали холмики доисторического пепла. На Пречистенке подо мной рассыпался гнилой карниз, и я повис над залитой желтыми шарами улицей на высоте шестого этажа. Но
Манчо как всегда был рядом.
Кроме чистки крыш, я не упускал других способов обогатиться. Я работал мойщиком троллейбусов в четвёртом троллейбусном парке, препаратором в МХТИ имени Менделеева – пока на четвёртом курсе окончательно не обменял его на кисти и палитру. Работал кочегаром в автобусном парке на Тушинской и трактористом в Сокольниках, валил лес в лесничестве «Лосиного острова». И, конечно, – сторож, сторожок, младший помощник великого сторожа в Алмазном центре на Филях, в Новоспасском монастыре, в доме Аксакова в Сивцевом Вражке, в Планетарии.
Мойщиком троллейбусов я работал в четвёртом автопарке рядом с Миусской площадью. Одна бригада была бабки, другая – студенты.
Парк подвижного состава был наидревнейший, первый комбинат городского транспорта в новой индустриальной Москве девятнадцатого века. И назывался он тогда Миусским парком конно-железных дорог. Этот архитектурный памятник был собран из аккуратных, цвета пыльного рубина, древних кирпичей и напоминал готический монастырь. Имелась крепостная стена, ров, неприступные ворота, башня дракона, рыцарский зал с камином и сворой охотничьих собак и многочисленные пыточные подземелья.
Мы драили эти троллейбусы, выгребая из них горки мелочи. В советские времена в троллейбусах были демократические билетные автоматы. Нужно было в соответствии со своей совестью бросить в прозрачный пластиковый треугольник деньги и открутить из бесконечной ленты билетик. Хулиганы этим пользовались, собирали деньги в переполненном троллейбусе себе в карман и выдавали всем неоплаченные билетики. Мы тоже так собирали себе деньги на пиво, когда ехали в знаменитую «Яму», в Столешников переулок.
Яма находилась глубоко под землёй, в лабиринте тяжёлых римских арок и египетских сакральных колонн, отполированных рыбными пузырями. Место с неизменными бледными поганками высоких круглых прожжённых столиков на ножке и с длинной цинковой лоханкой общего писсуара, в который мочились даже нетрезвые представительницы слабого пола.
Чтобы попасть в адское подземелье, нужно было отстоять бесконечную, прямо скажем, неспокойную очередь. Однако везде шныряли поюзанные, суетливые, с печальными глазами фрики. Они за рубль перевозили через Стикс, минуя контроль суровых архангелов. Очередь скрипела зубами, но терпела. Между прочим, за рубль можно было купить пять кружек качественного разбавленного пива. В подземелье стоял шум, как на военном аэродроме. Трёхметровые стены времён Ивана Грозного пробивали тюремные ниши, забранные толстыми решётками. Из колодцев валил зелёный дым табака, мочи и кислого пива «Колос». В ногах копошились колченогие уборщицы, в белых халатах на голое тело – мрачные, готовые встроиться в любую компанию. Они размазывали всюду грязной, липкой ветошью пивные лужи.