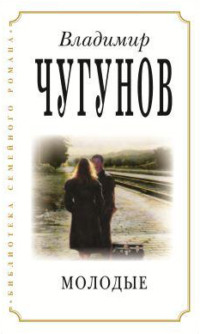
Молодые
По невразумительному Петиному бормотанию соседка сразу догадалась, откуда ветер, но денег дала, поскольку сама была не прочь залучить Петю в зятья, даже поинтересовалась на прощанье:
– Почему в кино не пошёл?
– Я сюда не за тем приехал.
– Смотри, какой деловой!
За водкой пришлось ехать на грузовике в ресторан, где им по знакомству отпускали в любое время суток.
Только после того как Александр Сергеевич оказался на небе, Петя без опасения мог ходить по земле.
Солнце только что село за далёкие крыши пристанционных домов, и теперь по всему горизонту широко разливалось зарево пожара. С болота поднялась голодная мошкара и всю дорогу вилась вокруг нудным облачком.
Варю вынесло на крыльцо, стоило Пете отворить калитку. Была Варя в светлом платьице с длинным рукавом.
– Смотрю в окно – ты!
И столько радости было на её лице!
– Ну и дурак же я, Варь, а! Прости! – с ходу выдал Петя.
– Ладно, проехали…
– Тогда, может, прошвырнёмся?
– Прогуляемся, в смысле?
– Ну да.
– А который час?
Петя глянул на ручные часы.
– Десять минут десятого.
– Ну что, до десяти можно.
– Как до десяти? – удивился Петя, и Варя сразу стала оправдываться:
– Ну я же маленькая ещё. А на крылечке и до половины одиннадцатого посидеть можно.
Давай лучше на крылечке посидим? Ну а чего по улице шататься? Подумают ещё…
– Кто-о?
– Все.
– Да чего подумают-то?
– Ну как… Я же в школе ещё учусь. Не стыдно, скажут?
– А тебе стыдно.
Варя виновато вздохнула и призналась:
– Угу… Но ведь мы же ничего, правда, просто дружим?
«Дружим! – усмехнулся про себя Петя. – Вот детсад!» Хотя и сам был не больше искушён в жизни – деревня, армия, тайга…
– Ну, на крыльце так на крыльце.
– Тогда я схожу за альбомом?
– Валяй.
Варя стрелой унеслась в дом, буквально тут же, сломя голову, словно боясь, как бы он не ушёл в её отсутствие, вернулась обратно, опустилась на ступеньку и, положив альбом на колени, приглашающе глянула снизу вверх.
Петя снисходительно улыбнулся и, чувствуя себя младенцем, опустился рядом. Поскольку никого, кроме бабушки, он больше не видел, фотографии разглядывал с любопытством. Варя по-детски быстро сначала (пока он не сделал замечание) листала и, мило тыча пальчиком, комментировала:
– Это бабушка молодая. Это папа молодой. Это мама молодая… Правда, мы с ней похожи?
– Ну-каси…
На чёрно-белой (остальные, кстати, были такими же) фотографии была если не красавица, то довольно миловидная девушка в соломенной шляпке, в светлом летнем платье. Года через два сходство было бы просто удивительным. Петя даже как-то иначе после этого на Варю глянул. Она стеснительно от его взгляда ускользнула.
– Правда, похожи?
– Почти одно лицо.
– А мама… правда, красивая?
И замерла в ожидании ответа.
– Ну, я бы первый втюрился!
– Ну и словечки.
– Ну, влюбился… – и, перелистнув очередную страницу, спросил: – А это кто?
– Катя. Сестра старшая. Да не смотри – нет её дома. В Самару уехала. Ещё весной. Ну, в Куйбышев, не понимаешь, что ли? Папа у нас все города по-старому называет, а бабушка по-новому. Он за старые названия, она за новые.
– И чего ей в этой Самаре?
– В медицинский институт поступает. И я тоже хочу врачом стать, как бабушка с мамой.
– А почему именно в Самару?
– Дедушка с бабушкой там у нас. И мы… Ну, это… в общем… Да! А правда, мы с Катей ни капли не похожи?
– Ну-каси, – и, внимательнее всмотревшись в заносчивое лицо, заключил: – Земля и небо. А тоже – краси-ивая! – И наклонился, чтобы получше разглядеть, но Варя ревниво перелистнула страницу.
– А это наша Пашенька. – И по тому, как она это произнесла, Петя догадался, что все её в семье любят. – Двенадцать ей. Там она. На метеостанции.
– А это кто?
– Ваня Мартемьянов. Пашенькин одноклассник. Бабушкиного брата единственный внук. Знаешь, какой у бабушки брат большой начальник!.. А Ваня круглый отличник. Голова! Не то в МГУ, не то в МГИМО поступать собирается.
– И что за начальник его дедушка? Мы тут, считай, всех начальников знаем.
– Ну… этот… большой, в общем, – уклонилась она от прямого ответа. – Смотри. Это – Катя в шесть лет, а это – Пашенька в те же годы. Правда – почти одно лицо? Только она у нас такая… такая… – Но так и не подобрала определения и перешла на очередное фото: – А это мы с мамой. Думаешь, сколько мне здесь?
– Года полтора?
– Четыре месяца.
– Ух ты, плюшка какая!
– Да-а, такая вот я плюшечка была!.. А ты в армии кем был?
– Командиром орудия.
– Пушки? Настоящей?
– Самой что ни на есть. И даже стрелял из неё. Честное пионерское! Шестнадцать раз. Как жахнет – того и гляди, перепонки лопнут. Серьёзно. Нам даже рот полагалось открывать. На войне, говорят, артиллеристы постоянно палки между зубов зажимали, а иначе хана. Забыл рот открыть – и сразу кровь из ушей.
– О-ой… И страшно?
– Стрелять? Не-э. Непривычно сначала, а так ничего.
– Ну а служил-то где?
– В Германии. Округ там есть такой – Галле…
А часть находилась за высокой каменной стеной, и сразу за стеной, через дорогу, начиналась окраина занятого химической промышленностью старинного немецкого городка Мерзебурга – идеальная чистота мощёных улиц, сложенные из тёсаного камня с готическими черепичными крышами особняки, утопающие в виноградниках великолепные усадьбы.
Однажды Петя с Толиком Копыловым (тем самым, из-за которого Ленина увидеть не удалось) даже попали на немецкую свадьбу. Ушли после отбоя в самоволку в гаштэт за пивом и, проходя мимо одной из старинных усадеб, засмотрелись на свадебное застолье, устроенное под оплетённым виноградной лозой навесом. Их сразу заметили, пригласили, налили по стакану отвратительной немецкой водки, называвшейся «Тройкой», и с восторгом наблюдали, как они их мгновенно осушили. Когда же предложили «етшо», они, разумеется, не отказались. А потом едва унесли ноги от бдительно патруля, вычислившего их по «Не слышны в саду даже шорохи…». Уж больно нравилась «гансам» эта песенка, вот они сдуру, без акцента, без маскировки, значит, и затянули.
Часть тут же подняли по тревоге, выстроили на плацу и каждого заставляли дышать командиру в лицо, и они бы с Толиком непременно попались, но чего не пришло в голову командованию, так это поднять по тревоге карантин, новобранцев, которых они готовили к присяге.
– Ой, как интере-эсно! А расскажи ещё чего-нибудь.
И Петя стал рассказывать о последних внеплановых учениях, на которые их подняли ночью по тревоге. Было это зимой не зимой, в Германии же почти нет зим, больше они напоминали промозглую осень с нудной изморосью, заморозками по утрам в горах и высокогорьях и вечной слякотью в долинах. Такой неизменно вечный серый цвет и свет и всё вокруг. Даже мысли порою казались серыми и тоска по дому тоже. Тем более – ночная тревога, хотя, пожалуй, представлялась она уже не серой, а чёрной, как пронизанная промозглой влагой ночь, скрывшая под непроглядным покровом оставшийся позади городишко, речку, угадываемую по всплеску волн. Даже отвесная скала от обледеневшей за ночь дороги, которую безуспешно скребли установленные у подножия грунтозацепы тягачей их тяжёлой артиллерии, ничем не отличалась, если встать посередине, от зиявшей слева пропасти. Когда тягач, не справляясь с тяжёлой гаубицей, сползал на край обрыва, расчеты пулей выскакивали из кабины и шли впереди тягачей. И всё это с полной маскировкой, без света фар. Потом долго стояли. Может, и недолго по времени, но уж очень нудно от неизвестности.
Наконец, после небольшого движения вперёд, свернули на другую, более пологую и безопасную дорогу и за час до рассвета выскочили на широкое плато. С ходу заняли позицию. Тягачи отогнали под прикрытие вековых сосен Тюрингии, на край ущелья, на дне которого под утро различили серую ленточку ползущего на враждебный Запад шоссе. Впервые боевые снаряды были выгружены из тягачей. К чему бы это? Все многозначительно переглянулись.
Когда же едва начал брезжить свет, открывая чуждые просторы с лесами и перелесками, насыщенный влагой воздух прорезал голос взводного:
– Батарея, к бою!
– Расчёт, к орудию! – отдал команду Петя и, как заводной, стал повторять один за другим приказания командира: – Прицел 153! Заряд первый! Осколочным! Огонь!
– Выстрел!
И с каким-то отчаянным озорством наводчик дёрнул ручку спуска.
Солидно ухнув, орудие слегка осело на круглом поддоне. Мокрый снег брызнул на бруствер неглубокого окопа. Уши сдавило мощной струёй, на мгновение Петя оглох, но тут же вновь, с каким-то всё разбирающим азартом, следом за взводным повторял:
– Прицел 162! Заряд первый! Осколочным! Три снаряда беглым! Огонь!
– Выстрел!
– Готово! – докладывал заряжающий.
– Огонь! – ревел Петя.
– Выстрел! – играючи отзывался наводчик.
И по одному этому уже было понятно, что ни пяди земли они врагу не уступили бы ни за что и никогда.
После третьего снаряда дали поправку. И уже вся батарея, начиная с первого орудия, заухала по очереди, как настоящей войне.
Затем дали команду:
– Отбой! Расчёты за орудия!
И тут все увидели, как из-за осиновой рощи, справа от батареи, показались наши танки, красиво, с ходу, развернулись в боевой порядок и, стреляя на ходу, пошли по направлению далёкого леса, куда минуту назад один за другим, с воем, стремительными точками улетали с батареи снаряды и падали, сотрясая под ногами землю.
Вскоре вслед за танками снялись с позиции они и потащились по грязной, взрытой гусеницами колее. Куда, зачем? Никто этого не знал. Знали только, что в той стороне ФРГ, что до границы рукой подать, но сознание до того притупилось и от бессонной ночи, и от усталости, а после холода в тягаче было так тепло, что об опасности не думалось вовсе.
Выяснилось позже, что подняли их по тревоге из-за выдвинувшихся к границе для учений войск НАТО. Откуда знать, что у тех на уме? Надо было выставить свой заслон или, как говорит стратегия войны, первый эшелон – на час, на полтора, не больше…
– И что потом? – спросила Варя.
– Сравняли бы с землёй. Честное октябрятское! Но как ты тогда бабушке сказала – слава Богу? Ну вот, и обошлось. Её, Кстати, как зовут?
– Бабушку? Женя.
– А по батюшке?
– Максимовна. Они с дедушкой на Халхин-Голе в прифронтовом госпитале познакомились. Бабушка после медицинского института самому Ахутину, профессору знаменитому, в госпитале ассистировала. Дедушка с ранением лежал. Бабушка его выходила, и они поженились. Не так, как обычно, а так…
– Как?
– Ну та-ак, не понимаешь, что ли? – вспыхнула как маков цвет Варя. – А через девять месяцев мама родилась.
– У кого?
– Что – у кого?
– Мама родилась.
– Не у бегемота же!
– А у кого?
– Нарочно, да?
– Я больше не буду.
Петя виновато склонил голову, и Варя его тут же простила.
– Маме чуть больше года было, когда на дедушку похоронка пришла. Можно сказать, почти не жили. И замуж бабушка больше не выходила. Не за кого, говорит, да и не до того было, сначала война, потом… всех женихов, в общем, на войне поубивало, да и перестарок, говорит, я после войны была, да ещё с ребёнком, да ещё военврач, всю войну по госпиталям, да и после войны всё время на должностях. И теперь в поликлинике принимает. Каждый год говорит, последний год, а сама работает. Так за войну, говорит, знаешь, сколько девок повырастало? А мужиков, по пальцам перечесть. На инвалидах, говорит, и тех по пяти штук висло. Ну а мне, говорит, майору в отставке, на мужиках виснуть вроде не к лицу, да и претило, говорит, так, без любви. Ванюшу своего, видно, сильно любила. Такая, говорит, выходит, я дура. Для бабушки любовь – всё!.. Знаешь, чего она про тебя сказала?
– Чего?
Варя предупредительно улыбнулась и нерешительно выговорила:
– Такой же, говорит, видно, бешеный, как мой Иван.
– Чевой-то я бешеный? – обиделся Петя.
– Это в хорошем смысле! – поторопилась заверить Варя. – Такой же, значит, простой и весёлый!
– А-а… Ну это да, – согласился Петя. – А чего грустить?
– И столько всего повидал! И что, вот так все два года – уче-эния, трево-оги, да?
– Зачем… Знаешь, сколько я там книжек прочитал? Море!
И это было «голимой» правдой. Под конец службы от скуки Петя, можно сказать, помешался на книжках. Начав с Вальтера Скотта, затем с таким же захватывающим интересом проглотил всего Фенимора Купера. Не только собрания сочинений этих писателей украшали их армейскую библиотеку, были там и Шекспир, и Стендаль, и Бальзак, и Диккенс, и «даже какой-то Арагон». Отечественная классика вообще была представлена в полном объёме, но к ней поначалу не тянуло. Ну чего там могло быть интересного после Вальтера Скотта или Фенимора Купера? Несжатые полоски, шинели, носы, премудрые пескари, «зеркало русской революции», «что делать», «сны Веры Павловны», палаты «номер шесть», Иудушки Головлёвы – «короче, мрак непроходимый»… Но когда, из чистого любопытства, заглянул в Достоевского (в серенький, словно только что из типографии полученный десятитомник), уже не мог понять, почему в школе от всего этого воротило? Что ни возьми – «Бесов», «Подростка», «Идиота», «Братьев Карамазовых», да хоть то же «Преступление и наказание», – даже если судить по одному интересу, это какое же захватывающее чтение!
И Петя стал перечислять названия прочитанных книг. И тут выходил умнее Вари.
– А расскажи… Ну-у хотя бы про этого идиота. Что, прямо настоящий идиот?
– То-то и есть, что нет. Идиот этот – всем идиотам идиот! Короче, умный придурок. Ей-Богу! Не то, чтобы себе на уме… В общем, дурак, но хитрый… И почти все от него без ума: и генеральская дочка, и красавица ещё одна, и сама генеральша – ну все… А идиот этот, Мышкин его фамилия, князь, так я вообще валяюсь… Представляешь? Обеих любит и на обеих жениться собрался. То за одной, то за другой ухлёстывает. Одной письма пишет, другой в любви объясняется. Я, говорит, ваши глаза во сне видел… Так и не поделили его. Ни той и ни другой не достался. И конец страшный.
– Какой?
– Купец там одни был. К красавице этой идиота всё ревновал… Заре-эзал.
– К… кого? Этого?
– Не-э. Красавицу. И князю же всё и расскажи. Так он от переживания опять с катушек съехал. Он же до этого настоящим дурачком был. В Швейцарии лечился. Вылечили вроде. Ну он в Питер и полетел. В новую жизнь, значит. Ан не тут-то было. Короче, опять шарики за ролики заехали, и его назад в Швейцарию лечиться отправили. Грустный, в общем, конец, не как в сказке. У Достоевского все книжки плохо кончаются.
– И чего тут интересного?
– А ты возьми и прочти, тогда сама увидишь. Оторваться невозможно. Я больше никого так запойно не читал.
– Ладно. Завтра же в библиотеке возьму. Так прямо и называются – «Идиот», «Бесы»?
– Так и называются.
– А «Бесы» про что?
– Про бесов.
– Настоящих?!
– Да настоящие что воздух, ну! А эти… А пожалуй, похлеще настоящих будут!
– И интересно?
– За уши не оттащишь!
– Врёшь!
– Ну, честное коммунистическое!
– Ва-аря-а!
– Да, бабуль, иду!
И, одновременно вздохнув, они поднялись.
– Чуть не забыл! Когда назад полетишь?
– Послезавтра хотела. А что?
– Ну послезавтра, так послезавтра… Просто завтра мне в Красноярск с отчётом ехать. И когда теперь?
– Увидимся? Даже не знаю.
– Ну а письмецо-то можно накатать?
– Даже не знаю… Давай я сначала у папы с мамой спрошу?
– Д-а-а…
И Варя опять стала оправдываться:
– Ну я же ещё ма-аленькая.
– Тады не узоруй, мотри! – пригрозил Петя пальцем. – Папу с мамой слушайся. Не то серому волку скормят. Боишься серого волка?
Варя озорно-испуганно округлила глазки.
– Ага-а!
– Тады – ой! Покеда, значит!
– Нет, прощай – лучше.
– Это почему же?
– Мало ли что.
– Что?
– Ну мало ли что.
– Да что?
– Ну мало ли…
– Ну тады – прощай! Целоваться, как, будем или нет?
Варя испуганно затрясла головой, попятилась назад и мгновенно скрылась за дверью. Но тут же выглянула в щёлку.
– Да не боись, не буду! – заверил Петя. – У папы с мамой разрешения спросишь, а там и начнём!
– До свадьбы?!
– В щечку-то?
– Ни в куда! Женишься и целуй тогда!
– А-а, тогда, значит, всё-таки будет можно! Ну, спаси-ибо!.. А с другими можно пока – для тренировки?
Молчок.
– С другими, спрашиваю, можно или нет?
– А тебе так уж очень хочется?
– Ещё бы!
– Ну и иди тогда!
За дверью послышалось хлюпанье носа.
– Да пошутил я, ну, пошутил! – поспешил заверить Петя. – До революции вон вообще до свадьбы не целовались. Только ручку… А ручку, кстати, можно цаломкнуть? – осенило его.
После непродолжительной паузы из щели неуверенно высунулась худенькая детская рука. Петя осторожно взял, наклонился и для смеха звучно чмокнул. Рука тут же юркнула назад.
– Доволен теперь?
– Ещё бы! Всю ночь буду не спать!
– И чего будешь делать?
– О тебе думать. А ты?
Дверь приотворилась, на Петю устремились восторженные Варины глаза.
– И я! – выдохнула она с чувством и с шумом захлопнула дверь.
6Вода в Бирюсе спала к шести вечера, и весь оставшийся световой день бригады приводили в порядок полигон. О возобновлении промывки до восстановления перепускных дамб, устройства новых водозаборников, съёмки заиленных шлюзов не могло быть и речи, а потому, когда стемнело, произвели внеплановую пересмену.
Перед ужином вместе со всеми намёрзшимися за день Павел сходил в баню, которую топили ежедневно, и, посвежевший, в половине одиннадцатого по обычному ночному холодку поднимался в гору.
Свежесть звёздной июньской ночи напомнила то бесшабашное время, когда они, допризывники, втроём – Вовка Каплючкин, Сашка Муратов и он, – пропустив тайком от родителей четвёрку водки на троих, шли из своего пригородного совхоза «Доскино» высоким берегом Вьюновки в Гавриловку на танцы и от телячьего восторга, переполнявшего их в унисон бьющиеся сердца, ревели во тьму непроглядной осенней ночи: «Червону руту, не шукай вечорамы, ты у мэне едина, тильки ты, повирь…»
Вьюновка незримо петляла под обрывом. Начиная от Третьего дуба – а были на пути и Первый, и Второй, – чёрным тревожным провалом зиял Ипяковский лес.
И хотя ни у кого из них не было ни «тильки единой», а никакой вообще даже там, куда шли, груди их распирало от невыразимого человеческим языком счастья, а зачуханный деревянный гавриловский клуб, каждую субботу и воскресенье из простого кинозала посредством растаскивания по сторонам рядов кресел превращаемый в танцевальный зал, хотя ничем и не отличался от таких же обшарпанных, заплёванных, заваленных окурками, пустыми и битыми о несогласные головы бутылками, а порою и естественными человеческими испражнениями, казался самым необыкновенным местом на свете.
Ну где ещё можно было вот так, бесконтрольно, часок-другой побыть в абсолютной, хотя бы и поросячьей и ни на что человеческое не похожей, но свободе?
Но не только это напомнила тишина звёздной ночи, но и то, что долгое время казалось в жизни главным.
Когда же «это» с ним началось – не по-детски, по-настоящему? Да и по-настоящему ли? И хотя и до армии, и всю службу, не переставая, писал, недавний провал с поступлением в Литературный институт значительно опустил крылья. А может, и нет, и никогда не было у него таланта? Мало ли что говорит Шарова, печатавшая в районной газете «Автозаводец» всё, что выходило из-под его пера, – заметки, зарисовки и наконец рассказ. Публикация рассказа, догнавшая в учебке и принесшая столько ни с чем не сравнимых минут счастья, очевидно, тоже ещё ни о чём не говорила, если учесть, что сюжет он содрал с одного московского журнала. Нельзя, наверное, было серьёзно относиться и к тому, что полтора года подряд печаталось в армейской газете. От первых позывов творчества, каковыми являлись стихи и газетные публикации, до развития таланта, очевидно, предлежал путь долгий и трудный, и Павел то бросал, а то начинал писать снова. Но даже когда не писал, ему постоянно хотелось выразить словами те чувства, которые вызывал в нем окружающий мир. И не только загадочный мир природы с его восходами, закатами, весенним гомоном птиц, осенними туманами, но и окружающие люди, а точнее, девушки, в которых, когда пришло время, стал влюбляться до самозабвения. Однако всякий раз влюблённость заканчивалась разочарованием. В какой-то момент в очередной пассии он начинал замечать то, что разрушало его чувства. А затем влюблялся опять. Страдали и по нему, но этого он выносить не мог, морщился, когда мозолили глаза, но ничего с собой поделать не мог: жить вне любви, несмотря ни на какие разумные доводы и даже жалость, он не мог.
Из этого же чувства творил, если можно назвать творением то, что время от времени заносил на бумагу. Но кто бы знал, какое счастье испытывал он всякий раз, когда садился за стол в трепетном ожидании, когда перед глазами возникнет просящийся на бумагу мир, слова составятся в пахучие фразы, из фраз проступят контуры оживлённых воображением картин и в завершенности своей будут казаться такими же живыми, и даже более живыми, чем окружающий, вечно текущий куда-то, постоянно меняющийся мир.
Куда легче было творить в себе, когда в воображении как бы сами собой созидались волнующие сердце образы. Какою сладостною тогда казалась уединённость – в тишине зимнего вечера, в сумраке пустой квартиры, в лесу, по которому часами бродил без цели.
И ежели бы мир этот время от времени не просился на бумагу, можно бы и не замечать его вовсе, жить себе и жить, как миллионы ничем не обременённых, но в том-то и дело, что он чувствовал в себе эту обременённость и часто томился оттого, что большая часть жизни проходит впустую.
* * *Не спалось.
И хотя давно была заглушена дизельная электростанция, а таёжный посёлок погрузился во тьму, Павел долго сидел у открытой дверцы сложенной наспех печурки, бездумно глядя на фиолетовые переливы остывающих углей, а потом, заложив руки за голову, лежал на кровати с тем душевным волнением, когда перед глазами до мельчайших подробностей встают картины прожитой жизни.
С чего она началась?
Почему-то казалось, с радости, с того самого дня, когда отчим впервые привёз дорогую игрушку – движущийся от пружинного завода, стреляющий настоящими маленькими снарядами танк. Потом была пожарная машина с выдвигающейся, вращающейся лестницей, самолёт «ПО-2», автомобили «ЗИМ» и «Победа». И всё это исключительно с познавательной целью было разобрано вместе с таким же заинтересованным в конструкторском деле закадычным другом детства Вовкой Каплючкиным, никогда никаких игрушек не имевшим – не на что было купить. Жили Каплючкины хотя и в самой справедливой стране на свете, о чём каждое утро бодро пело висевшее на стене радио, но почему-то намного беднее их, Тарасовых, а потому Павел, чем мог, старался скрасить неполноценное Вовкино счастье, за что ему, разумеется, попадало – игрушки стоили немалых денег.
Дальнейшие воспоминания также ассоциировались с радостью: совхозная конюшня, в ряду скотных дворов, вся в зарослях белены, лебеды, крапивы, чертополоха, лопуха, конского щавеля. За конюшней кладбище изломанных деревянных телег, саней, конных сенокосилок, граблей. Когда на дворы привозили арбузы, на эту астраханскую невидаль, как мухи на мёд, тут же слеталась вечно голодная совхозная детвора.
И всё остальное – купание лошадей, футбол дотемна, хоккей на первом гладком льду пруда – было.
Когда же пруд заносило снегом, через него, в сторону ельника, бежала зеркально блестевшая на морозном солнце лыжня.
Красоту зимнего леса почему-то всегда хотелось изобразить в цвете. Но была она непередаваема. Ели, сосны, снег на могучих лапах, сиреневые сугробы вокруг на рисунке были, а вот красоты не было, почему-то не желала она в эти искусственные рамки входить.
Та же история, очевидно, была с рассказами, хотя один всё-таки что-то такое в себя вместил. Это когда в девятом классе, однажды открыв журнал «Юность», вдохновился первыми строками чужой повестушки и сразу сел писать рассказ о первой и последней любви: он, геолог, получает телеграмму, у него родилась дочь, во время полёта вспоминает, как всё было…
Хотя главным в этой истории был стиль – этакая ни к чему не обязывающая болтовня. Однако буквально через месяц пришёл ответ из «Юности»: его рассказ собираются включить в «Зелёный портфель» и только просят чуть-чуть доработать. Не стал. Не понял, чего от него, собственно, требуют, когда он и так выше крыши насочинял. Ну не писать же, в самом деле, как во время игры в прятки он чмокнул «прототипицу» в свеженький, полуоткрытый от страха ротик? И как потом она уехала далеко-далеко… И были мечты, стихи, мечты, стихи… Вот он и выдал отрывок ещё из неосуществившейся мечты: они наконец поженились, он геолог, она родила дочь. Окончание телеграммы: «люблю целую жду Люська». Люська… Смешно. Но таким это тогда казалось обыкновенным. Во всяком случае, до знакомства с классикой. И вообще, можно ли вот так волшебно влюбиться в какую-то Люську?