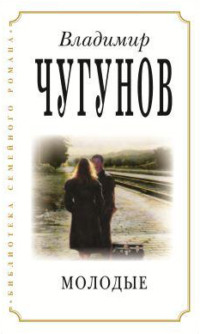
Молодые
Даже в этой замысловатой истории было между ними много общего: совхоз, где рос Павел, создали в начале тридцатых как подсобное хозяйство во время строительства Горьковского автогиганта и тоже состоял в основном из ссыльных, и в таких же, как у Трофима, вначале все ютились длинных бараках, и также появились потом деревянные дома, только на четырёх хозяев, но тоже с огородами, сараями, в которых держали и коров, и свиней, и кур.
И стихи оба стали писать со второго класса, только Павел лирические, а Трофим, как выразился, сатирические вирши в подражание «Крокодилу» – ужасно нравился ему этот журнал. С тех пор писал не переставая. В третьем классе даже сочинил роман про индейцев, объёмом с толстую школьную тетрадь, но был осмеян родителями и сжег тетрадь в печке. Классе в четвёртом задумал написать новую мировую историю и начал с «Истории земли онкилонов» с первобытно-общинного строя, никому не показывал, тешился в одиночку, дошёл до создания империи (в 5-й или 6-й тетради), наконец надоело, бросил, а в восьмом взялся за роман в стихах «Андрей Болконский», «онегинской строфой», десять глав выдал за полтора года – на этом писательское детство закончилось.
И первые публикации у обоих появились в городских газетах. У Трофима – в Чайковском, куда перебрались из Сарапула за два года до окончания школы. Писал и печатал фельетоны, стихи, очерки. Как и Павел, печатался в армейской газете. Дабы потрафить армейским вкусам, писал, как выразился, сознательный бред: «Граница видимой вселенной дрожит на кончике штыка!» Про часового в пургу.
До армии сунулся было в МГУ, но когда пришёл подавать документы, выяснилось, что для поступления на факультет журналистики нужна рекомендация от местной организации Союза журналистов, а он не знал. Но не столько это побудило тогда бежать из Москвы (можно было подать документы на другой факультет или в другой вуз), сколько общение с дочерью хозяев квартиры, куда его пристроили на время экзаменов через каких-то опять же дядиных знакомых. Из разговоров с ней Трофим с каждым днём всё больше и больше утверждался в мысли, какой же он всё-таки жалкий провинциал. Да ещё Москва эта давила. Испугался, в общем, он тогда Москвы, сбежал.
До призыва работал на Чайковском комбинате шёлковых тканей (КШТ) подсобником, а служить подфартило в шестидесяти километрах от Чайковского, в Сарапуле, где раньше жили. Формально числился в топографической части, на самом деле служил в секретном подразделении «под прикрытием». Начальство топографов к ним даже не совалось. Принимали зашифрованную информацию с пролетающих военных спутников, и этим, собственно, в последние полтора года занимался он один. В части было всего двадцать солдат, три офицера – майор, капитан и старлей, двое старшин, которые вскоре стали прапорщиками. Носили лычки связистов. Собственно, связью и занимались.
За разговорами не заметили, как подошло время. Сдав документы, отправились на троллейбусе в общежитие, на улицу Добролюбова. Оставив в комнате чемоданы, пошли прогуляться до останкинской вышки. Затем раздавили в забегаловке бутылочку красного вина, захватили в общагу ещё одну, затем сбегали ещё за одной. И к вечеру обоим казалось, что они знают друг друга вечность.
К экзаменам Трофим почти не готовился, а сдавал на одни пятёрки.
– А, – махал рукой, – проформа! Говорят, даже если на одни тройки сдашь – всё равно примут.
Но Павел завалился на первом экзамене, на сочинении.
– Что-то тут, брат, не то, – призадумался Трофим. – Кого наметили принять, обязательно на проходной балл выводят – так уж тут заведено. Не иначе, что-нибудь с творчеством. Ты что послал?
– Роман.
– Ты написал роман?
– А что?
– Тогда понятно.
– Чего тебе понятно?
– Знаешь, как тут рассуждают? Если абитуриент написал роман – значит он кто? – гра-фо-ман.
– Да он в пятьдесят четыре страницы всего.
– Тем более. Никакого представления о жанре. Писательское детство.
И ещё несколько человек сказали то же самое. Как бы то ни было, а документы надо было забрать. Пока шли экзамены, Павел этого делать не стал и то слонялся по городу, а то по пустому общежитию, и хотя дома ждала оставленная на произвол судьбы Полина, ему было стыдно показаться ей на глаза – и всё из-за хвастовства своего.
– Видишь? Читай! «Уважаемый Павел Борисович, сообщаем Вам об успешном прохождении творческого конкурса. Вступительные экзамены…» В общем, вызывают на экзамены. Ты подумай только куда-а? В Москву-у!
Полина опускала в судьбоносную бумагу глаза, будто не могла в это поверить, говорила:
– Неужели в Москву? Смотри не загордись.
Теперь, выходит, нечем гордиться, никакой, выходит, теперь он не писатель, а самый что ни на есть настоящий графоман.
По завершении вступительных экзаменов только Павел не стоял на ушах и в застолье был молчалив и невесел. Все, исключительно все вокруг него были гении, и только он один – графоман. И чтобы хоть как-то скрасить фиаско, уговорил Трофима погостить у него пару дней.
– А что, – не задумываясь, согласился тот, – хоть на Полину твою гляну, а то все уши прожужжал!
9Разумеется, Полина произвела на Трофима впечатление.
– И ты, брат, ещё жалеешь о каком-то «лите»?
И всё-таки уже тогда Павел почувствовал, что за время его отсутствия что-то неладное произошло.
А затем начались ссоры.
Первый раз поссорились из-за Жанны Болотовой, артистки, вернее, из-за инопланетянки из фильма «Молчание доктора Ивенса», который в конце сентября смотрели в том самом «Салюте», куда ходили целоваться. После просмотра фильма, сидя на скамейке во дворе Полининого дома, совершенно не соображая, что несёт, Павел всё выплёскивал и выплёскивал свои впечатления вслух, пока Полина не встала и не ушла. Глупость несусветная, но едва помирились.
В другой раз Полина не пошла на концерт, в котором впервые принимал участие их только что организованный вокально-инструментальный ансамбль «Пульсары», в котором Павел играл на «клавишах».
– Конечно, – заявила с обидой, – тебе хорошо, у тебя ансамбль, тебе весело, а я сиди, значит, дома одна!
И даже не позволила себя обнять на прощанье.
Не встречались неделю, а помирились из-за вернувшегося со службы Дубова, которым Аркаша Полину тогда попрекал. И хотя были они с Полиной в ссоре, упрямо находясь в разных концах танцевального зала, Дубов сначала всё-таки подсел к Павлу.
– Только честно. Скажи: было у тебя с ней?
Уловив суть вопроса, Павел не задумываясь ответил:
– Нет.
И в эту минуту к ним подлетела Полина, схватила Павла за руку, потащила на улицу, и пока шли до дома, всю дорогу выплёскивала свои обиды. У калитки разоткровенничалась:
– Мама говорит, что я с тобой буду несчастной, а я несчастна только, когда ты меня не любишь. А что, любишь? Мама говорит, что нет… Да ты погоди, послушай… Говорю: «Ма-ам, с чего ты взяла?» – «Я, – говорит, – жизнь прожила – вижу. Он, говорит, одного себя любит».
А тут ещё, как назло, пришло письмо от Трофима.
Писал: «Недавно познакомился с лидером группы «Последний шанс» Романом Щёкиным. Пришёл во время перемены в «лит» и у первого попавшегося спросил, как ему познакомиться с поэтом. Первым попавшимся оказался Казанкин (который с нами в комнате тогда жил, помнишь?). Казанкин вызывает меня. Выхожу и вижу длиннющего, худущего, обросшего по плечи хиппаря с зачехлённой гитарой. Без тени смущения представившись, он заявил с ходу, что пишет рок-оперу и ему нужен текст. Я осторожно заметил, что никогда не пытался делать что-либо подобное. «Я тоже, – был ответ. – Давай попробуем… А для начала я покажу тебе свои песни». И потащил меня к себе, представил отцу, расчехлил гитару и стал петь – на стихи Левитанского, Блока, Есенина… Мне понравилось, и я согласился. Между делом Щёкин написал несколько песен на мои стихи, одна из которых в исполнении Аллы Иоффе уже звучит по радио, «Вальс о ночном дожде» называется. Случайно не слышал?.. Ну а опера для детей – «Мальчиш-Кибальчиш», Дом пионеров будет ставить. Договорились уже. Такие, брат, у меня дела… Ты как? Пишешь ли? Есть ли что новенького? И если есть, пришли. А вообще, встретиться бы, поговорить».
Приглашал на Новый год вместе с Полиной, и Щёкин, мол, будет. Уговаривал не вешать носа и готовить рукопись для поступления на следующий год, уверяя, что почти все, кто не прошёл за год до его поступления, поступили вместе с ним, лишь в конце, как бы между прочим, прибавив: «Кажется, брат, я сам того… И зовут её Машей».
По поводу творческого конкурса Павел принял к сведению, что относительно Нового года, так у них самих намечался новогодний бал. Однако стоило пересказать содержание письма Полине, она сразу же загорелась ехать и ни на какие уговоры уже не поддавалась, дошло до того, что категорично заявила:
– Или едем, или я знать тебя не хочу!
– Ну почему?
– Ты был в Москве, а я нет. Когда ещё представится случай?
– Полин, ты же понимаешь, что я не могу.
– И я сказала: только попробуй.
Но он всё-таки «попробовал». До последнего, правда, сомневался, тянул, ничего не отвечая Трофиму, а за три дня до Нового года сказал Полине, что будет играть.
– Ну-ну… – обронила она и удалилась темнее тучи.
А вокруг шла обычная предновогодняя суета: привезли, установили, украсили ели на площади у клуба, в танцевальном зале. Желающих попасть на Новогодний бал оказалось так много, что из-за пригласительных билетов вышел скандал: в кои-то веки бал, со столами, с шампанским, закусками, живой музыкой, где бы ещё и показать себя в праздничном наряде труженикам села? А Полина этого понимать не хотела!
Можно представить, что испытывал Павел всю новогоднюю ночь. И хотя знал неуступчивый Полинин характер, верить, что ушла, как пригрозила, в чужую компанию, не хотелось. Назло, поди, и сказала, а сама всю ночь у телевизора просидит.
Во втором часу ночи, с новогодним подарком, бутылкой шампанского под мышкой Павел шагал по знакомой до мелочей улице Достоевского. Морозный иней блестел на ветвях, кустах и штакетнике. Почти во всех окнах частных домов празднично горел свет. Во дворе одного из них плясала под баян весёлая толпа.
– Эй, красивенький, – крикнула ему вслед румяная молодка, – иди поцелую!
На подходе к дому Павел заметил, что окна темны, в том числе – и в угловой комнате, где частенько сиживали они с Полиной по вечерам. И всё равно не хотелось верить, что её нет дома. Ну, смотрела, успокаивал себя, телевизор, уснула, Клавдия Семёновна сунула под голову дочери подушку, выключила свет и легла сама.
Потопывая по крыльцу до мелочей знакомой веранды, Павел всё не мог решиться нажать кнопку звонка. А вдруг и впрямь Полины дома нет, и он подымет родителей. Хорошо, если откроет «тесть», как звал он про себя Полининого отчима Александра Егорыча, носившего, как и его отчим Василий Михалыч, вместе с матерью и сестрой другую, в отличие от них с Аркашей, фамилию, ну всё как у Полины, только у неё была старшая по отцу сестра Алла и младший по отчиму брат Гоша, и они с сестрой были Евграфовы, а все остальные в семье Шахровы, тогда как у Павла все, кроме них с братом, были Панкратовыми. В этом совпадении Павлу даже виделось некое знамение судьбы… Словом, хорошо, если откроет Егорыч, а если Клавдия Семёновна?
«А что если в окно постучать? – неожиданно пришло ему в голову. – А что, тогда и родителей будить не придётся».
Пристроив бутылку шампанского с подарком на скамейке, Павел через боковую калитку вошёл в сказочно одетый пушистым инеем вишнёвый сад и уже поднял руку к стеклу, когда до слуха долетел до боли знакомый смех. И тотчас пронзило:
«Неужели с Дубовым?»
Первое желание было – выйти и встать на пути безмолвным укором. Однако, подумав, решил всё-таки спрятаться и проследить, что будет дальше, до последнего момента, и тогда уже будет всё…
Уже за углом веранды Павел вспомнил, что забыл на скамейке подарок, дёрнулся было назад, да понял, что не успеть.
И в ту же минуту до него долетело:
– Постоим?
По голосу Павел сразу догадался, что это не Дубов. Тогда кто?
– Да я с ног валюсь, – был ответ. – Пока.
– А поцеловать?
– Перетопчешься!
Стукнула калитка, проскрипели торопливые шаги. Неожиданно замерли.
– Это ещё что за новости?
Скрываться дольше не имело смысла.
На скрип шагов Полина испуганно обернулась.
– Ты?!
Павел даже не представлял, что можно вот так, до жути, любить и ненавидеть одновременно!
Тягостное повисло в стылом воздухе молчание. Казалось, и нужно было сделать всего лишь шаг, и тотчас бы начались взаимные излияния в собственной неправоте, страстные, как после долгой разлуки, поцелуи, но, к сожалению, этого не произошло. Павел считал, что шаг этот должна была сделать Полина, она, очевидно, ждала его от него. А теперь в который раз за время разлуки Павел совершал его в воображении, страдая оттого, что уже ничего не вернуть. Ну всё как в одном из посвящённых ей стихотворений, каждая строка которого отзывалась сердечной мукой:
Я люблю тебя, слышишь, люблю!В тихом сумраке замираю…И целую тебя, и ласкаю —Жаль, что это только в бреду.Ну а тогда выдержал характер. Лихо откупорив бутылку шампанского, захлёбываясь, стал тянуть из горла.
Полина молча на это смотрела.
Ну что бы стоило ему прямо с бутылкой в руке, уже как бы во хмелю, подойти, обнять, шепнуть на ухо: «Полина, милая, родная моя!» Так нет же, назло продолжал это проклятое пойло тянуть.
И Полина ушла.
О, этот последний миг! Он как теперь стоял перед его глазами!
Прежде чем скрыться за дверью, Полина обернулась, пронзив долгим, до сердечной боли ощутимым взглядом. Ну, чтобы не кинуться, не крикнуть ему: «Полин, постой, погоди-ка, чего скажу!» Так нет же, опять присосался к этой треклятой бутылке, а потом отвратительно отрыгнул газ.
Дверь захлопнулась.
Если бы не шампанское, у него бы, наверное, разорвалось сердце.
А далее всё, как сплошной кошмар: он встаёт и ложится с жутью от мысли, что отныне Полину целует другой. И хотя с того момента как стал играть в ансамбле, глаза ему мозолили девчата из хореографической студии, ни на одну он не смотрел. И всё это время, до самого отъезда в тайгу, между ним и Полиной происходила одна и та же история – пока был трезв, держал характер, выпив, тащился разбираться, из чего выходил очередной скандал. За эти пьяные похождения Клавдия Семёновна просто возненавидела его. Один раз даже заявила, что не видать ему дочери, как своих собственных ушей, на что он, придурок пьяный, брякнул, что каким-то особенным зрением как раз одновременно их оба видит.
Тогда он работал на ГЗАСе (Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова), куда приходилось пять раз в неделю ездить на первой шестичасовой электричке (на семичасовой – минут на десять опаздывал), и до появления остальных либо сидел в белом халате за регулировочным стендом, либо бродил по пустому цеху. Завод был элитный, устроил туда Павла сосед, инженер, к тому же заядлый радиолюбитель, заразивший этим делом в отрочестве Павла. Научил читать радиосхемы, растолковал принцип работы радиоламп, транзисторов, диодов. Показал, как мотать высокочастотные и низкочастотные трансформаторы, вырезать из текстолитовых пластин платы, рисовать лаком нити соединений, специальным составом вытравливать остальную медь, сверлить отверстия, ставить в них клёпки, впаивать разноцветные радиодетали и, подключив питание, «оживлять» сборку. Это было занятием интересным и отнимало уйму времени. Мама, правда, считала, всё лучше, чем по улице со шпаной носиться, и на радиодетали деньги давала. Когда же Павел увлёкся «писаниной», всё это отошло на задний план и, казалось, уже никогда не пригодится, ан нет: сосед предложил работу, и Павел с радостью согласился. И если бы не свалившееся на голову в первый день нового года несчастье, Павел мог бы считать себя вполне респектабельным человеком. За понятливость его в цеху уважали. И бригада попалась отменная. Такое же, как у Трофима на шелковом комбинате, бабье царство сборщиц – девушек и женщин от восемнадцати до пятидесяти лет. Были и красавицы. Особенно одна, как нарочно, с именем первой школьной возлюбленной, о которой был написан заинтересовавший «Юность» рассказ, – Люда. Было ей, как и Павлу, двадцать, симпатичнее, выразительнее лица, казалось, придумать было нельзя, и если бы не Полина, Павел непременно бы влюбился в неё. Тем более как-то сразу обратили они друг на друга внимание. Из необъяснимой у молодых людей тяги друг к другу с первого же дня пожелали вступить в разговор, и с тех пор частенько дружески болтали о том о сём, когда в начале месяца случался простой. И ещё одна красавица на участке работала, за которую Павла сватали уже все, кому не лень. Восемнадцать лет, пшеничные волосы, длинная коса, синие глаза, к тому же дочь заводского начальника, говорили, завидная невеста, но вот хоть убей, не лежала к ней душа, и всё тут. Даже когда поссорился с Полиной, с безумным предложением подошёл не к ней, а опять же к Людмиле. В порыве злобы, помнится, в отместку, с утра самого подсел и заявил с ходу:
– Люд, выходи за меня замуж?
Казалось, она не очень удивилась. Ласково улыбнувшись, ненастойчиво возразила:
– Ты же меня совсем не знаешь, Паш.
– И что? – в нетерпении возразил он, словно от её немедленного согласия разом бы прекратились его мучения. – Пойми, мне надо остыть!
Ласковую улыбку мгновенно смахнуло с лица.
– Я же не холодильник, Паш.
Ближе к весне Павел стал ездить в командировки в Коммунарск, куда добирался сначала самолётом до Ворошиловграда, затем автобусом до утопающего в садах небольшого шахтёрского городка, в котором находился небольшой завод по изготовлению всего одной детали для собираемых ГЗАСом радиостанций. И не было ни одного случая, чтобы детали сделали в срок, и каждый раз, чтобы дать план, за ними приходилось кому-нибудь из молодёжи ездить, буквально высиживая каждое утро в приёмной очередное обещание сдать, крайний срок, завтра или после завтра заказ, и, наконец получив его, стрелой лететь назад. В одну из таких поездок, изнывая от очередного приступа тоски в пустом номере гостиницы, буквально за один вечер Павел накатал целую ученическую тетрадь стихов.
А вскоре представился случай их показать.
В тот вечер ему посчастливилось догнать Полину на тротуаре идущей от станции улицы и, в очередной раз с неумирающей надеждой на возобновление отношений проводив до дома, достать из кармана плаща согнутую вдове тетрадь.
– Возьми.
– Что это?
– Стихи. Как бы нехотя, явно сгорая от любопытства и в то же время не желая этого показать, Полина взяла.
А ещё через пару дней посчастливилось встретиться в электричке и, с тем же тревожным чувством ожидания очередной подачки проводив до калитки, спросить, что Полина по поводу его стихов думает.
И тогда, отводя в сторону глаза, она сказала:
– Теперь это не от одной меня зависит. Извини, Паш, но ты сам себя показал. Мама даже слышать о тебе не хочет.
– А ты?
– А что – я? Ну что?.. Хотя… – как будто обо что-то споткнулась. – Вот если бы ты стал военным… Мама бы меня за военного бегом отдала.
Чем он давно переболел, так это «военными». Было дело, певала тётя Лида Кашадова, старшая мамина сестра, что военных-де самые красивые девки любят. И Павел давже поддался на уговоры, подав документы во Львовское военно-политическое училище, где в единственном из всех остальных готовили военных журналистов. Но до экзаменов его по каким-то причинам не допустили, а потом, сполна хватив армии, думал, и слава Богу, а теперь судьба толкала на эту дорожку опять. И ведь согласился же! Даже договорились, как только он поступает в училище, они сразу подают заявление в загс. Буквально на другой день Павел прилетел в военкомат. Но там ему в очередной раз заявили, что Львовское ему не светит, а вот в общевойсковое, самое никудышное, значит, куда никто идти не желает, взять могут. Сказав, что подумает, Павел приуныл, и всё же ради Полин он готов был тогда примириться даже с этим общевойсковым. И что же?
– Наверное, теперь уже и так не получится, – выслушав его, с явным сожалением ответила Полина. – Я заикнулась вчера маме, она даже слушать не хочет. Да хоть, говорит, генералом. Только какой, говорит, из него, к чертям собачьим, генерал!.. Извини.
Генералом он, конечно, не будет, это верно, но чтобы так!
И Павел ушёл с кровавой обидой.
Но теперь он готов был простить не только это, но даже измену, которая, думалось ему, всё же была, когда за неделю до отъезда на прииски, по дороге на станцию увидел идущую по тротуару вдоль совхозного сада при параде Полину. Тотчас вспомнил, что накануне её одноклассника провожали в армию. О том, что она пойдёт на проводы, конечно, предполагал, но уж никак не думал, что останется на ночь. И это бы ничего, но то, что началось потом, его просто раздавило.
Завидев Павла, Полина сделала вид, что не видит и тут же свернула за угол сада. Павел прибавил шагу, повернул следом. Когда же увидел, как, поворачивая за очередной угол, Полина оглянулась, понял, что сделала она это лишь для того, чтобы убедиться, что он идёт за ней. Павел не стал её в этом разубеждать. Однако стоило Полине скрыться из вида, тотчас развернулся и со всех ног припустил по улице до следующего, ведущего к саду проулка, намереваясь перехватить беглянку на полпути. Однако стоило ему свернуть в проулок, как тут же увидел спешащую ему навстречу Полину, с опаской поглядывающую назад.
Чтобы столкнуться как бы случайно, Павел замедлил шаг, специально глядя себе под ноги. Когда же в предвкушении развязки поднял глаза, Полины в проходе не было, и, в очередной раз прибавив шагу, увидел её бегущую вдоль совхозного сада в сторону школы.
– Ну и беги, тварь!
И всю дорогу до станции поносил её площадными словами.
Когда же наконец улеглась и эта боль, и особенно после того, как зачесались руки писать, перебирая в памяти события того утра, всё это увидел иначе. Ведь если бы Полина на самом деле разлюбила его, зачем бы тогда и бежать? «Ну, увидел? Доволен теперь?» – сказала бы она гордо и зло, как умела это делать, и пошла бы своей дорогой. Так нет же, всячески попыталась скрыть от него свой ночной позор! Стало быть, на что-то надеялась?
О, как хотелось ему в это верить, а так же в то, что ещё не всё потеряно.
И тогда в знак примирения написал Полине письмо: что моет золото, что пишет повесть о ней и, когда напишет, пошлёт Трофиму, чтобы перепечатал и предложил в редакцию какого-нибудь журнала, а на следующий год, может, и в Литинститут ещё раз попытается поступить, пока, в общем, не знает, прибавив не без намёка, что всё будет зависеть от обстоятельств, передавал от Трофима привет (и то было правдой), и завершил словами: «Хочу, чтобы ты знала обо мне всё».
А буквально позавчера пришло письмо от Трофима, с очередным приглашением на Новый год. И повесть, мол, присылай. «Чем сможем, поможем». И Павел в ближайшие дни решил написать о новогоднем приглашении Полине, только не на домашний адрес на этот раз надумал отправить письмо, а на адрес подружки-соседки, чтобы Клавдию Семёновну вокруг пальца обвести, а то узнает, костьми ляжет, а никуда дочь не отпустит. Первое же письмо, в котором не преминул упомянуть о заработках, специально послал так, чтобы попало «тёще» на глаза, пусть пораскинет мозгами, такой ли он зять, с которого так уж и нечего взять.
Меж тем рассвело.
И столько в свете этого раннего утра вдруг почудилось многообещающей надежды, что Павел умиротворённо вздохнул и, с белой завистью вспомнив о Петином подвиге, решил, что по возвращении с ночной смены сядет за рассказ, который так и назовёт – «Наводнение».
10За панорамным, закруглявшимся под ноги лобовым стеклом вертолёта МИ-2 простиралась знакомая по первому полёту тайга. Вертолёт шёл ровнее и ни разу не провалился ни в одну из воздушных ям. Оперативники (пятеро в гражданке, с «акээмами» меж колен) дремали сзади, а Петю мучила совесть, что из непростительного угодничества поддался на беззастенчивое враньё, к которому склонил его вчера председатель артели, когда при нем стал врать начальнику милиции, сообщившему о побеге из зоны трёх заключённых и уже ограбивших геологов, что будто бы Петя слышал по рации, как кто-то якобы из той геологической партии передавал кому-то, что зеки отправились к старателям. И зачем это председателю было надо, думал Петя, если перестраховаться хотел, так бы и сказал, а то наплёл с три короба. Кто бы знал, как стыдно было ему, глядя немолодому полковнику в глаза, опуститься до лжи, и теперь, сидя на переднем сиденье вертолёта, он время от времени повторял про себя с неутихающей обидой: «Ну и трепло!»
Но, как водится, строит начать, а там и не остановишься. По приземлении на небольшом пятачке у въезда в Покровское, отводя в сторону глаза, слово в слово повторив недавнее враньё, Петя доложил начальнику участка, что прибыл для внепланового вывоза намытого за неделю золота, и на всю ночь отпросился на полигон.