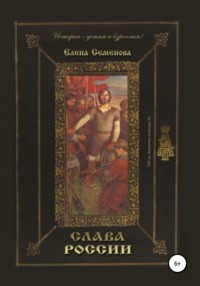
Слава России
Девочка с трепетом взяла крест и прижала его к груди. Некоторое время она молчала, а затем ответила серьезно:
– Нет. Я буду носить его. Я… хочу принять твою веру!
Радостью вспыхнули васильковые глаза, но и встревожились точно:
– Сандушка, да ведь они не простят тебе этого!
– Ну и пусть, – беззаботно ответила Санда. – Вы же с отцом живете. И труды рук ваших не отвергаются от того, что вы верите в Христа.
– А твоя семья? Ты готова лишиться ее?
Сжалось на мгновение сердце. Отец никогда не простит ей принятие чужой веры. А мать?.. Лишиться любви ее и ласки, причинить ей такое горе? Вот, сейчас готовит она угощения для скорого праздника и, должно быть, сердится, куда пропала ее непутевая дочь, почему не помогает ей. А еще тайком – Санда подсмотрела – шьет ей мать к Велен-моляну новый сарафан, красный, как она всегда мечтала! Шьет и мечтает, как возрадуется подарку ее любимица. Даже слезы навернулись на глаза девочки при мысли о матери… Но она сдержала их, тряхнула головой, отметая сомнения:
– Я готова, и я решила…
Легко быть решительной рядом с этим сильным и добрым пригожим отроком. Может ли быть у нее иной бог, нежели его, если сердце ее ему принадлежит и полнится счастьем, лишь когда он рядом? Две березы сплетенные – это ведь они: она, Санда, и Ратмир… Никли, звеня листвою, ветви к ним, благословляя и сочувствуя. Никла льняная головка Санды к сильному плечу Ратмира… Вечер тихонько натягивал свой покров на опушку, выдыхал прохладу из невидимых уст. Давно пора было прощаться, но так хорошо было сидеть на траве у любимой березы и чувствовать, будто ничто не может разъять две жизни, подобно двум сплетенным узлом стволам.
***
Первого епископа в Ростов поставил еще киевский князь Владимир, заложивший здесь и первую церковь – Рождества Пресвятой Богородицы. С той поры епископы то являлись, то отсутствовали десятилетиями. Тяжко было им нести Божие слово в этих диких краях, выносить злобу местных племен. И даже защитить их было некому, сиротствовала земля ростовская без князя, лишь посланники его с дружиною являлись сюда за данью.
Когда прибыл в Ростов Леонтий, все думали, что недолго удержится и он. Но новый епископ оказался духом крепок и терпеливо сносил все унижения. Сколько раз бывал он бит, сколько оскорблений и наветов вынес! Во имя чего? Во имя спасения душ человеческих…
Стар был святитель годами, но крепок силами. Силам этим дивилась Санда. Откуда бы взяться им в этом почти прозрачном от непрестанных постов и молитв теле? Оно точно иссушено было, кажется, подует ветер и унесет. Но наперекор всем ветрам твердо стоял старец на земле, и веяло от него нерушимым спокойствием, верой в свою правоту, приветливостью ко всякому.
– Ну, здравствуй, радость моя! – приветствовал он Санду, когда привел ее к нему Ратмир. И в этом приветствии, действительно, была неподдельная сердечная радость. Она так и струилась из ласковых глаз старца, и все тонкое лицо его словно бы излучало свет.
– Кажется, что внутри него солнышко живет… – шепнула Санда Ратмиру, и тот улыбнулся в ответ.
Старец с солнечным лицом долго говорил с девочкой, как никогда и никто не говорил с нею прежде, как может говорить лишь самый-самый родной человек, самую душу твою видящий и бесконечно любящий.
– Батюшка, как же ты можешь любить людей, когда они тебя так жестоко обижают?
– Да ведь люди – те же дети. Можно ли обижаться на детей? О них скорбеть и молиться надо, их лукавый враг обманывает и мучит. А они, им мучимые, муку свою на мне, многогрешном, вымещают.
– Дети, батюшка, любят тебя.
– Это потому, что в них душа еще чиста, к свету и любви великую чуткость имеет. А чем взрослее человек, тем больше на душе коросты. И обид больше, а от обид злобы…
Никого не осуждал Леонтий, ни о ком не говорил худого слова. Жил зимой с окнами, выбитыми озлобленными людьми, но не простужался, словно и холода не ведал. Поняла Санда, от чего с таким восторгом говорил о старце Ратмир. Он и впрямь совсем не походил на тех кудесников, в ворожбу которых верили в здешних краях.
Дети собирались у Леонтия тайком, навлекая на себя гнев родителей, бывая биты за то. Старец учил их грамоте, рассказывал о Христе… А потом все вместе молились. Чудны были те молитвы! Санда почти не понимала их слов, но сам напев их наполнял душу неизъяснимым восторгом. Молитвам учил ее сам Ратмир, который вместе с отцом сослужил Леонтию. И вскоре девочка вторила им уже вполне осознанно. Ее струйчатый голосок чрезвычайно украсил маленький хор.
Много дней миновало, пока старец благословил Санду принять святое крещение.
– Видел я, что пришла ты к нам не по Боге, но по человеку. Однако, теперь и Богу открылось сердце твое.
Все знал многотерпеливый старец Леонтий, все видел и понимал. Знал и потаенную мечту девичьего сердце, что однажды он обвенчает ее с тем, кого нет ей дороже во всем белом свете…
***
Все тайное однажды становится явным. Как ни таилась Санда от родных, улучая удобные часы, чтобы посетить старца и увидеться с Ратмиром, а все же дознались о крещении ее. Еще не обсохли волосы после троекратного погружения, еще дрожало сердце волнением сделанного безвозвратного шага, когда грозный гомон голосов раздался у дома Леонтия.
В доме в тот час был лишь сам епископ, Санда, Ратмир с отцом, старуха Агафья, ставшая восприемницей девочки, и дюжина ребят, всегда окружавших старца.
– Открывай, змеиное отродье! Верни сей же час девку!
С ужасом узнала Санда голос отца. Тяжелая рука Шугаря уже стучала в дверь, грозя разломать ее в щепы. В окна полетели камни.
– Агафьюшка, прибери-ка деток, – ласково сказал Леонтий старухе с видом самым безмятежным.
– Открывай, коровье вымя!
– Айда сожгем проклятущего!
– Куда «сожгем»?! Там дети наши!
– Не наши уже это дети! Пусть станут жертвами богам! – бесновалась толпа снаружи. В окно видела Санда перекошенные злобой лица отца, братьев, дяди Елмаса, соседей.
– Сандушка, уйди лучше, – сказал Ратмир. – Схоронись вместе с детьми в подпол!
– Нет! – вскрикнула девочка, вдруг с ужасом представив, что может сделать эта толпа с ее суженым. – Я останусь с тобой и батюшкой Леонтием!
Треснула под ударами дверь бедного жилища, и Никита, получив безмолвное благословение старца, распахнул ее и первым вышел на крыльцо:
– Угомонитесь, безумные! – крикнул он своим зычным голосом, перекрывая им яростные вопли.
Но не тут-то было.
– Отойди, кожедуб! Отдай нам старца и верни нашу девку! – рявкнул Шугарь.
Брошенный кем-то камень ударил Никиту в плечо, но тот даже не вздрогнул.
– Остановитесь, братья! Почто хотите вы совершить злодейство?! Что сделал вам отец Леонтий?!
– Он отвращает от нас наших детей, а ты ему в том помощник! – был ответ, и в следующий миг тяжелый удар чьей-то дубины обрушился на голову кожедуба. Тот охнул и стал оседать на землю.
– Отец! – вскрикнул Ратмир, выхватывая нож. Но обезумевшая от страха Санда бросилась ему на шею, а старец отнял оружие.
– Оставайтесь здесь оба, – повелительно сказал Леонтий. – Я не позволю пролиться еще и вашей крови!
С этими словами он перекрестился и вышел навстречу разъяренной толпе. Яростный рев приветствовал его. В старца полетели камни, которые, казалось, должны были бы тотчас сокрушить хрупкое тело. Но Леонтий стоял неколебимо и безмолвно, сложив на груди крестом свои худые руки. Он молился. И точно услышав эту молитву и желая вторить ей, из подпола раздался переливистый звон детских голосов, певших псалмы. Теперь ангельских хор соперничал с руганью бесовской…
А дальше случилось нечто, чего еще никто и никогда не видал в этих краях и далеко за их пределами. Окровавленное лицо мученика вдруг просияло, словно солнце, ослепительный свет стал исходить ото всей фигуры его. Это сияние было столь ярко, что люди не могли вынести его, не могли смотреть. Иные из них в ужасе бежали прочь, другие падали на колени, закрывая руками лица. А иные бились на земле в горьком отчаянии, ибо лишились зрения. Среди них был и отец Санды.
Наконец, небесный свет, исходивший от старца, погас. У его ног лежал бездыханный Никита, а у крыльца ползали, рыдая и прося пощады, несчастные слепцы. Ратмир с плачем бросился на труп отца. Санда не отходила от него ни на шаг. Всхлипывая сама, она ласково обнимала его, шепча слова утешения. Леонтий опустил руку на голову отрока, сказал мягко:
– Крепись, мой сын. Отец твой мученического венца сподобился, велика теперь честь ему в чертогах Господа нашего!
Осторожно вышли из дома дети с Агафьей.
– Батюшка, – запричитала старуха, – да ведь эти нехристи совсем изувечили тебя! Позволь омыть раны твои!
Леонтий и впрямь был жестоко изранен, весь покрыт ссадинами, белоснежные волосы его слиплись от крови. Однако, отстранив Агафью, он покачал головой:
– Со мной после, матушка. Сперва должно помочь сим несчастным людям, – старец кивнул на рвущих на себе волосы от отчаяния слепцов.
– Да чем же им теперь поможешь? Покарал Бог злодеев, и поделом им!
– Господь наказует, Господь и прощает, – вздохнул Леонтий. – Принеси-ка масло наше, матушка.
Старуха повиновалась и вынесла из избы сосуд с освященным маслом.
– Детушки, – поманил старец своих воспитанников, – возьмите сей сосуд и смажьте слепцам очи, а я буду молиться, чтобы Господь отверз их.
Дети исполнили приказание возлюбленного наставника, и через считанные мгновения все слепцы вновь стали зрячими. Полубезумными от пережитого страха и радости вновь видеть дневной свет глазами озирались они вокруг себя и, пятясь, уходили, с великой робостью глядя на высокую фигуру старца, крестящего их вослед.
– Колдун! Колдун! – слышались испуганные голоса.
– Несчастные, темные люди… – покачал головой Леонтий и, наконец, позволил Агафье отереть кровь со своего лица. После этого он вернулся к телу Никиты, опустился перед ним на колени, трижды земно поклонился, крестясь, а затем, возложив руки на головы застывших в горестном безмолвии Санды и Ратмира, произнес своим мягким, вкрадчивым голосом:
– Терпите, детушки, как Господь наш терпел. И друг друга держитесь. Вас Бог друг другу дал.
***
Последние дни весны выдались знойными и засушливыми, и после долгого перехода жадно припали кони к водам Стугны. Здесь надлежало сойтись русской рати с половецкими тьмами или же заключить с ними мир. В княжьем шатре опять которы5 шли, не доспорили князья в Киеве.
– Грозен враг, не совладать нам с ним, – говорил Мономах. – Братья, для чего губить нам людей наших? Остановимся здесь и попросим мира!
Мудр был сей молодой князь и любезен сердцу воеводы Яна Вышатича. С юных лет стяжал он общую любовь к себе. Богатырь телом, был князь Владимир первым и в охоте, и в деле ратном. Не раз уже отведали половцы его доблестной руки с разящим всех недругов Земли Русской мечом! Разя врагов, чурался Мономах распрей со своими сродниками, от которых много страдала Русь. Наделил Господь князя не только силой и отвагою, но и мудростью, душою праведной. Он был воздержан в еде и питии, на пирах самолично служил гостям своим, гнушался греховных забав и сребролюбия и имел большое попечение о монастырях и нищей братии, для которой никогда не скудела рука его.
Этому бы мужу разума и силы стоять теперь над прочими князьями! И мог бы он стать, когда бы захотел… После смерти отца своего, князя Всеволода, Мономах мог остаться на киевском столе, но вместо этого доброю волею покинул стольный град, удалясь в Чернигов.
– Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Святополком, потому что этот стол был прежде отца его, – объяснял Владимир свое решение.
Горько было Яну, честью служившему князю Всеволоду и с колыбели знавшему его сыновей, слышать эти слова, но и не мог воевода не отдать должного мудрости Мономаха. Князь не желал достигать стола ценой братоубийственной усобицы. Все силы прилагал он, чтобы, напротив, унять ее, внести мир в обширную семью Рюриковых потомков, стремясь к соблюдению установленных правил и прав каждого Рюриковича. Этого воина-миротворца любил не только Ян, но и весь Киев, вся Русь. Горевали киевляне, что уходит от них их возлюбленный князь, но подчинились воле его, приняв с радостью князя Святополка, прибывшего на княжение из Турова.
Вздорный сын вздорного отца, он не знал Киева и имел великую жажду поставить себя в нем, показать себя. Тщеславие князя раздувала и его молодая дружина, тотчас оттеснившая дружину старую, Всеволодову. Это они, щеняти несмышленые, надоумили его посадить в темницу половецких посланников. Дескать, негоже начинать княжение покупкою мира, данью поганым! Уронит это славу молодого князя! А князю, скупостью также в отца пошедшего, к тому и дани было жаль.
Посадить послов в темницу просто. Да только в ответ на это половцы двинули тьмы свои на Русь и осадили Торческ. Святополк испугался и отпустил послов, но уже не желали мира поганые на прежних условиях. Уговаривал Ян и другие дружинники всеволодовы принять условия новые, смириться до времени. Но куда там! Ратился князь с восемьюстами отроками побить половцев!
– Хотя бы ты пристроил и восемь тысяч, так и то было бы только впору; наша земля оскудела от рати и от продаж: пошли-ка лучше к брату своему Владимиру, чтоб помог тебе, – сказал на то Ян.
Этого совета Святополк послушал. А Владимир, как добрый брат, хотя и супротив был похода, а пришел на подмогу со своими отроками, и брату Ростиславу велел сделать то же. Но даже втроем слишком ничтожное число являли они пред вражескими полчищами. И теперь, в виду оных, в последний раз пытался Мономах образумить зарвавшегося Святополка:
– Видишь ты, брат, сколь неравны силы наши! Если разобьют нас здесь, то кто защитит затем Землю Русскую? Кто защитит Киев?
А щеняти лаяли звонко:
– Не слушай, князь! Хотим биться! Пойдем на ту сторону реки и побьем поганых!
И не стал слушать тщеславец мудрых советов, боясь понести урон в глазах своей дружины.
– Довольно котороваться! Раз пришли на бой, значит, надлежит биться!
Ранним утром выстроилось русское войско на берегу Стугны. С печалью глядел на него Ян Вышатич, предугадывая беду. Вспоминалось воеводе совсем другое утро, далекое, туманом времени подернутое.
Ему, Яну, идет пятнадцатый год, и вместе с братом Путятой и матерью они провожают в поход отца. Славный Вышата, внук Добрыни Никитича, дядьки Владимира – Красного Солнышка, отправлялся с войском за море, которовались о ту пору русские с греками, и хотел еще один славолюбивый князь, Владимир Ярославич, показать свою силу самому византийскому Василевсу. Ведь удалось это некогда Красному Солнышку! И не давала с той поры потомкам покоя слава его…
Плакала мать по Вышате, что по убитому. Да и у Яна с Путятой сердца дрожали. Хотелось обоим плыть с отцом за море Понтейское, добывать мечом славу родной земле! Да, вот, беда – не вошли в лета еще! И оставил их родитель при мамкином подоле, словно младенцев… И, как оказалось, счастливо сделал.
Неудачным оказался тот поход для русского войска, греки разбили его, а затем многие ладьи штормом выбросило на берег. Вышата, хотя мог спастись на одном из уцелевших суден, в отличие от князя Владимира отказался от этого, сказав:
– Мое место с моею дружиною! Если жив буду, то с ними, а если умру, то с ними же!
Оставшись со своими людьми, воевода попал в плен к грекам и был ослеплен ими. Домой отец, слепой и состарившийся на добрых двадцать лет, вернулся лишь через три года. Ни слепота, ни пережитые испытания, однако, не сломили его. До конца своих дней Вышата был верным советником киевских князей и разделял с ними все их походы…
Протрубил горн в утренней звенящей тишине, ринулись полки через Стугну на другой берег… Половцы медлили, не шли навстречу, лишь осыпали стрелами наступающих. А когда русские вышли на берег и устремились вперед, захлопнули мышеловку – откуда ни возьмись появившиеся с обеих сторон половецкие отряды закрыли путь к отступлению, отрезали гордое войско Святополка от Стугны!
– Ну, братцы, не посрамим имени русского! – крикнул Ян Вышатич, врубаясь мечом в половецкие тьмы.
В безнадежном деле сраму, как говаривал князь Святослав, не имут только мертвые. Но эта участь пока что не прельщала Вышатича. А потому бился он не без смысла, но торя путь назад к Стугне и ни на миг не выпуская из поля зрения Мономаха. Этот князь – надежа Руси – не имел права сгинуть из-за глупого тщеславия брата! Его, во что бы то ни стало, следовало выручить из этой западни!
– Ратмир! – крикнул Ян своему оруженосцу, храбровавшему подле него. – Оставь меня и пробивайся к князю Владимиру!
Этот приказ не по нутру был молодому богатырю, бесконечно преданному воеводе, но нарушить его он не посмел…
Истекающее кровью и потерявшее многих ратников русское войско сумело вырваться из половецких тисков к Стугне. Но переходить реку в строевом порядке и спасаться в ее волнах от наседающего противника – совсем не одно и то же! Отчаянно ржали кони, не менее отчаянно кричали тонущие люди. Ян Вышатич, прикрывая княжеское отступление, с горсткой храбрецов сдерживал натиск половецких полчищ, обороняясь на все стороны света.
В какой-то миг он увидел страшное: посреди реки тонул вместе со своим несчастным конем князь Ростислав. Ранен ли был, или захватило бедолагу течением, а только из последних сил уже рвался он из норовящих поглотить его волн.
На помощь брату, забыв о наседавшем противнике, бросился Мономах. Знать, уверен был князь в богатырской силе своей, хватая Ростислава за протянутую в последней надежде руку. Но не тут-то было! Половецкая стрела настигла коня Владимира, и тот пал под ним, а самого его затянуло водоворотом вслед за братом.
– Ратмир! Ратмир! – отчаянно взревел Ян Вышатич, с ужасом понимая, что сам находится слишком далеко, и ничем не может помочь тонущим князьям.
Вряд ли мог услышать оруженосец крик воеводы в громе сечи, но он, следуя приказу, был рядом и бросился на выручку князьям. Жестоко израненный в битве, Ратмир сумел пробиться к тонущим и, ухватив Мономаха за обе руки, втащил его на своего коня, сам спрыгнув в воду. Он бросился было на помощь Ростиславу, но было поздно, вода уже сомкнулась над головой несчастного князя. И в тот же миг половецкая стрела поразила отважного богатыря…
***
Мерно звонили колокола Успенской церкви. Печален был этот звон, плакали колокола по павшим в битве и угнанным в полон русским людям. И плакало в унисон им сердце оруженосца Ратмира. Очнувшись, он не сразу понял, где он. Показалось на миг, будто бы в избе епископа Леонтия… Но нет, это не изба была, а пещера. Пещера Печорской обители, которую при Ярославе Мудром основал пришедший с Афона монах Антоний… Здесь, в пещерах, подвизались вместе с ним ученики – Феодосий и Варлаам. Последнего при созидании монастыря затворник Антоний, удаляясь в дальние пещеры, поставил его первым игуменом…
– Слава Господу, ожил, – в полумраке разглядел Ратмир молодого монаха с тонким, красивым лицом, обрамленным густой русой бородой.
– Кто ты? – хрипло спросил оруженосец.
– Игумен обители сей, недостойный Варлаам, – ответил монах.
– А я как здесь?
– А тебя нашему попечению поручил отец, строго-настрого наказав, чтобы мы тебя отмолили и вылечили. Уж очень дорог ты его сердцу. Ты битву-то помнишь ли? Из реки тебя уже почти бездыханным вытащили. Хотели оставить: бежали-то шибко, позади поганые наседали… А отец не дал! На своего коня уложил тебя и до самого Киева вез.
У Ратмира путалось в голове:
– Отец? – непонимающе переспросил он.
Варлаам чуть улыбнулся:
– Воевода Ян Вышатич. Мой досточтимый родитель.
Подивился Ратмир. Давно уже служил он Вышатичу, был правой рукой его, а не знал, что почитаемый киевлянами подвижник игумен Варлаам – его сын. Вот, стало быть, отчего столь часто бывает воевода в обители! Вот, откуда тесная дружба его с ее праведными насельниками! И сын – каков! Будучи отпрыском столь древнейшего рода, наследником первого в Киеве боярина, в какой бы славе и роскоши мог жить он! А вместо этого бросил все, чтобы в постах и лишениях подвизаться в пещере…
Светло и лучисто смотрели глаза монаха, и снова вспомнился незабвенный образ старца Леонтия…
– Мы с отцом Феодосием много молились о тебе, и вся братия. Ты спас князя Владимира, и он всякий день справлялся о тебе.
– Ростислава спасти не сумел… – вздохнул Ратмир.
– На все Божия воля.
– Что же, выходит, отче, я жить буду?
– Теперь уж непременно будешь, хотя от таких ран редкий богатырь поднимается.
– Жаль… – сорвалось с уст Ратмира. И хотя едва слышен был этот вздох измученного горем сердца, но Варлаам услышал. Игумен внимательно посмотрел на оруженосца и, сев подле него, заметил:
– Раны телесные не страшны тебе, иная рана тебя к могиле тянет… Ты эти дни бредил много. Много горя ты в своей душе заключил. Расскажи, легче станет.
– Не станет, отче, – покачал головой Ратмир.
– Ты в бреду своем все одно имя называл…
Оруженосец вздрогнул, сжал бессильно кулаки. Годы прошли, а неуемная боль и теперь ножом острым пронзила сердце. Выступили слезы от болезненной слабости…
– Епископ Леонтий завещал нам держаться друг друга, а я потерял ее, отче! Потерял! Она отреклась от всего мира ради меня, а я не смог ее защитить! Не смог спасти! И старца, наставника своего, также! И отца… И зачем после этого меня из Стугны вытаскивать? Лучше бы мне на дне ее остаться…
– Не гневи Бога, чадо. Что случилось с той девицей, о которой так скорбишь ты? Она умерла?
– Нет, отче, это было бы менее страшно… – отозвался Ратмир. – Мы должны были венчаться с нею. Но ее отец ненавидел христиан. Эту ненависть ничего не могло изменить, даже чудо, явленное ему святителем… Он собрал свою родню и друзей и ночью напал на дом старца, в котором в ту пору укрывались и мы. Они подожгли дом, отче! И убили владыку Леонтия. А ее… увезли…
– Что же было с тобой?
– А я, проклятый, уцелел. Они избили меня, жестоко, и бросили. Думали, видно, что я уже мертв. А я, как теперь, зачем-то ожил… Ожил, чтобы узнать, что мою невесту тою же ночью силой отдали в жены богатому вдовцу, известному своим свирепым нравом и до смерти забившему свою первую жену! – лицо Ратмира передернуло судорогой. – Что я мог сделать, отче? Я хотел бы убить их всех. Но я был один… Один! Один! И не имел даже меча… Я мог бы сжечь их дом, даже всю деревню, я даже представлял себе это! Но тогда бы погибла и она… Хотя, может быть, для нее это было бы лучше, чем ад, на который обрекли ее. А еще в деревне были дети, которые не были виноваты ни в чем. Как же я мог отнять и их жизни?
– Месть… недостойна христианина. И сам Бог уберег тебя от великого греха.
– Бог не уберег ее от мук, которых она не заслужила! – воскликнул Ратмир и осекся. – Прости, отче… Мне трудно, невозможно смириться… Тогда я несколько недель бродил по лесам, как безумный, как дикий зверь. А потом нечаянно встретил на дороге офеней6. Они меня пожалели и взяли с собой. С ними я пришел в Киев и решил поступить на княжескую службу. Тут мне улыбнулось счастье, твой отец отметил меня и взял под свое начало. С той поры никого нет у меня на земле, кроме него… – оруженосец перевел дух и, не желая дальше ворошить горькие воспоминания, спросил: – Скажи, отче, почему имея такого отца, ты не пошел по его стопам? Твой прадед добывал стол для Ярослава, о прапрадеде Добрыне доселе слагают песни странствующие гусляры… Тебе на роду было написано продолжать их стезю. И телом ты кажешься крепок. Зачем же ты здесь?
– Господь позвал меня, и я не мог ослушаться, – ответил игумен.
– Твой отец также верит в Бога, но это не мешает его ратной службе.
– У всякого своя служба и своя рать. Вся земля наша от грехов, от жестокостей, от обид терзается. Кто-то должен отмаливать их… Язычники приносят своим идолам скот, снедь, иные – людей. А мы, христиане, себя. Наш уход от мира, наше отречение от земных страстей – это наша жертва Богу. За все то зло, которое свершается, и которому не в силах мы помешать нашими слабыми руками, даже если в них есть меч… Но, поверь мне, чадо, нет жертвы более сладостной!
Гулкие шаги прервали речь монаха.
– А, вот, и отец, – улыбнулся он, узнав быструю, решительную поступь родителя.
Через мгновение Ян Вышатич, пригнувшись, уже входил в келью. Отец и сын взаимно приветствовали друг друга земными поклонами. Они похожи были, оба рослые, красивые. Только сын, живущий с отроческих лет в постах и молитвах, тоньше, суше. Отец выглядел более могучим и статным, и лицо его было обветрено, изрубцовано морщинами и полученными в сражениях шрамами, не портящими, впрочем, благородной красоты его. Темные волосы Вышатича были еще едва тронуты сединой и густы, старость явно не торопилась подчинить себе отважного воеводу.
– Рад видеть тебя живым, дружище! – радостно приветствовал Ратмира Ян. – Что, долго ли ты полагаешь еще оставаться на своем одре?