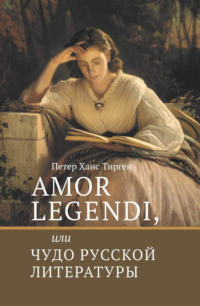
Amor legendi, или Чудо русской литературы
II. «Идеалисты, одной ногой завязшие в трясине»[115]
Томас Манн неоднократно говорил о том, что два главных литературных впечатления оказали на него наибольшее влияние: произведения Ницше и русская литература, которую он называл «святой» и которая дала ему представление о «русской душе»[116]. Обычно при конкретизации представлений немецкого писателя о русской литературе называют имена Толстого, Тургенева, Достоевского, Чехова и Мережковского. При этом совершенно не учитывается то огромное значение, которое Томас Манн придавал творчеству Гоголя. В своей статье «Русская антология» (1921) он утверждал:
Со времен Гоголя русская литература комедийна – комедийна из-за своего реализма, от страдания и сострадания, по глубочайшей своей человечности, от сатирического отчаяния, да и просто по своей жизненной свежести; но гоголевский элемент комического присутствует неизменно и в любом случае. ‹…› Но что же дает русскому комизму эту по-человечески выигрышную силу? То, несомненно, что он происхождения религиозного – доказательством этому самый его литературный источник, Гоголь, создатель комической школы[117].
По мнению Томаса Манна, именно в творчестве Гоголя берет начало то умонастроение, которое у Достоевского приняло вид «болезни и крестных мук», «адской боли, которая и вправду есть боль этой земли»[118]. Томас Манн считал, что именно Гоголю русская литература обязана угнетенностью, которая неизбежно следует из понимания того, что дьявольское начало – демоническое зло – в любой момент может оттеснить божественное благо и сотериологические обеты.
Со своей стороны, и Ницше, другое главное событие в жизни Манна-художника, поместил Гоголя в, так сказать, галерею портретов предков – как он их называл, «великих поэтов». Ницше сравнивал Гоголя с Байроном, Леопарди и Клейстом, считая, что их «души, в которых обыкновенно надо скрывать какой-нибудь изъян», погрязли во «внутренней загаженности» и что их мучительная память неспособна что-либо забыть. По мнению Ницше, эти люди, «одной ногой завязшие в трясине»[119], живут под властью «постоянно возвращающегося призрака неверия», подобно «блуждающим болотным огням, притворяясь в то же время звездами», а «народ начинает называть их тогда идеалистами»[120]. Именно этот пассаж Ницше Томас Манн процитировал в своем предисловии к антологии русской поэзии Александра Элиасберга[121].
Те, кто с текстами Гоголя накоротке, знают, что образы лужи, трясины и болота в них встречаются очень часто и весьма устойчивы. Так же, как в текстах Ницше, идея опустошения в прямом и переносном смыслах передана метафорической картиной Молоха, песчаной бури как воплощения зла, так и гоголевское творчество насквозь проникнуто описаниями заболоченных местностей и душ, погрязших в трясине мелочей, которые сливают воедино природные ландшафты и пейзажи души.
III. Сверхчувствительность Гоголя
Кем же был этот Николай Васильевич Гоголь, этот идеалист из окрестностей болота (Ницше) и писатель, положивший начало современной русской литературе (Томас Манн)? Попытаюсь предложить что-то вроде короткой психограммы. Не случайно личности и творчеству Гоголя посвящены многочисленные психоаналитические исследования. В истории русской литературы Гоголя с его причудливой смесью преизобильной фантазии, душевным хаосом, аналитической проницательностью рентгеновского аппарата и религиозными обсессиями можно сравнить только с Достоевским. Одно из ключевых понятий Гоголя – «беспорядок», «конфузия». В христианской (и не только) парадигме мышления разрушителем упорядоченного мышления и «диаволическим» зачинщиком беспорядка является черт. Слово «диаволический» происходит от древнегреческого глагола «diaballein», означающего «перевертывать вверх дном, сбивать с толку, приводить в замешательство».
Конфузия, замешательство, беспорядок царили в душевном домашнем хозяйстве Гоголя. Он страдал от перманентной боязни утратить идентичность, он был гоним поисками centrum securitatis[122] в своем существовании и всю жизнь алкал уверенности в точке опоры для своего бытия.
По рождению малоросс, он писал на русском языке. Сформированный в славянской среде, он многие годы прожил в Западной Европе, в том числе в католической Италии. Временами он размышлял, не сменить ли ему конфессию, не перейти ли из православия в католичество. С самого начала он не знал, должен ли он стать профессором университета или писателем. Свои первые произведения он печатал анонимно или под псевдонимом, лишь позже стал подписывать их собственным именем. Он имел ярко выраженную склонность к актерству, был тщеславен и раздражителен, но в то же время чувствовал отвращение к своему нарциссизму. Его периодически мучила ипохондрия, он страдал от психосоматических заболеваний, позже – от усиливающихся депрессивных состояний; тем не менее он приписывал себе роль исцелителя и учителя России – чем дальше, тем больше. Его отношения с семьей, вероятно, были омрачены эдипальными конфликтами, а позже он испытывал гомосексуальные влечения, которые подлежали табуированию и подавлению[123]. Его брачные планы терпели крушение. Наконец, крайнее писательское самомнение сталкивалось в нем со столь же крайней неуверенностью в своих творческих силах – вплоть до самоистребления. Все снова и снова Гоголь сжигал свои опубликованные и неопубликованные произведения, занимаясь регулярным самоистреблением в этих аутодафе. Именно одно из этих мероприятий стало причиной того, что «Мертвые души» остались, так сказать, торсом незаконченной скульптуры. Гоголь выпускал свои тексты из рук только после многократной скрупулезной переработки[124].
Ни один русский писатель не был до такой степени дисгармоничен и подвержен кризисам самоидентичности и приступам гиперестезии как Гоголь. Его существование раздирали на части мания величия и страх несостоятельности, его терзали мании и фобии, экзистенциальный раскол между «безумием и истиной»[125], а муки существования он маскировал созданием фасадных декораций. Он был искателем без исконной веры, без веры в человека и в Бога, но он был и одним из величайших писателей в истории мировой литературы.
IV. Между Богом и чертом: синдром страха
Эта дилемма сомневающегося-отчаивающегося человека и гениального художника может быть разрешима и объяснима в том случае, если смотреть на нее в свете (или, вернее, во тьме) только одного образа – а именно, образа черта. Искатель Гоголь и совратитель-черт как полномочный представитель злой силы создают своего рода пространство контакта, в котором креативный творческий дар Гоголя-художника оплачен деструкцией личности Гоголя-человека. Гиперестезия увенчана анестезией: именно к этой формуле можно свести трагический жизненный путь Гоголя.
Гоголь вырастал в обычной для того времени воспитательной системе дрессуры в духе приказаний и запретов, предписаний и угроз наказания. Важнейшим среди предписаний было, разумеется, десятословие. К этому можно прибавить категорические библейские догматы и поучения Отцов Церкви. Главными руководящими принципами, в которых Гоголь был воспитан и которые он впитал, гласили:
– Бог все видит;
– черт бесчинствует повсюду;
– кто поддастся искусителю, вкусит адские муки.
Эти три принципа были неопровержимыми мáксимами, в которые Гоголь глубоко веровал. Всю жизнь он был заключен в их тесную клетку. И поскольку эти три правила имеют априорную силу, я кратко охарактеризую их.
1. Бог все видит
В памятной записке 1840-х годов Гоголь, в это время уже законченный проповедник с вертикально-векторным мышлением, пытающийся предостеречь ближних своих, заметил: «Всех нас озирает свыше небесный полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от его взора»[126]. Разумеется, это не есть прозрение позднего времени. Уже в молодые годы Гоголь давал матери педагогические советы относительно воспитания сестры и поручал ей внушить Ольге Васильевне, «…что Бог все видит, все знает, что она ни делает» (X, 281)[127]. «Фундамент всего» – «правила религии» (Там же). Весьма вероятно, что в этом утверждении Гоголь ссылался на текст монастырского устава (см. об этом подробнее параграф IX настоящей работы), в котором тезис всеведения/всевидения Бога был общим местом. Если принять этот тезис, придется признать, что человек живет в условиях тотального надзора, в системе неусыпного слежения. Он заключен в нравственную ловушку. Бог видит все и всех. Положение юноши Гоголя в этой парадигме можно уподобить положению человека, неспособного выплачивать проценты по кредиту. Как и любому другому, ему случалось провиниться: солгать и покривить душой, помучить животное, впасть в соблазн щегольства и тщеславия, позавидовать, наконец, совершить сексуальное прегрешение (как правило, мнимое) и т. д. «Нормальное», т. е. обычное, человеческое прегрешение вырастало в его глазах до размеров истинного преступления и даже смертного греха. Перед лицом Бога каждый мужчина, каждая женщина прозрачны, как стекло, нет защиты от всепроникающего взора. Обычно такое самоощущение определяется как террор добродетели. Трактат Эрика Хоффера «Фанатик» гласит: «Возвышенная религия неминуемо воспитывает мощное чувство вины. Тем самым создается необходимый контраст между возвышенностью вероисповедания и несовершенством практического поведения» (фрагмент 72). Горе тому, кто не покаялся в грехе и не искупил его!
2. Черт вездесущ
Средневековым мышлением, как это показал историк религии и общественного сознания Петер Динцельбахер, владела грозная сила тезиса «Ubique diabolus» – «черт вездесущ». В православии и в русских народных поверьях черту тоже отведена огромная роль. Для его номинации в литературном языке и просторечии существует множество слов, и почти ни одно из них не является эвфемизмом[128]. Русские слова «бес» и «бояться» этимологически родственны. Для обозначения распространенных формул проклятия и брани с упоминанием черта существует специальный глагол «чертыхаться». В древнерусских текстах царь, не соблюдающий божьих заповедей, именовался «прислужником Сатаны». В русских житиях святых подвиг борьбы с чертом – одно из самых распространенных общих мест, и даже в эпоху прогрессивного развития идеологии Нового времени русский страх перед чертом принимал все более обширные масштабы[129]. Тем более важными идеологическими коррективами стали более поздние идеалы: imitatio angelorum (подражание ангелам), imitatio apostolorum (подражание апостолам) или imitatio Christi (подражание Христу)[130]. Совсем недавно известный русский писатель Виктор Ерофеев констатировал: русская народная мораль покоится на религиозной основе, поскольку считает земную жизнь «греховной» и «управляемой дьявольскими силами»[131].
По представлениям Гоголя между Богом и чертом идет непрерывная битва. Объектом битвы и полем сражения является человек. Он должен совершать выбор между добром и злом, между спасением и адскими муками. В этой позиции есть только одно «или-или». Подведомственная черту территория – земной мир людей[132]. Православной церкви были в целом чужды представления некоторых Отцов Церкви (Оригена, Григория Нисского) о том, что даже мир, подвластный черту, может обратиться к Богу и обрести всепрощение. Те же, кто распространял учение о так называемом Apokatástasis pantōn (восстановление всего)[133], могли подлежать даже отлучению от Православной церкви (анафеме)[134]. В православной эсхатологии действует принцип: «Праведным душам уготовано сияющее царствие небесное, всем же грешникам – муки [ада]»[135]. Ни на одном пути не миновать всеобщего Страшного Суда, который отделит праведников от грешников и всем воздаст по заслугам.
Если русское мышление изначально исходит из дуальной (т. е. антагонистической) модели «добро-зло» (соответственно, «рай-ад»), значит, оно, как это показали Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский, обладает «принципиальной полярностью». Напротив, западное мышление полагает наличие между двумя крайностями «нейтральной сферы», а именно – чистилища. Согласно Лотману и Успенскому, сфера чистилища, дающая грешникам возможность спасения, является «структурным резервом» сбалансированности западного мышления, не свойственной православию[136]. В православной парадигме человек может быть или только святым, или только грешником. Tertium non datur (третьего не дано).
Как представляется, именно в плену этой дилеммы «или-или» находился и Гоголь: с самого детства он впал в панику относительно своих мнимых или действительных грехов. Бытие черта было для него несомненным фактом и тем самым – реальной экзистенциальной опасностью, а не просто безобидным вымыслом народных верований или предрассудков. Сильно ошибаются те гоголеведы, которые до сих пор полагают, что его черт – это просто забавная фольклорная шутка. Гоголь вряд ли согласился бы с многократно цитированным гегелевским определением просветительского сознания, представляющим собой перефразированную цитату из трагедии Гёте «Фауст»: «Den Bösen sind sie los, das Böse ist geblieben»[137].
Напротив того, в 1840-х годах Гоголь пишет:
Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми (VIII, 415).
Дух тьмы близок к тому, чтобы свергнуть власть «небесного полководца». Позже Набоков скажет, что Гоголь больше верил в существование черта, нежели в бытие Бога[138]. Этот панический страх перед возможным триумфом зла вынудил Гоголя перед самой смертью взмолиться Богу об обуздании сатаны, чтобы его – Гоголя – друзья могли быть не «мертвыми», а «живыми душами»:
Помилуй меня, грешного, прости, Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста! Будьте не мертвые, а живые души[139].
Гоголя целиком захватила патология манихейских представлений о мире. Даже паломничество в Иерусалим, предпринятое им весной 1848 г., оказалось неспособно что-либо изменить.
Тема черта в творчестве Гоголя долгое время оставалась в небрежении, и лишь в 1900 г. ее по достоинству оценил Дмитрий Мережковский[140]. Томас Манн назвал Мережковского «гениальнейшим критиком и мировым психологом после Ницше ‹…› его ‹…› беспримерную работу о Гоголе мне не с чем сравнить!»[141].
3. Страх ада
Если существование черта и его триумф представляются реальной возможностью, неизбежна вера в реальное существование ада вместе со всеми адскими наказаниями и муками. Именно так обстояло дело с Гоголем. В цитированном выше письме от 1833 г. Гоголь напоминает матери об одном своем детском переживании и пишет:
Но один раз, – я живо, как теперь, помню этот случай. Я просил вас рассказать мне о Страшном Суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли (X, 282).
И сестре, по мнению Гоголя, тоже необходимо рассказать, «какие ужасные, жестокие муки ждут грешных» (X, 281)[142].
В такого рода пассажах мы находим доказательство не только гиперестезии (сверхчувствительности), усердно культивируемой самим Гоголем, но и актуальности довлевшей над ним тройной угрозы греховности, осуждения на адские муки и вечной кары. Эта триада выступает тем более отчетливо, что мать не ограничилась описанием вечных мук, ожидающих грешников, – она добавила к нему картину райских блаженств, уготованных для праведников. И опять вступает в действие схема «или-или», которая оставляет человеку лишь один выбор между наказанием и наградой. Всю свою жизнь Гоголь бился в этих тисках, тем более что покаяние и исповедь, осуществлявшиеся во множестве практических вариантов, были в России традиционно предписаны в приказном порядке. Позже именно эта традиция обеспечила ту легкость, с которой советская система эпохи сталинизма внедрила в общественное сознание и общественную жизнь беспрецедентную практику самокритики, самообвинения и самоосуждения[143].
Русская номинация последнего божественного суда над земным миром – «Страшный Суд»[144]. Такое усиление аффекта соответствующим эпитетом усугубляет угрожающий характер этого действа, вторично интенсифицируя ужас перед лицом предстоящих «воя и скрежета зубовного».
С Гоголем же произошло вдобавок еще кое-что. Его сверхчувствительность и острота взгляда прирожденного психолога перманентно заставляли его, перебирая полный регистр всех вероятных прегрешений помыслами, речами и поступками, уведомлять себя самого и ближних своих об их постоянной угрозе. Как это уже давно установлено наукой, Гоголь является одним из первоочередных предшественников Фрейда. Тиски дилеммы «ад-рай» были для него особенно тесными, поскольку их усиливали тиски другой дилеммы: «id-super ego». Дьявольские побуждения id для него располагались в парадигме вечной борьбы с мáксимой super ego «Бог все видит». И чем старше он становился, тем менее вероятной казалась ему возможность уравновесить id и super ego в собственном персональном ego.
Гоголю не хватало третьей сферы, того самого «структурного резерва» чистилища, который Лотман и Успенский увидели в западном менталитете и в котором отказали русскому. Его мышлением владела дихотомия негатива-позитива, лжи-истины, зла-добра. Поэтому гоголевское творчество представляет ту шкалу ценностей русской философии культуры, которую определяют как «аксиология гетеровалентности»[145]. Равноценность позиций в конструкции «как… так и» или совсем чужда этой шкале ценностей, или занимает в ней подчиненное место. По законам этой культурфилософской бинарной парадигмы тот, кто подвластен злому началу, т. е. дьявольским искушениям, непременно закончит вечными муками ада – и Гоголь был в этом свято убежден.
V. Прекрасная внешность и склонность к привычкам
Но в чем же заключается повседневное коварство черта?
Черт для Гоголя – почти непобедимый враг главным образом по двум причинам. Первая – это традиционное представление о прекрасной внешности. С самого начала Гоголь обнаруживает глубокое недоверие ко всяческим проявлениям внешней красоты и материальным соблазнам. Мирские блага вроде богатства, высоких должностей или сексуального наслаждения – все это, по его мнению, от черта. В письме от 14 июля 1851 г. он пишет одной из своих сестер, Е.В. Гоголь: «Милая сестра моя, люби бедность. ‹…› Кто полюбит бедность, тот уже не беден, тот богат» (XIV, 239). Во всем его творчестве нет ни одного привлекательного образа женщины, родителей или супружеской пары, но зато много образов тайных скупцов, внебрачных детей, скрытой похоти священников или внешне безобидных народных плясок, подобных макабрическим играм марионеток, отплясывающих танец смерти. Все, что на первом плане выглядит идиллией, скрывает под собой кажимость или антиидиллию[146].
Для того чтобы не слишком прямолинейно донести до читателя свои мнения, Гоголь использует рафинированные нарративные приемы. Он маскирует свои поучения поверхностным ситуативным комизмом, изощренностью и излишествами стиля, наконец, образами наивных (или якобы наивных) повествователей, лишенных (или якобы лишенных) способности адекватного восприятия реальности; в их уста лукавый автор постоянно вкладывает ошибочные суждения и абсурдные предположения. Наивного читателя, который всерьез воспринимает высказывания наивного повествователя или коварной повествовательной маски, такое восприятие непременно подстрекнет к ошибочной интерпретации смысла. Но если это обманное мерцание поверхностного и глубинного образов нарратора будет распознано хотя бы единожды, то дальше уже совсем не сложно вычислить истинные замыслы Гоголя, тем более что очень многие речения таких наивных рассказчиков очевидно превышают их интеллектуальные возможности. Тогда легко увидеть, что кажущийся вполне аркадским идиллический топос, locus amoenus, прикрывает жуткую бездну, что видимая vita activa прячет под собой внутреннюю пустоту или даже мошенничество, что красноречие и изощренная риторика служат распространению сплетни и лжи и что, наконец, даже художники являются орудиями дьявола. Герой повести «Портрет» носит фамилию Чертков, указывающую на его прямое происхождение от черта. Его светские модные картинки инспирированы дьявольскими умыслами[147]. К герою поэмы «Мертвые души» Чичикову применен эпитет «чертов сын», а Набоков называет его «агентом дьявола». В раннем этюде под названием «Женщина» Гоголь задается вопросом, не есть ли женская красота «адское порождение» (VIII, 143–147)[148]. И так далее ad infinitum. Можно, конечно, счесть это безумием, паранойей или фобией. А можно – умонастроением канувшего в далекое прошлое Средневековья.
Топос «прекрасной внешности», маркирующий разногласие этики и эстетики, т. е. утверждающий принципиальную разность духовной и телесной красоты, будучи традиционно признанным, конечно, не является оригинальным изобретением Гоголя. Скорее всего, в его формировании повинны Отцы Церкви, но у Гоголя он приобретает своеобразные очертания. Прямая авторская речь в финале повести «Невский проспект» гласит: «Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется!» (III, 45). Тройная анафора местоимения «всё» возводит внешность до степени самодержавного повелителя существования. «Всё» – фасад, «всё» – маска, «всё» – обман. По мнению Гоголя, всеобъемлющая прекрасная внешность сводит бытие и существование воедино и низводит их до уровня лживой светской фантасмагории псевдобытия.
Вопрос, кто именно принес в мир фантасмагорический обман, естественно, является риторическим. Ответ на него предельно ясен: это он, очковтиратель и трикстер, врун и «обманщик человеков», это черт собственной персоной. Цитированный выше финальный пассаж повести «Невский проспект» заключает фраза: «…сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде» (III, 46). Как заметила Гудрун Лангер, «черт становится творцом прекрасной внешности»[149]. На пути человека не сияет свет Просвещения: человек блуждает в сумерках зла, чередующихся с ослепляющими вспышками ложного блеска. Триумф справляет не христианская «прозорливость» православия, понимаемая как «просвещенное ясновидение», но инспирированная дьявольским ослеплением близорукость, следствием которой становятся искажение истинных очертаний и в финале – полная слепота. Для Гоголя подобное ослепление никогда не было истинным вбидением сущностей или глубин духа: он его не романтизировал.
Черт вездесущ, что угодно может стать его орудием, каждый человек подвержен дьявольскому искушению. Гоголь исходит из соображений о вселенском присутствии и тотальности зла, и эти его соображения радикально превосходят обычные представления о месте и масштабах темных сил в мироздании. Зло для него не частное исключение, не крайность и эксцесс, не неслыханное коварство или вулканический выброс, наконец, не единовременное преступное или вообще экстраординарное деяние, нет – зло подстерегает человека во всем, что буднично и обыкновенно. Престол зла зиждется в центре бытия, в заурядности привычки и посредственности, во всем, что незаметно, но ведет к далеко идущим последствиям.
Дьявол и дьявольский соблазн подкрадываются незаметно, принимая облик видимой нормальности, привычного автоматизма поступков, упорствующего безмыслия, западни мещанства, наконец, ползучего и постоянно усиливающегося маразматического небрежения всем тем, что кажется неважным, т. е. всем, что временно и относится к области адиафорической[150]. Гоголевский далеко идущий взгляд на эти вещи, напротив, определен тем, что Ханна Арендт позже назовет «банальностью зла» применительно к пособникам фашизма[151].
Категорию «банальности зла» Гоголь обозначал специфически русским словом «пошлость». Это абстрактное понятие и однокоренное с ним прилагательное «пошлый» этимологически связанные с глаголом «пойти», имеющим форму прошедшего времени «пошел», обозначают привычный ход вещей, жизнь, текущую как обычно, стародедовские порядки, унаследованный образ мышления и жизни[152]. Слово «пошлинá» означает «старый обычай». Разумеется, то, что существовало от века, раньше или позже становится избитым и рутинным, тонет в тине мелочей, провоцирует бездеятельность – одним словом, становится привычным, плоским и банальным. Равнодушие, скука и отупение – это неизбежные следствия пошлости. Самосознание, нравственность и стремление к идеалу атрофируются. Ханна Арендт пишет о феномене Эйхмана: «Я была поражена очевидной обыденностью личности преступника ‹…›. Преступления были чудовищными, но преступник ‹…› был совершенно обыкновенным и посредственным человеком, он не был ни демоном, ни чудовищем»[153].