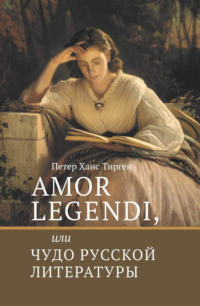
Amor legendi, или Чудо русской литературы
Наслаждения и преступления обыденности тесно смыкаются – вплоть до возможности слиться воедино. Именно здесь, на зыбких тропинках, пересекающих болото пустого, банального, бессодержательного существования, черт караулит человека, именно здесь, по убеждению Гоголя, человек становится добычей черта. Слишком редко люди способны стать imitatio Christi, гораздо чаще они кончают тем, что становятся praeda diaboli, жертвами и добычей дьявола – и тем вернее, чем больше они фиксируются на внешнем, пренебрегая идеалом homo interior, внутренним человеком. В повести Гоголя «Шинель» портной Петрович, образ которого окружен ореолом ассоциативно-дьявольских мотивов, воспринимает Акакия Акакиевича и его шинель как свою «добычу».
Гоголь имеет в виду не сенсационные, превосходящие всяческие масштабы пороки или преступления и даже не романтических преступников, нет: его интересует не инфернальное, но повседневное зло, проистекающее из мелких будничных грешков обычной тяги к вещности и пошлости и делающее людей еще при жизни «мертвыми душами», даже если они не обладают осознанной злой и преступной волей. Сферой влияния зла является микрокосм пошлого существования. Именно в этой области торжествует коварство черта. Сфера влияния черта – как это задолго до Ханны Арендт выяснили Пушкин и Гоголь – это «пошлость пошлого человека». Наибольший ужас вызывают отнюдь не «потрясающие картины торжествующего зла» (VIII, 292 и след.), но именно банальность и пошлость. Выражением этой позиции становится известная авторская декларация повествователя «Мертвых душ», который рассматривает жизнь сквозь призму «видного миру смеха и незримых, неведомых ему слез» (VI, 134).
Это такая типичная для Гоголя дихотомия комической видимости и трагической сущности, случайности и необходимости, творения смеховой оболочки и ее параллельной деконструкции. Простодушный читатель остановится на уровне «видного миру смеха»; просвещенный интерпретатор доберется до «незримых, неведомых ему слез». Гоголь – великий мастер совершенно своеобразного трагикомизма, и тот, кто хочет его понимать, должен всегда иметь в виду эту интерференцию трагики и комики в его мирообразах.
VI. Текстовые примеры
Теперь я хочу привести два примера и показать, как безысходно заключены гоголевские персонажи в circulus vitiosus, в порочном круге прекрасной внешности и обыденного зла.
1. «Старосветские помещики»
История «старосветских помещиков», престарелой супружеской пары, разыгрывается в малороссийской сельской местности, которую наивный повествователь называет «буколической». Герой носит значащее имя: Афанасий («бессмертный»), героиня названа Пульхерией («прекрасная»). В этой буколической обстановке старички должны были бы вести скромную, тихую и мирную жизнь, подобную жизни Филемона и Бавкиды. Их идиллическое существование ознаменовано глубокой взаимной любовью, искренностью и добродетелью, бесконечной верой в Бога. Как замечает повествователь в зачине повести, кажется, что «страсти ‹…› и неспокойные порождения злого духа» здесь «вовсе не существуют» (II, 13). Но эти адресации к гармонизирующему природному, домашнему и духовному пространству обманчивы. Бездетная супружеская чета живет в состоянии недееспособности, распорядок дня сводится к десятикратному приему пищи, вместо честности в поместье царит немилосердное воровство, вместо целомудрия – похотливые страсти и обжорство дворни и домашних животных, вместо образованности – духовный инфантилизм, вместо чистоты – «страшное множество мух», наконец, вместо веры в Бога – гротескное суеверие. Овидиевы Филемон и Бавкида приветливо приняли богов-олимпийцев и были за это вознаграждены; напротив, гоголевские обитатели мнимой Аркадии далеки от Бога и добродетели и умирают в боязливой старческой немощи. Германист Карл Гутке, цитируя Новалиса, заметил: «Там, где нет богов, властвуют призраки»[154].
Именно так обстоит дело и у Гоголя. По ходу повествования даже наивный рассказчик понимает, что вокруг царит «ужасная мертвая тишина», что Афанасий не «бессмертный» (Athanatos) и что Пульхерия отнюдь не была «прекрасной душою», но что, напротив, от их бессмысленного существования лежит прямой путь к «бесчувственным слезам» и «охладевшему сердцу» (II, 33, 36, 37). В сущности, все действия Афанасия и Пульхерии подобны движениям неисправных марионеток. В одном из своих пассажей прозревший рассказчик сетует на то, что человек способен устроить себе настоящий ад еще при жизни на земле. Мириады мух могут быть знаком скрытого присутствия дьявола, поскольку одна из его перифрастических номинаций – «повелитель мух» (ср., например, мотив Вельзевула в романе У. Голдинга «Повелитель мух», 1954). Если в начале повествования поместье является локусом бессмысленного и безудержного обжорства, то в финале оно становится местом, где царит «пожирающее отчаяние». Идиллический локус превращается в антиидиллический и, по словам рассказчика, в нем водворяется «странный беспорядок» (II, 35). Мнимое отсутствие зла оборачивается его вездесущностью.
Русское слово «старосветский» означает «происходящий из древних времен, вошедший в обычай». И это значение вполне соотносимо с тем смыслом, который Гоголь вкладывал в ключевое для него понятие «пошлость»: в своем исконном значении оно тоже относится к категориям «унаследованного, вошедшего в обычай». Всеобщее в любой момент может увлечь в бездну низменной пошлости. Оба старосветских помещика имеют одно и то же отчество: Иванович, Ивановна. Иван – это тривиальное русское имя, нарицательное для обозначения «кого угодно, всякого, любого».
2. Ссора двух Иванов
Редупликация этого усредненного имени присутствует в грандиозной «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». И если мы учтем отчество «Иванович», очевидным станет уже не удвоение, а утроение идеи «кого угодно, всякого, любого». По ходу повествования в сюжете возникает еще один Иван Иванович, и это позволяет говорить о подлинной вездесущности «усредненного Ивана».
И вновь простодушный – или кажущийся таковым – повествователь сообщает следующее: оба Ивана – «прекрасные люди», соседи-помещики, живущие в редкой дружбе и показывающие друг другу «самые трогательные знаки дружбы». Но в один прекрасный день Иван Иванович замечает во дворе своего друга самое обыкновенное ружье, и внезапно его захватывает страстное желание обладать им. В обмен он предлагает два мешка овса и бурую свинью, но это предложение с такой же поразительной страстностью отклонено Иваном Никифоровичем. Конфликт разгорается в результате различных в высшей степени комичных взаимных оскорблений (в том числе пресловутого «гусака»), и оба Ивана, дополнительно подстрекаемые ближними, начинают подавать друг на друга чрезмерно преувеличенные жалобы в суд. Вследствие очевидной процедурной проволочки тяжба растягивается на многие годы, хотя оба Ивана подают все новые и новые иски и надеются, что судьи вот-вот, «завтра непременно», решат дело, и каждый полагает, что оно решится в его пользу.
Гротескно-комичные задержки повествования (бурая свинья Ивана Ивановича съела одну из поданных жалоб, вследствие чего должна быть арестована) и абсурдно-трагичные неудачные попытки примирения тяжущихся способствуют переходу тяжбы в разряд бесконечных. Многие «знаменитые люди» Миргорода с течением времени умирают, в том числе судья, но два Ивана по-прежнему прикованы друг к другу нескончаемыми судебными кляузами. Смехотворное оружие и в сущности столь же смехотворная ссора соседей привели к зловещей демонстрации банальности зла, прикрытой поверхностным комизмом. Гоголь не оставляет читателю возможности усомниться в том, что оба Ивана являются жертвами черта. Уже в первой главе повести о друзьях-соседях обронено далеко идущее в перспективе своего образного развертывания замечание, «…что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой» (II, 226)[155].
Когда Иван Никифорович подает свою первую жалобу в суд, он сообщает судье, что Иван Иванович – «сам сатана» (II, 252). Позже, однако, и лично Иван Никифорович будет назван «самим сатаной», к тому же по слухам известно, что будто бы он «родился с хвостом назади» (II, 270, 226)[156]. Вослед бурой свинье, укравшей жалобу, летят чернильницы (II, 255). Взаимные оскорбления чередуются «с дьявольскою скоростью» (II, 242). Когда же судейские чиновники впадают в затруднение по поводу очередной кляузы, на их лицах появляется та «…равнодушная и дьявольски двусмысленная мина, которую принимает один только сатана, когда видит у ног своих прибегающую к нему жертву» (II, 263). Провал самой широко задуманной попытки примирить двух Иванов сопровождается комментарием: «Все пошло к черту!» (II, 273)[157]. В подразумеваемом Гоголем смысле это катастрофическое умозаключение надлежит понимать не только как обиходную риторическую фигуру, но и строго буквально. А слово «пошлó» вполне способно вызвать ассоциацию со своим этимологическим родственником, словом «пошлость».
Таким образом, Гоголь поведал нам следующее: кто попадает в сети дьявола, тот живет непримиримым и непримиренным в «огне вражды» (II, 240). Кого захватывает одержимость маниакальной навязчивой идеей, тот обречен на существовние автомата, управляемого чуждой волей, и режиссер этого существования – черт. Слова «автомат» и «мания» являются этимологически родственными.
VII. Суд и ревизия
С точки зрения Гоголя, наиболее предосудительным пороком является непризнание и профанация судоустройства (ср.: 1Кор. 6). Человек судим тремя инстанциями: внутренним судом совести (ср.: «категорический императив» Канта), светским судопроизводством и в конце времен всеразрешающим Страшным Судом. Оба Ивана отреклись от всех трех инстанций: внутренний суд совести им абсолютно чужд[158], светским судопроизводством (в свою очередь, оставляющим желать много лучшего) они пренебрегают, а последним Страшным Судом они, несомненно, будут осуждены как грешники. По всей вероятности, в аду они будут ввергнуты в болото; некоторые намеки в тексте повести позволяют предположить характер уготованного им наказания: здание суда находится на той самой площади, посреди которой простирается лужа, именуемая «озером»[159], действующие лица постоянно обливаются потом от жары или от страха, действие повести озвучено постоянным лаем псов, подобных адским бестиям, а бурая свинья, возможно, явилась в повесть из евангельской притчи об изгнании бесов, которые вселились в свиней и вместе с ними низверглись в море (Лк. 8). Евангелие изображает одержимого бесами нагим. Жаркий украинский полдень оба Ивана любят коротать в «натуральном виде». Это может напомнить о теории «полуденного беса», которую Ориген и другие Отцы Церкви создали на основании псалма 90:6.
Одержимых и бесов множество: «имя им легион», гласит Библия (Мк. 5:9; Лк. 8:30). Демоны могут вселиться в каждого, но не каждый может быть спасен даже в том случае, если его зовут Иван (модифицированное др.-евр. имя Иоанн); хотя Иоанн, как известно, и был любимым учеником Христа. В конце концов «все Иваны», т. е. все люди, предстанут перед лицом последней инстанции, перед ревизией Страшного Суда. Его возглавит «настоящий ревизор», и именно его трибунал осуществит последнюю ревизию. Тогда придет конец всяким уверткам, всякой алчности и мошенничеству, всякому самозванству и лживым играм. Как писал в одном из своих писем Гоголь, сплетни и клевету приносит в мир сам черт, отец всякой лжи (XIV, 154). Но каждая сплетня должна держать ответ перед божественным трибуналом. Кто не противостоит злу и дал себя одурачить фальшивому ревизору, как персонажи одноименной комедии Гоголя, тот должен предстать перед лицом последней судной инстанции, суд которой направляет истинный ревизор, т. е. Бог. Тот, кто должен дать признательные показания coram deo[160], не может надеяться на апелляционный суд и, следовательно, на спасение.
В автокомментарии к комедии «Ревизор» Гоголь писал:
‹…› страшен тот ревизор, который ждет нас у двери гроба. ‹…› Ревизор этот наша проснувшаяся совесть ‹…›. Перед этим ревизором ничто не укроется ‹…›. Вдруг откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце ее (IV, 130 и след.).
В конце 1849 г. он развивает эти идеи в письме к А.О. Смирновой:
Помните, что все на свете обман ‹…›. Трудно, трудно жить нам, забывающим всякую минуту, что будет наши действия ревизовать не сенатор, а тот, кого ничем не подкупишь ‹…› (XIV, 154).
Чем старше становился Гоголь, тем больше он верил в последний Страшный Суд, который ему представлялся уничтожающим все и карающим всех[161]. Лишь немногие станут избранными, все остальные – это massa damnata, massa perditionis (масса осужденных (погибающих) грешников), мертвый груз. Согласно Евангелию от Матфея, Гоголь боялся, что гнев Господа будет сильнее его милосердия: «Идите от Меня, прóклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).
Слово «ревизор» с ударением на последнем слоге является в русском языке заимствованием. Выше я уже цитировал гоголевскую мáксиму: «Всех нас озирает свыше небесный полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от его взора» (см. примеч. 21). В основе семантического поля слова «взор, взирать» лежит корень «зор» (ср. слова «зоркий, зоркость, взор, прозорливость» и т. д.): фонетический ассонанс со словом «ревизор» совершенно очевиден. И между прочим, простодушный (или мнимо простодушный) повествователь приписывает Ивану Ивановичу «глаза чрезвычайно зоркие» (II, 239).
Это семантическое поле усиливает человеческий статус видимости, т. е. возможности быть увиденным. Последняя всевидящая инстанция, высший Ре-визор, видит все и всех. Тем больше должен каждый человек заботиться о своей собственной, истинной способности видеть, о прозорливости. Русский перевод Библии гласит: «праведники прозорливостью спасаются» (Притч. 11:9). Далеко не случайно в финале повести рассказчик встречает обоих Иванов в миргородской церкви. Топоним «Миргород» разлагается на составляющие «мир» и «город», т. е. название города можно понять или как «мирный город», или как «город-мир». Однако же этот «мирный город» ни в коей мере не является civitas dei (Божий град), он скорее похож на civitas diaboli (Город дьявола), в котором оба Ивана даже и в церкви не могут говорить ни о чем, кроме своего патологического сутяжничества.
VIII. Страсть или привычка?
Как уже было сказано, во всем, что касается обыденной жизни, Гоголь обладал острым анатомическим взглядом прирожденного психолога и проницательного аналитика. Только поэтому он смог увидеть банальность зла. Гоголя можно назвать истинным теоретиком «злой силы привычки». Так же, как судебная тяжба двух Иванов идет своим чередом, частное расследование Гоголя сосредоточено на заурядном человеке в процессе его привычной жизнедеятельности. «Привычка толстой кошкой сужает зрачки» – так начинается одно из стихотворений Дурса Грюнбайна[162].
Уже в повести «Старосветские помещики» рассказчик задается вопросом: что сильнее – страсть или привычка? Ответ однозначен: «…но в это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки» (II, 36).
По Гоголю, страсти могут быть хорошими и дурными. Последние преобладают, поскольку они проявляются не как «широкая страсть», но как «ничтожная страстишка», не как вдохновительная буря восторга, но как тянущая к земле причуда[163]. От мелкой причуды до привычки – всего один шажок. По поводу кляуз двух тяжущихся Иванов рассказчик иронически замечает: «Такие сильные бури производят страсти!» (II, 274). Но когда же мнимая страсть успевает перейти в привычку?
Как полагает Гоголь, именно в склонности к неодолимым привычкам гнездятся однообразие, бездействие, бесплодие и своего рода контролируемая скука, за которой присматривает сам черт. Нечистому хорошо известно, что именно скучающие субъекты особенно восприимчивы к его злым нашептываниям. Этим вторичным circulus vitiosus, порочным кругом, он пользуется, снова и снова запуская волчок дьявольской игры банального зла: сначала страсть, потом привычка. Черт – отличный режиссер комедии взрывов случайного восторга по поводу недостойных объектов и ловкий ведущий в игре выравнивания аффектов до уровня привычки в результате этих взрывов.
Человек, лишенный способности мыслить, пытается заполнить свое скучное существование банальными пошлостями, и Гоголь подчеркивает это сквозными лексическими мотивами «мелочи, пустяки», «новый, обновка, новость, новый случай», а также наречиями образа действий «неожиданно, необыкновенно»; говорение же его персонажей – это, как правило, акт распространения лжи и сплетни. И по мере того, как повседневная жизнь скудеет в своих смыслах и съеживается до все более ничтожных бессмыслиц,
‹…› все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоем мире! (VIII, 416).
«Скучно на этом свете, господа!» – гласит финальная фраза повести о склоке двух Иванов. Силок, сплетенный привычкой, скукой, банальностью, мнимыми страстями, пустым любопытством, пустословием (verbositas), равнодушием и угрюмостью (tristitia) – вот практически непобедимое царство дьявола-искусителя. Здесь обнаруживает себя полный набор признаков смертного греха уныния (acedia), «печали мирской», производящей смерть и не имеющей никакого отношения к спасительной «печали ради Бога» (ср.: 2Кор. 7:10). Гоголевский каталог стигматов уныния (acedia) предваряет собой страх денормализации в том дискурсе человеческого вырождения, который в последней трети XIX в. стал принципом литературного и философского миромоделирования. Ницше и Ханс Блуменберг утверждали, что одним из самых эффективных способов преодоления скуки является стремление испытывать страх[164].
IX. Смех и писательство как дьявольское наущение (монашеские правила)
Невзирая на постоянные сомнения в себе, Гоголь как писатель всегда стремился сыграть роль наставника России и даже всего человечества. Наряду с Пушкиным он очень рано был признан национальным поэтом. Он повторял снова и снова, что его литературные произведения важны для общества не в качестве изящной словесности, но в качестве психологических исследований и воспитательных трактатов[165]. Известно его высказывание о том, что он постарался «собрать все дурное», чтобы «за одним разом над ним посмеяться» (XIV, 34), разумеется, не сардонически-насмешливым или гомерически-злорадным хохотом, но сострадательно-серьезным «смехом сквозь слезы».
Однако же как раз в этом Гоголь чувствовал себя глубоко непонятым ни критикой, ни читателями. Он не мог согласиться ни с тем, что многие читатели видят только безобидный комизм в его мнимо-комических сюжетах, ни с тем, что другим его «собирание всего дурного» кажется неприкрытым доносом на Россию. Для него эти мнения были упрощением, игнорирующим сущность его устремлений. Писательство и без того было для него мучением, бесконечно удаленным от самодостаточности вдохновения. Уже в 1833 г. он говорил, что процесс писания – это «ад-чувство» (X, 277)[166]. Но подлинная катастрофа разразилась, когда Гоголь уверовал в то, что писательство – это не только мýка, но истинно дьявольское наущение, караемое адом. Прилежный читатель Библии, Гоголь заметил, что в текстах царя Соломона, в псалмах и других книгах Библии периодически повторяется один и тот же тезис: «От всякого труда есть прибыль, а от пустословия только ущерб» (Притч. 14:23); «Глупый наговорит много» (Еккл. 10:14); «Буква убивает, а дух животворит» (2Кор. 3:6); «Глупый в смехе возвышает голос свой, а муж благоразумный едва тихо улыбнется» (Сир. 21:23); «Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше» (Еккл. 7:3). Но действительно ли «отрет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 7:17, 21:4) – это был для Гоголя мучительный вопрос.
У Гоголя замирало сердце, когда он впоследствии читал у Отцов Церкви или у Фомы Кемпийского о том, что человек, позволяющий себе увлечься поверхностным словесным шумом, блеском и пестротой голой риторики, бессодержательным очарованием образов, театральными дурачествами и иже с ними, льет воду на дьявольскую мельницу. Трактат Фомы Кемпийского «Imitatio Christi» («О подражании Христу») был одной из излюбленных книг Гоголя; он почерпнул из него множество мыслей, аргументов, предостережений, формулировок и образов[167]. Однако основательное историко-литературное и сравнительное исследование русских переводов «О подражании Христу», которые Гоголь мог знать, пока что отсутствует[168].
Кроме того, необходимо иметь в виду тот факт, что так называемые уставы монашеской жизни недвусмысленно запрещали смех. Уставы Василия Кесарийского (IV в.), «Regula Magistri» и устав Бенедикта Нурсийского (VI в.) заклеймили смех как противное христианству безумие и грешное наслаждение[169]. Основанием для этого запрета могут послужить соответствующие библейские тезисы: «О смехе сказал я: “глупость!”» (Еккл. 2:2); «Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (Лк. 6:25). Легкомысленные шутки (scurrilitates), глупая болтовня и смех – вот то, чего следует избегать. Как пишет Фридеманн Рихерт, «земной смех ‹…› лишает человека спасения ‹…› Смех оскорбляет Бога и ведет к смерти»[170]. Соответственно, монашеские уставы предостерегают от легкомысленного отверзания уст, противопоставляя ему идеал уст немотствующих. Надлежит стремиться к молчанию, блюсти спиритуальную аскезу немотствования (taciturnitas), но ни в коем случае не предаваться пустословию и шутовству (stultiloquium, iocularitas)[171].
От постулата «немотствующих уст», как кажется, ведет прямой путь к знаменитой последней сцене гоголевской комедии «Ревизор», озаглавленной «Немая сцена». Болтавшие на протяжении пяти актов персонажи – сплетники и лжецы – представлены в ней в оцепенении, в которое их повергло явление настоящего ревизора, причем некоторые стоят на сцене «с разинутыми ртами» (IV, 95). «Чертово семя» дало всходы, и «беспримерная конфузия» справляет свой триумф (IV, 93–94).
Немая сцена «Ревизора» не единственна в творчестве Гоголя. Она отчасти предсказана уже и в сцене «примирения» двух Иванов, которая открывается картиной всеобщего окаменения и онемения[172]. В свою очередь, ей предшествует финал второй главы повести, описывающий невыразимую сцену ссоры, в которой снова фигурирует мотив «разинутого рта», принимающего форму большой буквы «О» (II, 237 и след.). Из болтливого рта Ивана Никифоровича излетает столь же гротескно-шутовское, сколь и губительное оскорбление «гусак». Как гласит «Regula Magistri»: «Смерть и жизнь во власти языка»[173]. Мотив «разинутого рта» заставляет вспомнить легенды о естественных отверстиях тела как о «дьявольских дырах»; эти легенды утверждают, что Бог, сотворяя человека из глины, создал его цельным; дьявол же в ответ на это тайно проделал отверстия в глиняных фигурах, чтобы через них иметь легкий доступ к человеческим душам.
X. Обманчивые чары фантасмагории
Когда Гоголь хотел визуализировать кульминационные эпизоды своих текстов, он обозначал их понятиями «зрелище», «картина», «лживый образ», «выставка» или «фантасмагория». Такие сцены он регулярно определяет как «необыкновенные» или «фантастические». Эти эпитеты можно понимать по-разному. Гоголь был сведущ в истории живописи, и вполне возможно предположить, что ему была знакома живописная традиция, представленная именами и полотнами Рогира ван дер Вейдена «Страшный Суд» (XV в.) или Альбрехта Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол» (1513)[174]. Удивительные параллели с поэтикой Гоголя можно обнаружить в произведении Фридриха Максимилиана Клингера «Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад» (1791), где замаскированный дьявол, подобно Хлестакову, путешествует инкогнито и вовлекает Фауста в беспорядочный танец жизни. С 1780 г. Клингер находился на русской службе и печатался в России[175]. Здесь уместно будет вспомнить и роман Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры Сатаны».
Прежде всего, заслуживает внимание гоголевское словоупотребление: слово «фантасмагория» (III, 10) в его времена редко встречалось в русском языке. На заре Нового времени и особенно в эпоху барокко с ее жаждой зрелищ в Европе стали популярны представления с использованием новых аппаратов и устройств, которые посредством эффектных трюков стирали границы между реальностью и иллюзорностью и погружали зрителя в мир столь же зловещий, сколь и зачаровывающий. Camera obscura, Laterna magica, Lucerna thaumaturga, Magia daemonica, зеркальные отражения, живые картины и прочие технически-оптические артефакты создали тревожный мир обмана и веры в чудесное[176]. При этом взаимозависимость причины и действия оставалась скрытой от обманутых профанов.