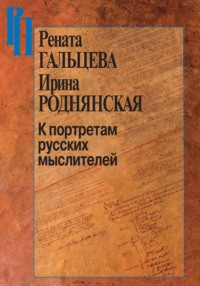
К портретам русских мыслителей
Нельзя не согласиться с Козыревым: «Воскрешающий на рубеже двух эпох дионисийские глубины древних мифов [гностицизм] и поныне остается мощным и опасным генератором все новых мифов и адептов», «подменяет в душе человека веру, надежду и любовь бременем “эзотерического” <…> знания, [добытого] мистическим путем “посвящения”»50. Но подобная характеристика меньше всего отвечает целостному творческому образу Владимира Соловьева. Зато она приложима к некоторым современным сочинениям, которые выделяют в миросозерцании Соловьева именно это сомнительное зерно как главное и творчески перспективное.
Мы в особенности имеем в виду книгу доктора философских наук В.В. Кравченко «Владимир Соловьев и София» (М.: Аграф, 2006)51. Несмотря на философскую подготовку автора и научные методы работы в архивах, присутствие ее книги скорее уместно на тех обширных полках современных книжных магазинов, где красуется табличка «Эзотерика». Кравченко уверена, что построения Соловьева диктовались «необходимостью толковать в профанном поле философских сочинений несказуемое знание иерофанта, связанного священной клятвой молчания»52. Другими словами, исследовательницу восхищает то, в чем мыслителя подозревают наиболее радикальные из нынешних его критиков; а именно, что все его публичные выступления были прикрытием эзотерических тем от аудитории непосвященных или, точнее, бледным намеком на них53.
Монография Кравченко описывает роман Соловьева с Небесной Девой в разных ее ликах: языческой богини, гностической, спиритической, алхимической возлюбленной, христианской Богоматери – и, наконец, в женственном образе озера Сайма, «отношения» с которым стали вершиной просветленного эроса. Если Козырев вообще не хочет иметь дела с этой стороной духовного бытия Соловьева, уходя от соблазна посредством отсылок к «отреченным» книжным текстам, то покорившаяся соблазну Кравченко воодушевленно переходит с философского на чисто мифологический дискурс, стыдливо пряча этот переход проставлением кавычек вокруг наиболее вызывающих слов. К примеру: «… через “автоматические” или трансовые записи Соловьева был установлен “контакт” с Софией, возникла уникальная “обратная связь” между влюбленным и его возлюбленной»54. Впрочем, иногда рассказчица забывается и описывает эти любовные перипетии в трогательных беллетристических тонах: «В случае Соловьева богиня снизошла к нему в видениях и спиритических сеансах как Небесная Дева, добилась его любви, затем стала преследовать и мучить философа, и лишь в самом конце его жизни они примирились»55.
Хаотически смешивая философские концепты и мифологемы, Кравченко утверждает себя в качестве поклонницы той самой «вселенской религии», которая так и не была создана Соловьевым и осталась теневым наброском его умозрений. «Представляется, – заключает она, – что Соловьев преодолел не только западную, но и восточную, в том числе и ортодоксально-христианскую, ограниченность»; личная же вера Соловьева в Софию дает «надежду религии христианства на будущее»56.
В одном с В.В. Кравченко нельзя не согласиться. Мифопоэтическая утопия Соловьева о «смысле» любви, резко отвергаемая Козыревым с богословских позиций57, имеет – как это акцентируется в книге «Владимир Соловьев и София» – чрезвычайную культурную ценность. Без этого импульса не сложилась бы соловьевская эстетика и не был бы создан основной корпус его поэзии. Без его учения о преображающей силе эроса невозможно представить литературного движения «младосимволистов» и в особенности поэтического творчества Блока. Как ни рассматривать эту утопию в догматических тонах, из русской культуры нельзя вырвать столь драгоценную страницу.
Еще одно общее место в усиливающихся претензиях к Соловьеву относится к области его личного самосознания и оценки им своего поприща. Речь идет о поисках в его писаниях, начиная с юношеских лет (эпистолярий, трактат «София» и др.), мотивов мессианства и самозванного учительства. Нельзя отрицать, что огромные дарования Соловьева смолоду подталкивали его к мысли о своей исключительной роли в судьбах христианского человечества. Особенно это сказалось в ранних «софийных» фантазиях, которые цитирует Козырев: «Среди избранников первого порядка один находится в наиболее интимной связи с Софией и является великим священником человечества»58. Нетрудно догадаться, о ком идет речь.
Однако Козырев (и не он один) распространяет это «самопревозношение» юноши Соловьева на дальнейшую его деятельность, приводя в качестве улики его недолжное отношение мирянина к церковной иерархии. «В 70-е годы “учительной” Церкви для Соловьева словно и не существует. Он сам – учитель веры, проповедующий со светской кафедры <..> идею богочеловечества и всеобщего спасения. <…> В начале 80-х он уже ставит задачу учить архиереев. <…> Так родилась статья “О духовной власти в России”»59.
И такое вот «самозванство» продолжается вплоть до его покаяния в «Краткой повести об антихристе», где, как принято считать, ее антигерою приданы некоторые автобиографические черты.
Между тем, если вникнуть в духовный путь Соловьева, то легко убедиться, что его молодая гордыня скоро переродилась в другой тип самосознания: «мессианство» вошло в берега миссии – миссии христианского проповедника и пророка, в том смысле служения Истине, в каком сам Соловьев пишет об этом в статье «Когда жили еврейские пророки?» (1896). Его предсмертное восклицание: «Тяжела работа Господня!» – лучше всего свидетельствует об обретенном им самочувствии чернорабочего исполнителя высшей воли.
Двумя упомянутыми авторами представлены крайности в подходе к умственной деятельности Соловьева, которые разнятся в оценках, но сходятся по сути: это жесткая фиксация, условно говоря, оккультно-мистического горизонта мыслителя, распространенная на всю его творческую жизнь. Более осмотрительный взгляд на соловьевскую метафизику и ее прикладные задачи мы нашли у питерского исследователя С.П. Заикина, познакомившись с некоторыми его выступлениями в печати и в Сети60. Главное отличие от изложенных выше позиций здесь состоит в том, что уже во вступлении к своим лекциям Заикин рекомендует рассматривать философский путь Соловьева с «диахронических позиций, с особым вниманием <…> к выявлению смены акцентов»; иначе говоря, он постулирует эволюцию взглядов Соловьева.
Заикин, как и двое рассмотренных нами критиков, готов отметить несоответствие «между интимной и публичной “ипостасями”» философа61, соответственно, между «эзотерическим» и «экзотерическим» вариантами учения о «мировом процессе». Он противопоставляет портрет Соловьева-рационалиста в раннем труде А.А. Никольского и образ Соловьева-мистика в монографии К.В. Мочульского, «самого чуткого из его биографов»62. Опять-таки Заикин не чужд мнения, что сокровенная мистическая сторона мысли Соловьева в «Чтениях о Богочеловечестве» и после них вуалировалась отвлеченным понятийным аппаратом не без вынужденной оглядки на внешнюю среду, в которой протекала его работа.
Однако – и это чрезвычайно важно – питерский автор выявляет то, что не стало предметом интереса в подробнейших анализах Козырева и Кравченко: жизненный нерв устремлений мыслителя. Соловьев, говорит он в первой из своих лекций, хотел опереться не на философские, а на богословские основоположения (добро и зло, вина и грех); это не вопросы гнозиса – древнего или шеллингианского – а вопрошания религиозно-практического свойства: не только как возможен мир, но и зачем и ради чего он существует. «…Коренной пафос соловьевских построений носит не философский и не богословский <…> а проповеднический характер, – еще рельефнее формулирует Заикин свою мысль в послесловии к книге А.А. Никольского. – <…> [Соловьев] ближе Лютеру, а не Гегелю или Фоме Аквинскому, и создает он не философскую теорию, а новое мировоззрение, “регулятор” практической деятельности»63.
В отличие от Козырева, который фактически выводит софиологию Соловьева из его «начитанности», Заикин не сомневается, что «первая софийная интуиция далась Соловьеву в ранней юности», до всякого чтения на эти темы, и ее адепт «совершенно искренно верил, что связан с потусторонним миром и получает оттуда прямые указания» (лекция 1-я). Заикин не отрицает, что из писаний гностиков могло быть заимствовано само имя «София»64, – но не тот «непосредственный мистический опыт»65, ради которого возводилось его философское здание. «Одно дело, когда идея Софии выдвигается как естественный и логически обоснованный компонент системы, – как бы оспаривает автор один из тезисов книги Козырева, – другое – когда София выступает в качестве предпосылки, основания, а система создается “под нее”<…>»66.
Софии молодой Соловьев препоручает главное мировое дело – восстановление падшего, по ее же «вине», мира в соответствии с замыслом Бога о нем: одухотворение материи и собирание человечества в некую вселенскую Церковь. Нельзя не увидеть тут близости к христианскому упованию на преображение мира в «новое небо» и «новую землю». Но, как замечает Заикин, роль Логоса здесь пока еще отодвинута на второй план и вообще не ясна; однако в 1878 году, когда Соловьев выступил публично со своими «Чтениями…», у него происходит знаменательный сдвиг: а именно, «перемещение христологической проблематики в центр метафизических построений»; софиология теперь ориентирована на идею Богочеловечества, где вечный Богочеловек – Христос, София же объединяет природный мир и человечество, устремленные на воссоединение с Ним. Таким образом, Соловьев переходит к христоцентрической концепции мирового процесса, что (как замечает лектор) особенно ощутимо в перепаде между первыми десятью «Чтениями…» и последними двумя, которые нам известны в переработанном виде – по публикации 1881 года в «Православном обозрении».
В дальнейшем, по словам Заикина, Соловьев как философ и богослов движется «все дальше от Софии и все ближе к Логосу». В упомянутых выше «Духовных основах жизни» вектор мысли их автора – «объективно-церковный» (сочувственно цитирует исследователь С.М. Соловьева-младшего); а в третьей части «России и вселенской Церкви» (1889) ее автор вообще дает новую редакцию «мирового процесса», освобождая свою софиологию от гностических функций и даже частично разрушая ее.
Прочерченная в итоге траектория (представляющаяся нам близкой к истине) не означает, что в конечном счете С.П. Заикин отказывает Соловьеву в статусе отца русской софиологии. В заключение своих лекций он цитирует письмо Соловьева к Анне Шмидт от 8 марта 1900 года, написанное за несколько месяцев до смерти, где тот подтверждает верность софийной идее как вопросу «заложенному в самой сущности христианства, но еще не поставленному отчетливо ни в церковном, ни в общефилософском сознании <…>»67.
Сегодня этот богословско-философский теологумен подвергается полному отвержению со стороны так называемой неопатристики (от продуманных претензий о. Георгия Флоровского до атак Н.К. Гаврюшина и С.С. Хоружего). Но трудно представить будущее развитие религиозно-философской, христианской мысли без творчества Е.Н. Трубецкого, о. Павла Флоренского, о. Сергия Булгакова и др., для кого «софийная идея» была и источником вдохновения, и камнем преткновения.
Как бы то ни было, в представленных выше вариантах ревизии «соловьевства» есть один общий изъян. Везде в них отправным пунктом пути Соловьева оказывается «мифологема» Софии – между тем как юный искатель истины изначально отправлялся от христианства и Христа.
Двадцатилетний Соловьев, еще не захваченный софийной тематикой, решительно пишет своей кузине Е.В. Романовой (Селевиной) 2 августа 1873 года: «… настоящее состояние человечества не таково, каким быть должно <…> оно должно быть изменено, преобразовано» на основании «безусловной истины». «Сама истина, т.е. христианство <…> ясна в моем сознании»68.
Читая это исповедание верности христианству, не следует, однако, забывать, что христианство последних веков, «которое мы все знаем по разным катехизисам», Соловьев тут же называет «односторонним, недостаточно выраженным» и даже «мнимым», а к настоящему моменту «разрушенным» в сознании общества. И продолжает: «…пришло время восстановить истинное. Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую соответствующую ему, т.е. разумную безусловно, форму»69.
Эта титаническая миссия, взятая на себя юношей, подтолкнула его, после не удовлетворившего его курса богословия в Московской духовной академии, обратиться к герметическим источникам в надежде обрести то, что ему казалось утраченным в историческом христианстве. Этот духовный соблазн вылился, как известно, в полосу мистических созерцаний и переживаний загадочного свойства. Но теперь, после опубликования плода этих видений и инспирированных ими книжных поисков – трактата «La Sophie» («София»), становится ясно, насколько Соловьеву было необходимо включить навеянные ему «откровения» в границы христианства и как он добивался подтверждения этому от своей неведомой «собеседницы».
В том самом диалоге с «Софией», который приводит в своей книге Козырев, проходя мимо его надрывного драматизма, Философ (то есть сам Соловьев) волнуем вопросом, не ведут ли ее, «Софии», толкования к отступлению от христианства. «[Философ]: Но прежде чем выслушать твои откровения <…> я хотел бы знать, в каком отношении твое учение находится с верой <…> наших отцов. Является ли вселенская религия, которую ты возвещаешь, христианством в его совершенстве или у нее другое начало?»70. Выслушав подозрительно уклончивый ответ, Философ не успокаивается и с удвоенной настойчивостью повторяет: «Я спрашиваю, является ли вселенская религия религией Христа и Апостолов, религией основавшей новый мир и воодушевившей святых и мучеников?»71.
На очередном этапе этого диалога так и не давшая внятного ответа на прямо поставленный вопрос «София» уводит Философа в сторону от справедливой мысли о том, что христианство не может быть лишь одним из элементов в смесительном синкретизме разных вер, и предлагает ему именно то, чего он опасался: «вселенская религия <…> это реальный и свободный синтез всех религий»72. Не напоминает ли это прение известную сцену из «Братьев Карамазовых», где Иван сталкивается со своим двойником-искусителем?
Однако, как мы старались показать, частично опираясь на соображения С.П. Заикина, но главным образом – представив в настоящем издании ряд собственных статей о Соловьеве – великом христианине и духовном просветителе русского общества, – это искушение было им по существу преодолено. Софийные мотивы, как бы сильно они ни влияли в дальнейшем на его поклонников – мыслителей и поэтов, остались в качестве проблемного и провокативного сопровождения его христианского трудничества.
Соловьевский раздел этой книги как раз и собран вокруг не столько отвлеченных метафизических конструкций (которые, конечно, составляют интеллектуальное богатство первого русского философа-систематика), сколько вокруг животрепещущих тем, обращенных к драматическим условиям творчества Соловьева в кругу других русских умов, к его историософии, включающей отважную борьбу против западно-восточной церковной схизмы, к его страстному утверждению онтологического статуса Красоты, к его во многом пророческой эсхатологии. Все это и поныне связано с жаркими спорами вокруг текущих проблем жизни и культуры, – и именно будущему предстоит выявить немалую правоту прозрений Владимира Соловьева.
2011Р. Гальцева, И. Роднянская
Владимир Соловьев и Ф. М. Достоевский в умственном кругу русских консерваторов XIX века73
Зимой и весной 1878 года, великим постом, на лекциях молодого философа Владимира Соловьева в Соляном городке присутствовали среди собравшегося здесь интеллектуального Петербурга два человека, глубоко причастных к судьбе России. Эти двое – член Государственного совета, воспитатель наследника Константин Петрович Победоносцев и прославленный писатель Федор Михайлович Достоевский.
К той поре оба, после совместного сотрудничества в газете «Гражданин» и частых вечерних бесед на животрепещущие темы, считали себя во многом единомышленниками. Но вот появился перед ними, на кафедре либерально-просветительного учреждения – Высших женских курсов, – чаемый человек из нового поколения, не «нигилист», а проповедник «положительных начал», с неслыханным по тем временам и с такой кафедры словом о «разумном оправдании» религиозных основ жизни, – и отклик каждого из этих двух выявил их подспудное духовное несовпадение в самом существенном: в том, что касается человека, свободы и России.
Религиозный лично, отдавший много сил богословским размышлениям и писаниям74, Победоносцев поначалу был подкуплен и размягчен начинанием смелого, но благонамеренного молодого человека. В конце февраля, то есть после первых соловьевских «Чтений о Богочеловечестве», он пишет своей постоянной корреспондентке Екатерине Федоровне Тютчевой, дочери поэта: «Здесь в Питере все теперь заняты лекциями молодого Соловьева – о философии религии. Я скучаю на всяких лекциях, но эти слушаю с удовольствием, не пропуская ни одной. Дело, задуманное им, – новость в России, приятная и много обещающая в будущем. Конечно, он еще очень молод, но успел вполне выносить в себе и обработать пропорционально предмет своих чтений для нашей публики. Рамка его – по содержанию своему слишком широка, необъятна, для 12 часов, в которые он должен втиснуть свой сюжет. В ней не остается места широкому, ясному развитию тех философских начал, которые он должен изложить, – и это недостаток заметный. Притом он не привык к публике – и аудитория покуда угнетает его более нежели возбуждает. Он конфузлив, не владеет вольною, живою речью и должен – либо говорить утомительно медленно с большими паузами, либо читать по бумаге. Но то, что он говорит или читает, связно и толково, и до сих пор ни разу не вырвалось у него ни одно из тех бестактных выражений, которые слышатся у нас всякий раз, когда бывает попытка секуляризировать в аудитории для публики священные предметы. Слушателей очень много и число их возрастает – из всех классов общества – впереди целая фаланга дам из высшего общества. Конечно, многие понимают очень мало, иные понимают вполовину, но все-таки все стараются понять – и это много значит. Я высоко ценю это возбуждение интереса к идеальным предметам и понятиям. Соловьев неоспоримо – молодой человек с талантом и знанием»75.
Далее Победоносцев, развлекая свою адресатку игривым сюжетом, описывает осаду молодого философа великосветскими интеллектуалками, которые «не дают ему прохода»: «Я <…> внутренне смеялся, видя юного философа сидящего промежду двух этих дам у чайного стола. – Хотели, чтоб он разговорился между ними о своей философии. Но он молчал упорно, изредка проговаривая. Неловкое положение для философа – и потом, слыша, что его принялись каждый день звать к себе то та, то другая, я искренно пожалел об нем и, принимая в нем участие, стал себя спрашивать, как молодой человек вынесет это испытание. Авось-либо устоит».
Давняя конфидентка Победоносцева, умевшая читать между строк еще не осознанное им самим, в этом благодушном отзыве уловила и в ответном послании от 24 февраля 1878 года высказала сомнение в пригодности слишком независимого молодого человека к исполнению идейно-охранительной службы: «Жаль, что Соловьев начал с того, что обращает светскую публику <…> Il est trop jeune, pour séculariser une pensée, qu’il ne devrait encore approcher, que pour demander son proper enseignement»76. И, вспоминая о своих московских впечатлениях от Соловьева, когда тот переживал первый шумный успех после защиты магистерской диссертации в 1874 году, Тютчева добавляет: «Года четыре тому назад, он имел в Москве то же самое положение, которым пользуется теперь в Петерб<ургских> гостиных, и помнится мне, что отказалась от его знакомства ради его самого»77. (Это знакомство могло тогда легко состояться через родную сестру Екатерины Федоровны Анну Федоровну Аксакову, жену известного славянофильского публициста и поэта Ивана Сергеевича Аксакова, в чьем доме, «в Толмачах близ Ордынки», Соловьев был радушно и даже восторженно принят78.)
Действительно, Е.Ф. Тютчевой удалось предугадать скорое разочарование Победоносцева в «молодом человеке с талантом и знанием». В многостраничном письме-отчете от 2-3-5 апреля 1878 года, адресованном той же Екатерине Федоровне, Победоносцев пишет: «Сегодня последняя лекция Соловьева. Я не поехал слушать его. Эти лекции мне надоели. Болезнь прервала их для меня на месяц, потом я слушал его в прошлую пятницу и вышел с неприятным впечатлением. Выступить с такою программою – большая претензия для молодого человека. Но всему есть мера. Есть сюжеты столь возвышенные, что неприятно, когда их касаются поверхностно. <…> А сегодня он предпринимает говорить про Воскресение и Вознесение. Я очень рад, что он кончает, и желаю от души, чтобы он обрел неудовлетворенность своими лекциями». И спустя некоторое время дописывает: «5 апр. <…> Лекции Соловьева кончились. Я не был на последней, и очень доволен что не был. Представьте, что этот молодой человек, говоря о воскресении и будущем суде, публично опровергает учение о вечной казни грешников, и один раз назвал это учение “гнусным догматом”! <…> Этого я не могу простить Соловьеву и не могу причислить его к сериозным и православным защитникам веры. Это опять тот же нигилизм личного самолюбия, личной гордыни, личной мысли, только в ином виде»79.
Разумеется, в Победоносцеве говорило не только оскорбленное чувство ревнителя православной догмы – все его духовное пристрастие к недвижности, к всяческим перегородкам в жизни и мысли, к ограничению личной самодеятельности восставало против свободного почина и свободного философствования Вл. Соловьева. Он не полагал, подобно Достоевскому, что «никакая из святынь наших не боится свободного исследования»80. Кстати, теологически скандальное заявление Соловьева о «гнусном догмате» положило начало его сомнительной репутации не только в глазах Победоносцева, но и в церковных кругах, – и, видимо, проникло даже сквозь стены Оптиной пустыни, так что можно предположить: некое (по слухам) порицание Соловьеву после их совместной с Достоевским поездки (летом того же 1878 года) в знаменитый монастырь связано не с впечатлением монахов от личного его облика, а именно с этим публичным демаршем81.
В отличие от Победоносцева, Достоевский по мере слушания не только не остывал к лекциям Соловьева, но, не пропустив ни единой, внутренне перерабатывал их как стимул для своей художественной и нравственной мысли. Примечательно, что вышеупомянутая антидогматическая дерзость лектора не только не шокировала религиозные чувства Достоевского, но, напротив, привлекла писателя своей этической подоплекой, побудив его вложить в уста старца Зосимы истолкование «вечных мук» как неизбывных укоров совести, а не загробных телесных пыток82. Мы еще вернемся к тому, как духовное общение с Соловьевым отразилось в круге тем и образов «Братьев Карамазовых», а сейчас перенесемся на несколько лет назад, к моменту первого знакомства писателя и юного философа – знакомства, которое с самого начала наметилось как идейное взаимоузнавание двух разных поколений, озабоченных судьбой России.
К этой встрече, состоявшейся в 1873 году, привела новая жанровая и общественная проба, предпринятая Достоевским, – печатание «Дневника писателя» в редактировавшейся им газете кн. В.П. Мещерского «Гражданин». «Дневник писателя» и предназначался прежде всего молодой аудитории, в которой, по мнению Достоевского, скопилась жажда правды и полезной деятельности, но которая блуждает без духовного руководства и попадает под нигилистические влияния. Как «ловец человеков» он закидывает посреди молодой России словесную сеть, захватывающую сердца прямым, безоглядным обращением к идеалу. Иногда эта страстная надежда ободрить, возвысить и даже «заклясть» общественное сознание достигает мучительно высоких, на грани срыва, степеней возбуждения: «…Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, – единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов…» Он и сам чувствует, что на этот, до неправдоподобия искренний, напряженно вибрирующий звук отзовется разве что энтузиазм юности. «А впрочем, – заканчивает он эту тираду, – неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но – слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения <…>»83.
И действительно, уже на январский выпуск «Дневника…» за 1873 год отозвался письмом, в числе самых первых, двадцатилетний юноша: «Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, господствующего в нашей бессмысленной литературе, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. Между тем такое суждение, хотя бы и слабое само по себе, было бы полезно как всякий протест против лжи. Из программы “Гражданина”, а также из немногих ваших слов в №№ 1 и 4 я заключаю, что направление этого журнала должно быть совершенно другим, чем в остальной журналистике, хотя оно еще и недостаточно высказано в области общих вопросов. Поэтому я считаю возможным доставить вам мой краткий анализ отрицательных начал западного развития <…>. Впрочем, я приписываю этому маленькому опыту только одно несомненное достоинство, именно то, что в нем господствующая ложь прямо названа ложью, и пустота – пустотою»84. В последних словах этот корреспондент Достоевского увлеченно воспроизводит строй и тональность фразы из только что прочитанного «Дневника…»: «…порок по-прежнему называется пороком и злодейство – злодейством…»85. Но пишет он пером не робеющего ученика-поклонника, а человека, неукоснительно ведомого мобилизовавшей его истиной и потому нечувствительного к дистанции между собой и знаменитым адресатом. Этот юноша – Владимир Соловьев, «философ призывного возраста» (как вскоре будет насмешничать над ним недружелюбная часть прессы). Стоит сравнить энергию его сжатого письма с трепетным многоречивым излиянием старшего его брата Всеволода, письменно обратившегося к Достоевскому за месяц до того86, чтобы понять всю исключительность «улова», выпавшего на долю первых же страниц «Дневника писателя».

