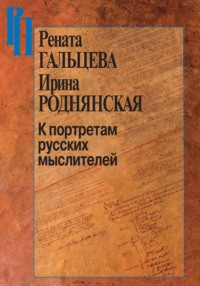
К портретам русских мыслителей
Бурсов окунулся в мир писем Достоевского, отдавая себе отчет, что за бытовыми обстоятельствами и деловыми материями можно разглядеть приключения души, изгибы духа и что здесь надо быть внимательным к подробностям, которые при поверхностном взгляде могут показаться несущественными и мимолетными. И что же? Раскрылось ли сердце Достоевского исследователю его внутренней жизни? Нет… – и неуспех осуществления тем разительней, чем вернее и точнее был замысел. Этот неуспех в своем роде не менее загадочен, чем «загадочный» (по мнению автора) герой бурсовского исследования. Прежде всего, загадочно отношение автора к Достоевскому.
Вот пассаж, с виду незначительный, отчасти запертый в подстрочное примечание, но живо характеризующий психологическую тональность книги Бурсова. Удивителен здесь сам ход рассуждений, какая-то сложнейшая дипломатия мысли с туманными целями. Н.Н. Страхов недвусмысленно заявляет о Достоевском, что «проповедник гуманности» – «был зол, завистлив и развратен»15. Бурсов не соглашается с ним, но и не оспаривает его. «Между прочим», роняет он, находились люди, разделявшие мнение Страхова. Из чего, по-видимому, следует, что это мнение не лишено оснований. Однако не тут-то было. Оказывается, лицо, судившее о Достоевском в унисон со Страховым, «как из всего явствует», было дурным и «ничтожным»16 человеком. Напрашивается вывод, что мнение Страхова скомпрометировано совпадением с мнением «ничтожного» М. Родевича. Но вывод этот так и не сделан. Внятная самооценка Достоевского (он не зол, а просто раздражителен и притом отходчив, близкие люди быстро замечают разницу между первым и вторым и привязываются к нему) оставлена без внимания. Заключительная фраза примечания искусно отводит взгляд читателя от этой самооценки и направляет его на подставную мизансцену: «великий» Достоевский, оправдывающийся перед «ничтожным» Родевичем, – хотя из приведенной цитаты совершенно ясно, что Достоевский не презирает своего корреспондента, но и не оправдывается перед ним, а скорее отчитывает его. Тон Достоевского в этом письме сварлив, но простодушен и человечен. Тон же Бурсова принадлежит лицу, торопливо заметающему следы от брошенных им же вскользь намеков. Бурсов как бы сталкивает лбами всех персонажей своего исследования, сам уворачиваясь от столкновения с ними. На Страхова брошена тень его общности с неким непривлекательным Родевичем, но брошена тень и на объект их суждений: согласие двух непохожих людей относительно пороков Достоевского автоматически наводит на мысль, что «нет дыма без огня». Достоевскому тоже корректно предоставляется слово, но тут же его четкий самоанализ отводится как жалкое самооправдание.
Отсутствие прямоты суждений или предположений, когда речь идет о старых злых легендах вокруг имени Достоевского, отличает позицию автора и при трактовке знаменитой истории с «каймой», которой Достоевский якобы просил обвести свой роман «Бедные люди», печатавшийся у Некрасова в «Петербургском сборнике». И в данном случае Бурсов тоже ничего не утверждает и ничего не отрицает. Может, дело с «каймой» было, а может, и нет. Может, был такой разговор, а может, все это наговоры «злых языков», которые хотели, чтобы Достоевский, «с его чрезмерными претензиями и жаждой немедленной славы», «был выставлен в смешном виде17. Все участвующие лица скомпрометированы и здесь – и Достоевский с его «чрезмерными претензиями», и его недоброжелатели-литераторы с их «злыми языками». И, как всегда, в заключение триумф молвы: «многие верили в эту историю»18. И, опять-таки как всегда, мелькает у автора: «это» в духе Федор Михайловича, «с ним это могло случиться».
Между тем Долинин находит для объяснения этой истории самые определенные слова. В своих примечаниях к письмам Достоевского он называет ее «сплетней», с удовольствием взятой на вооружение противниками писателя. Далее он рассматривает измененную версию этой же «сплетни», согласно которой просьба Достоевского насчет «каймы» касалась уже не «Бедных людей», а другого произведении, якобы отданного в проектируемый Белинским сборник («Левиафан»), а оттуда переданного в другое издание. «Ясно, – пишет Долинин, – что для сборника Белинского Достоевским ничего не было приготовлено, и, следовательно, никакого рассказа или повести Достоевского Белинский не передавал в “Современник”», а по поводу «Романа в девяти письмах», написанного «в одну ночь» и напечатанного в отделе «Смеси», – «совершенно невозможно себе представить, чтобы Достоевский мог требовать выделения его особой каймой»19. Наконец, комментатор предоставляет слово самому Достоевскому как решающему в этом деле свидетелю: «Ф.М. Достоевский, находясь в Старой Руссе, где он лечится, просит нас заявить от его имени, что ничего подобного тому, что рассказано в “Вестнике Европы” П.В. Анненковым насчет “каймы”, не было и не могло быть, что он никогда не получал стихотворения, якобы сочиненного Некрасовым и Панаевым насчет этой каймы»20.
Но есть сюжет, в отношении которого мерцающая манера полунамеков, эффектной переклички чужих мнений и весь вообще «театр теней» оказываются, если воспользоваться словосочетанием самого Бурсова, «человечески недозволенными»; речь идет о самой мрачной легенде вокруг Достоевского. Тема ставрогинской исповеди действительно терзала сознание Достоевского как крайний предел преступного, как последний «эксперимент» на путях зла. «Достоевский, – с похвальной проницательностью замечает Бурсов, – жил так, как будто репетировал роли едва ли не всех своих героев»21. Это вживание в роль, это глубинное соприкосновение с жизнью тех персонажей, которые ищут тьмы и бездны, не могло стоить ему дешево: почти непосильно вынашивать опыт тех, кто одержим злом…
И вот тут-то Бурсов воспроизводит эту черную легенду, ничуть не изменяя своему прежнему двусмысленному тону. Среди дурных «свидетельств», приводимых без опровержения, и случайно вклинившегося несогласия с ними (мнение С.Н. Булгакова), которое мимоходом же отклонено, его собственного прямо выраженного мнения отыскать невозможно. Но зато на свой страх и риск Бурсов берется угадывать, что в глубине души считал по этому страшному поводу тот или иной современник Достоевского. И опять знакомый рефрен: «многие поверили», – предполагающий анонимный, но слаженный хор, готовый огласить истину.
Однако тут явные недоразумения. В качестве одного из «поверивших» выступает Д.С. Мережковский, о котором Бурсов пишет, что он преступление Ставрогина «принял за преступление самого Достоевского»22. Между тем из того, что говорит Мережковский в своей книге «Л. Толстой и Достоевский» по этому поводу, как и из всей ее тональности, следует совсем иное. За ответами на «проклятые вопросы» относительно творческой личности Достоевского он обращается к подспудным, подсознательным ее сферам, инициирующим воображение подчас сильнее, чем психологическое «ясновидение» извне: «Конечно, ему самому не надо было убивать старуху, чтобы испытать ощущения Раскольникова. Конечно, тут многое должно поставить на счет ясновидению гения; многое – но всё ли? <…> достойно внимания уже и то, что в воображении его могли возникать подобные образы. Вот к чему никогда не было бы способно воображение Л. Толстого, проникавшее, однако, в не менее глубокие, хотя иные бездны сладострастия. Художественного любопытства Достоевского к “укусам тарантула” – к растлению девочки, к любовному приключению Федора Павловича Карамазова с Лизаветою Смердящею – никогда не понял бы Л. Толстой»23. И Мережковский задает вопрос (послуживший соблазном для Бурсова): «Мог ли» Достоевский «все это узнать только по внешнему опыту, только из наблюдений над другими людьми? Есть ли это любопытство только художника?»24 – вопрос, который предполагает совсем другой ответ, чем тот, который надеялся найти здесь Бурсов. Согласимся мы или нет с тем предположением человеческого «подполья» у Достоевского-художника, которое подразумевается в вопросе Мережковского, ясно одно: речь идет здесь о противоположении внешнему опыту внутреннего, наблюдению – самонаблюдения, а не чужим поступкам – поступка своего. То, что у Мережковского касается внутренней психологической картины навязчивых образов и состояний, сферы субъективных фантазмов, Бурсов относит к жизненной эмпирии, к области объективно-фактического. «Если понимать историю с малолетней как голый биографический факт, то, на мой взгляд, ею вообще не стоит заниматься. Прямых доказательств все равно не найти»25 (автор как будто досадует из-за их нехватки …).
Гроссман однажды заметил, что предъявленные Достоевскому обвинения Страхова тем и безнравственны, что их невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Мы не собираемся впрямую обращать эти слова против Бурсова. Страхов был – или считался – близким другом Достоевского, неожиданно его предавшим в письме ко Льву Толстому. Бурсов – не друг, а по статусу своему объективный исследователь, который призван и даже обязан говорить о том, о чем Страхову лучше было бы умолчать. И однако от него можно было ожидать другого тона – не такого уклончивого и недоброжелательно-пристрастного одновременно.
В начале книги Бурсов заявляет ко многому обязывающий тезис: путь к постижению личности Достоевского лежит через его самооценки. Это обещание во многом осталось неисполненным. Бурсов, действительно, проявляет интерес к самооценкам Достоевского (о его внимании к письмам писателя говорилось выше), но он бессилен в них вжиться из-за чуждости ему выразившегося в них жизненного склада. Он их скорее перетолковывает, чем истолковывает. Говоря о Достоевском, он апеллирует к Толстому как к некоторой кардинальной точке отсчета. И это сближает его со Страховым, который как бы отдавал Достоевского на суд Толстого, мысленно даже инсценировал и предвкушал этот суд, подражая позднетолстовскому слогу: «Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что в сущности совпадает)»26. Страницы книги Бурсова, посвященные отношению Страхова к Достоевскому, написаны с особым воодушевлением. Анализ этого отношения достаточно тонок, выводы же из него неожиданны и очень существенны для понимания всей книги. По Бурсову, Страхова Достоевский «загипнотизировал» своим гением, заставил увидеть возможность ужасного в каждом человеке вообще и в нем самом, Страхове, в частности. Толстой был тем, в ком Страхов «искал опору для себя» и «спасения от наваждений достоевщины»27. Что ж, так оно, вероятно, и было. Страхов попал в орбиту мощного влияния личности Достоевского, влияния чуждого и тягостного ему; он не мог ни справиться с этим влиянием, ни отделаться от него, ни покориться. Он почувствовал себя в плену, а несвобода вызвала озлобление. Не трудно понять, что здесь не последнюю роль сыграла душевная узость Страхова. Однако у Бурсова – и в этом-то неожиданный поворот его размышлений – Страхов определенно играет роль жертвы, оказавшейся в тенетах Мефистофеля-Достоевского, носителя разрушительной силы. Главная беда Страхова, оказывается, была в том, что он общался с Достоевским: «Видимо, и тех, кто часто общался с ним, Достоевский способен был заразить двойничеством, которым было отмечено его собственное сознание и поведение»28. И далее: «Я не хочу сказать, что Достоевский одинаково действовал на всех, навязывая достоевщину. Тут многое значили личные качества другого человека. Талантливый литератор и философ, Страхов не обладал ни твердым характером, ни прочными самостоятельными убеждениями»29. Выходит, и сам Страхов виноват (о справедливости этих укоров умолчим). Но в чем же? В том, что был слишком бесхребетен, не обладал иммунитетом против ядов, источаемых Достоевским. Отрицательный эффект воздействия личности Достоевского, как видим, не ставится под сомнение.
В этой истории со Страховым, то есть на первых же страницах исследования Бурсова, уже обозначена общая и главенствующая концепция книги: Достоевский – «опасный гений». Приходится признать, что таково глубоко личное отношение Бурсова к своему герою. В этом и разгадка странного – маневрирующего и петляющего – тона книги. Так ведет себя человек в присутствии опасности, подавляющей, кружащей и обессиливающей его.
Причем опасности или ложности не тех или иных философско-идеологических построений, умозрительных идей, а опасности нутряной, стихийной, почти физиологической. Тот, кто собирается спорить с Бурсовым, вынужден начать с этого парадоксального утверждения: «гений» – и тем не менее «опасный».
«Опасным» Достоевского называли многие – Бурсов не первый. В этом неожиданно сходились люди разных, порой противоположных воззрений: Страхов и Горький, Д. Лоренс и Томас Манн. Гораздо меньше слов сказано о целительном и очищающем воздействии духа Достоевского. И такие слова тоже принадлежат совершенно не схожим между собой мыслителям. Религиозные философы ценили в Достоевском волю к смирению, экзистенциалисты – волю к бунту. В гениальности же Достоевского давно никто не сомневается. И вот, когда Бурсов предъявил свою лаконичную формулу, он разом затянул узел сомнений и проблем, мучивших многих: может ли быть гений опасным, другими словами, может ли быть гениальность разрушительной и разъединяющей силой? Хотя на этот вопрос ответили утвердительно Томас Манн своим «Доктором Фаустусом» и, косвенно, Горький, их заключение вряд ли следует принимать как окончательную истину.
Все дело в том, что понимать под гениальностью: природную силу с ее обильными дарами или тот целостный синтез духа, который достигается даже гениальными натурами только в итоге их творческой жизни. В глазах самого Достоевского гениями были люди, лишь вполне овладевшие своими нравственными и творческими силами, взошедшие на вершины, с которых можно обозреть человеческие пути и судьбы, и потому способные сказать людям «новое слово». Для Достоевского гениями были Данте, Шекспир, Гёте, Пушкин. Противоположная точка зрения, которая разумеет под гениальностью слепую неуправляемую мощь, истребляющую самоё себя в вихре безысходных противоречий, – характерна для декаданса. Декаданс эстетизирует такую гениальность, упивается ее мрачным трагизмом, отсутствием катарсиса. И с таким взглядом на сущность и назначение гения Достоевский вряд ли бы согласился. Конечно, в известном смысле любой гений опасен. Гений всегда нов, идет тягчайшим путем восхождения и силой присущего ему обаяния увлекает на этот путь других. С крутизны можно сорваться. Духовное беспокойство, духовная жажда – мучительны, и не каждый их выдерживает. Тот же Страхов был человеком даровитым и нравственно вменяемым, но известным образом ограниченным. Человек, стремящийся аккуратно выполнить всякий свой долг в поставленных им самим рамках, – мог ли он не видеть в Достоевском разрушителя, гибельную для его колеи стихию? И действительно, Достоевский был для него в этом смысле опасен. Однако есть абсолютное различие между восхождением и блужданием по кругу, между стремлением преодолеть трагедию через нахождение собственной подлинности – и упоением ее неразрешимостью. И то, и другое «опасно», но слово «опасность» несет здесь совершенно разный смысл.
Бурсов рисует Достоевского безнадежно раздвоенным и всю жизнь мечущимся по одному и тому же кругу. Он особенно прокламирует неспособность Достоевского к раскаянию: ведь раскаяние – уже путь (к изменению, совершенствованию), а не круговращение. Можно ли назвать человека, изображенного Бурсовым, гениальным? Вряд ли. Скорее перед нами талантливый и несчастный литератор, так и не сумевший за свою жизнь стать достойным вместилищем отпущенных ему сил и дарований. Кажется, исследователь сам ощущает неизбежность такого вывода из своей книги; недаром в ней эпитеты «гениальный» и «великий» звучат слишком часто, слишком назойливо, слишком некстати… Они звучат как отчаянные заклинания разочарованного поклонника или, не побоимся сказать, как подобострастная дань общепризнанному авторитету при отсутствии внутреннего уважения к этому авторитету.
По Бурсову, Достоевский – это сплошное нарушение всяческих норм, мер, границ. И он настаивает на личном, душевном сходстве Достоевского с такими его героями, как «подпольный» человек, Свидригайлов, Ставрогин. Герои Достоевского, действительно, не являются созданиями «объективного» и «незаинтересованного» художественного созерцания, – Бурсов это остро почувствовал и смело высказал. Но «автобиографизм» – не то слово, которое здесь уместно. Автор игнорирует существо происходившей в Достоевском внутренней работы. Он мыслью и воображением испытывал и проходил все пути, открывавшиеся перед человеком как таковым, в том числе и самые ужасные. Это не было «чистым» художественным экспериментом, безразличным к его жизненному существованию. Но это и не было личным житейским опытом, который потом служил бы материалом для писательской работы. От обычной работы художественной фантазии этот процесс отличался слишком большой степенью соучастия (именно в этом смысле Достоевский «брал» своих героев «из сердца»), от биографического события (пускай внутреннего, остающегося в границах переживания) – слишком большой степенью добровольности. Он подвергал себя добровольному мучению, удовлетворяя и свою исследовательскую страсть, и свое нравственное чувство причастности к любой человеческой судьбе и ответственности за нее. Да, не только мучение, но и наслаждение было велико! Но это наслаждение было связано не с переступанием запретов и норм (хоть бы и мысленным), а с трепетным приближением к загадке, имя которой – как всю жизнь повторял сам Достоевский – «человек». Многоликость, необычайная вместительность и «опасная» (по распространенному мнению) широта внутреннего опыта Достоевского связана с тем, что художник в нем неотделим от человека. «Идеологом» был Достоевский-человек, и эту свою первейшую человеческую задачу он решал как художник. Свой художественный труд он ощущал как свою человеческую миссию, а свою человеческую миссию – как произнесение «нового слова» о человеке. В этом смысле он как бы обязывался «побывать» и Раскольниковым, и Свидригайловым, и даже Смердяковым. И, наверное, он видел в этом не свое несчастье, а долг человеческого бесстрашия. Но в биографическом смысле он не был ни тем, ни другим, ни третьим, то есть был ими не в большей степени, чем прочие, чем все мы. Более того, художественно-нравственный опыт, мучительно нажитый им, был созидательным в отношении его собственной личности. Факты это подтверждают. Он в значительной степени преодолел в себе голядкинский комплекс неполноценности, голядкинсую мелочную уязвимость, одолел разрушительную страсть игрока (не приписывая себе честь победы – страсть эта, по его выражению, «оставила» его), победил свое мнительное одиночество, войдя в круг семьи, во многом одолел неизбежные патофизиологические последствия эпилепсии, клиническое течение которой грозит распадом личности. И это – на фоне талантливейших жертв алкоголя, безумных финансовых спекуляций и пр. – жертв, обильно населяющих вторую половину ХIХ века.
Герои Достоевского живут как бы на том же смысловом уровне, что и их создатель, говорят на общем с ним языке. Но в чем их общность между собой и отличие от человеческих типов, созданных иным творческим сознанием? Во-первых, в том, что человек здесь «идееносен», а, во-вторых, в том, что его идеи, его мышление экзистенциальны. Эти два как бы отталкивающие друг друга тезиса (в первом доминирует мысль, во втором – жизнь) могут быть примирены третьим: идея, которой поглощена здесь личность, есть всегда ключ к жизненному вопросу, вопросу о личном жизненном пути – «как жить дальше». И только в этом смысле «идеологична», «теоретична» жизнь человека в мире Достоевского. Пользуясь известным выражением, можно сказать: человек здесь мыслит, чтобы жить, а не живет, чтобы мыслить. И в этом отношении личность целостна; она не расчленяется на отдельно функционирующий мозговой аппарат, удовлетворяющий своим факультативным потребностям, и на живущий по собственным законам психо-телесный организм. Человеку Достоевского нужно «мысль разрешить», потому что сама эта мысль выражает насущную проблему личного существования, его самую глубинную и серьезную потребность. Дело в том, что человек здесь соотносится со смысловыми основами бытия посредством не одной лишь всеохватной мыслительной способности. Он чувствует себя причастным к бытию, так сказать, своими недрами, и потому жизнь его, способ его личного существования ставится им в зависимость от решения онтологически-смысловых вопросов. Этим его позиция отличается от традиционной интеллектуалистической философии, но этим же он отличается от экзистенциалистского героя-бунтаря, порвавшего как с Вселенной, так и с разумом. Всем известно, что Достоевский «дьявольски» умен (качество, которым он наделил и своих героев), но до чего нелепо было бы сказать, что он «интеллектуален». Поэтому заявление Бурсова о том, что у Достоевского есть «на все <…> своя теория»30, звучит невпопад. Достоевский – в неком отличии от Толстого – вообще не считал, что все можно и нужно объяснять.
Но жить в одном измерении со своими героями – не значит с ними отождествляться. Бурсов полемизирует с А.П. Скафтымовым, в своей классической статье настаивавшем на разграничении автора и героя «Записок из подолья». По мнению Бурсова, саратовский исследователь недооценивает общность трагических противоречий, свойственных тому и другому. Нет спора, духу Достоевского были присущи трагические противоречия. Но на противоречия, которые раздирают «подпольного», он к моменту завершения повести смотрел, если не как на разрешенные, то как на разрешимые. Знаменитые слова подпольного героя: « – Мне не дают… Я не могу быть… добрым!»31 – как раз та грань, которая отделяет его от автора. Ими Достоевский засвидетельствовал, что его герой находится в тупике. Сам же к этому времени был уверен, что «быть добрым», как и вообще кем-то «быть», – внутренний путь человека, на котором никто не может ему воспрепятствовать, кроме него самого.
Достаточно сравнить это изобличительное «мне не дают…» с патетической концовкой «Постороннего», где автор, А. Камю, действительно заодно со своим героем, чтобы почувствовать дистанцию, отделяющую Достоевского от героя «подполья». В душе Достоевского всегда оставался «неповрежденный пункт», позволявший ему наблюдать за своими персонажами с некой моральной возвышенности, при самом тесном участии в их муках и крушениях. Этим он и человечески, и художественно-идеологически отличается от трагических модернистов (будь то Ф. Сологуб, Ф. Кафка или французские экзистенциалисты), пытавшихся ему наследовать. Не новую, но справедливую эту мысль приходится напоминать в связи с исследованием Бурсова. Приводя своих героев к краху, Достоевский тем самым избегал собственного краха – не в «терапевтическом» смысле («убить Вертера», чтобы не покончить самоубийством самому), а прежде всего в том отношении, что на каком-то критическом перекрестке он расходился с их путем и избирал себе другую участь. Не только мастер «полифонических диалогов», неразрешимых «прений», но и мастер провиденциального сюжета, создатель, устроитель и сокрушитель воображаемых судеб, он всегда вовремя различал, что подстерегает его героев, и вовремя предостерегал самого себя. О нем можно сказать, что его «страстная и подлая» (согласно откровенной и жестокой самооценке) натура не знала меры; но не менее справедливо будет сказать, что его дух вовремя и издалека распознавал общечеловеческую моральную меру и склонялся перед ней. Достоевский со всей его неудержимостью, как мало кто другой, остерегался нравственного саморазрушения, и надо думать, что на каждую долю стихийной жизнеспособности у него приходятся две доли духовного усилия. Если читатели с этим согласны, пусть они рассудят, прав ли Бурсов, называя Достоевского духовно больным гением. Достоевский был физически больным человеком, и болезнь накладывала печать на его психику. В его жизни, особенно в молодости, были периоды, когда ему угрожало душевное заболевание. Но его здоровый гений вышел победителем из борьбы с болезнью тела и души. Здоровье его гения было единственным здоровьем, отпущенным ему и им не утраченным.
С Бурсовым тянет спорить по поводу едва ли не любой фразы. Создается впечатление, что каждая мысль, каждое побуждение Достоевского в переводе на язык Бурсова теряют исходный смысл – как будто не в состоянии наладить контакт инопланетные миры. Там, где Достоевский имеет в виду сверхличную Волю и Провидение, Бурсов пишет об объективной необходимости; где Достоевский выражает уверенность в своей художественной миссии, там Бурсову видятся «гордыня» и «удивительное самомнение»32 (и, значит, самозванство?); непримиримость и горячность Достоевского в защите своих убеждений Бурсов принимает за признаки душевной болезни (ход мысли, близкий психоаналитической идее адаптации) и т.п.
Язык Достоевского, подобно всякому индивидуальному языку со своей символикой, со своими смысловыми акцентами, «словечками», живет лишь в атмосфере внимательного к нему прислушивания. И хотя Достоевский не строил системы философских категорий, исходя из его миропонимания и лексикона, можно реконструировать его понятийный аппарат – что-то вроде совокупности излюбленных «экзистенциалов»: «проникновенный», «будущность», «судьба», «надрыв» (этим словом он обогатил русский язык), «поэт», «идея», «шиллеровщина», «эвклидов ум», «новое слово», «эффект», «выгода» и др. Понятие у него нарочито смещается, – оно должно нести новый смысл и к тому же эпатировать и «жалить». Но Бурсов невнимателен к своеобразной огласовке отдельных слов. И это невнимание есть часть некоторой общей глухоты к духовно-душевному миру Достоевского. Из-за этого иные фразы автора требуют буквально распутывания мысли. Есть прямо анекдотические заявления: «На всякую невыгоду он [Достоевский] смотрит с точки зрения, какую выгоду можно извлечь из нее»33, – словно идет речь о каком-нибудь прожженном деляге. «Выгода? Что такое выгода?»34 – риторически вопрошает «подпольный», и, оказывается, выгодой он называет как раз то, что с обычной точки зрения вовсе не выгодно. Достоевский считал совершенно неприемлемым руководствоваться утилитарно понимаемым принципом «выгоды» не только в жизни индивидуального лица, но и в жизни государства и нации: «Ведь с этим признанием святости текущей выгоды, – писал он в «Дневнике писателя» за июль-август 1876 года, – непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, – ведь с этим можно очень далеко зайти… Напротив, не лучшая ли политика для великой нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже по-видимому, и в ущерб ее интересам?»35. И как жизненный принцип самого Достоевского далек от утилитаризма, и как далеки от этого его интересы! Герои Достоевского находятся на линии «добро – зло», но не между пользой и вредом или выгодой и невыгодой. В романах-трагедиях Достоевского есть персонажи, преданные утилитарным воззрениям, но им-то как раз отводятся последние роли. Развратники и убийцы вроде Федора Павловича Карамазова или Федьки Каторжного – даже они ограждены от «деловых» Лужина или Ракитина стеной, отделяющей человеческое сообщество от обездушенных персон. Фраза о «невыгоде» и «выгоде» из письма Достоевского, к которой относится вышеприведенное умозаключение Бурсова, содержит обычное для писателя смещение смыслов: «невыгодой» обозначены здесь жизненные срывы и провалы, «выгода» символизирует залог лучшего будущего.

