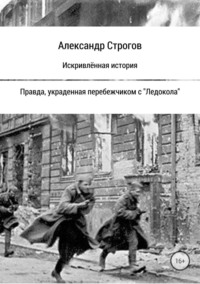
Искривлённая история
Франция в годы войны изготовила 290 млн. снарядов19, Германия – 306 млн.20, из которых израсходовала 285,2 млн. Россия в это же время выпустила… 58 млн. снарядов (включая 41,1 млн., произведённых на частных заводах, что для империи можно считать весьма тревожным симптомом) и импортировала 13 млн. – при годичной потребности в 50 млн.
Глава 8. Железный сын Х. Максима
Каждому бойцу пулеметного расчета, сделавшего наибольшее количество выстрелов, была обещана премия в пять франков. Деньги, как и медаль «За безупречную службу», получил расчет сержанта П. Дина, который установил рекорд, сделав более 120 000 выстрелов
Подполковник Г. Хатчинсон, командир 33-го пулемётного батальона
Параллельно с артиллерией развивалась и другая техническая новинка – пулемёт. Известный исследователь истории автоматического оружия Р. Форд подсчитал: на фронтах Первой мировой войны погибло 9 млн. чел. и ещё 12,5 млн. чел. получило ранения. По его мнению, более половины потерь от выпущенных пуль приходится на пулемётный огонь, что составляет не менее 25% от общего числа потерь, или 5,5 млн. чел. убитыми и ранеными.
Губительное воздействие пулемётов на атакующую пехоту заключалось не только в собственно поражающем, но в не меньшей степени и в тактическом факторе – цепи противника залегали на «ничьей земле», где становились лёгкой добычей для артиллерии. Вместе с широким применением колючей проволоки можно говорить о комбинированном воздействии на живую силу противника, которое стало причиной большинства смертей на фронте.
Пулемёт занимал переходную позицию между винтовкой и пушкой по трудовым и финансовым затратам, а также по боевой эффективности. Здесь, как и в случае с артиллерией, также можно отметить использование как в оборонительных (преимущественно в первые годы войны), так и в наступательных (всё более интенсивно в завершающий период) целях. Последнее достигалось за счёт постоянного совершенствования управления войсками, повышения качества средств индивидуальной и коллективной бронезащиты, уменьшения массы автоматического оружия, а также механизации средств доставки.
Поначалу (1914 г., маневренная война, первые месяцы позиционных боёв) пулемёты были станковыми и использовались преимущественно в обороне (исключение составляла немецкая армия, чьи пулемёты должны были поддерживать наступающую пехоту интенсивным огнём, в том числе навесным). 1915 г. характеризуется резким увеличением количества станковых пулемётов, появлением ручного пулемёта и синхронизатора стрельбы через самолётный винт. Пулемёт и далее используется преимущественно для обороны (самолёты-истребители в данном случае выполняют двоякую цель – тактически являясь агрессорами, в стратегическом плане они применяются для обороны), однако он заполняет все ниши «боевого пространства», откуда можно вести огонь.
В 1916 г. британские танки смогли пройти сквозь боевые порядки противника, и их пулемёты, расположенные в боковых спонсонах, открыли убийственный огонь в упор по немецкой пехоте. В последующие годы войны количество танков постоянно увеличивалось, в то время как их конструкция становилась всё более надёжной и совершенной.
В 1918 г. Германия, не имея возможности производить собственные танки в достаточном количестве, попыталась компенсировать их отсутствие и нейтрализовать одновременно бронетехнику противника. В обоих случаях применялись новейшие образцы автоматического стрелкового оружия. MP-18 (Maschinenpistole 18) конструкции Х. Шмайссера, первый в истории пистолет-пулемёт, создавался под пистолетный патрон 9 мм «парабеллум»; с снаряженным магазином на 32 патрона он весил 5,26 кг и предназначался для боёв в окопах21. Вооружённые MP-18 бойцы штурмовых батальонов нередко носили также стальные нагрудники Sappenpanzer образца 1916 г.; их товарищи несли броневые щиты и ящики с ручными гранатами, а также продвигали вперёд полевые орудия штурмовой артиллерии. Здесь мы можем уверенно констатировать решение тех же тактических задач, для которых войсками Антанты на Западном фронте применялись танки.
Для борьбы с танками противника немцы создали пулемёт MG-18 TuF под 13-мм «слоновый» патрон. Принятый на вооружение, он, тем не менее, был лишь запущен в серию к моменту подписания перемирия.
Германия, начав войну с производства 200 пулемётов в месяц, изготовила их 280 тыс. шт. – из общего числа в 1 млн. шт. в воюющих странах. На долю России приходилось лишь 28 тыс. пулемётов из этого числа.
Легко заметить, что Россия была катастрофически слаба в мощи артиллерийского и автоматического огня, показателях, определявших урон, наносимый противнику. Это обрекало империю на военное поражение и революцию.
Глава 9. Коммунизм – или государственный капитализм?
Коммунизм – это цельная идеология пролетариата и вместе с тем – это новый общественный строй
Мао Цзэдун
В. Суворов (В. Резун) полагает, что коммунизм – попросту порочная идеология, имеющая целью создание мегацентрализованного государства, в котором власть, как и разврат, достигают состояния абсолюта. Так действительно случилось во времена правления его кумира И. Сталина (И. Джугашвили), и явно указывает на наличие у беглого офицера ГРУ МО СССР нереализованных комплексов на данную тему. Подобные представления о модели идеального коммунистического государства, мягко говоря, не до конца соответствуют действительности, о чём речь пойдёт ниже. В то же время вожди Октябрьской революции, В. Ленин (В. Ульянов) и Л. Троцкий (Л. Бронштейн), а также их сподвижники, осуществляя государственный переворот, несомненно, имели в виду захват личной власти для себя, причём власти, пределы которой ограничивались бы лишь их собственным пониманием данного вопроса.
Здесь в коммунистические теории закрадываются совершенно очевидные противоречия: с одной стороны, большинство из них сходится на том, что социалистические отношения имеют основой развитые капиталистические отношения в обществе, с другой – успешная революция имеет своей предпосылкой упадок капиталистических отношений, паралич экономики и производства. Коммунизм в таких обстоятельствах выступает не более высокой формой организации общества, а наоборот, более примитивной – это защитная реакция, требующая, ради всеобщего выживания, объединить все силы и бросить их на борьбу с общим врагом, будь то адмирал Колчак или разруха. Интересно, что В. Ленин (В. Ульянов) и сам полагал политику «военного коммунизма», к которой его правительство прибегло в период Гражданской войны, вынужденной мерой, а отнюдь не тем социализмом, который большевики планировали построить в будущем. Степень социализации (или коммунизации) общества предстаёт, в результате, лишь глубиной вмешательства государства в экономическую жизнь и обуславливается тяжестью кризиса. Например, даже в самых демократичных странах мира законом предусмотрены обстоятельства, в которых осуществляется мобилизация населения для борьбы с последствиями стихийных бедствий, эпидемий и др., а ряд прав и свобод граждан ограничиваются. Военнослужащие всех стран земного шара живут в таких обстоятельствах постоянно.
Это очень хорошие слова, разбивающие весьма вольные теории бывшего офицера ГРУ, но каждое слово – просто пустой звук, если оно не подкреплено примером. Ну, что же, история полна примеров… Меня могут перебить и сказать, что примеры, вырванные из своего исторического и культурного контекста, едва ли применимы к иным обстоятельствам, конкретно – к революции в России. Я с этим всецело согласен: русских умом не понять, они идут своим особым путём государственного развития. Поэтому я приведу пример из истории России, причём из периода, непосредственно предшествовавшего приходу большевиков к власти. Простой вопрос: был ли Николай II Гольштейн-Готторп-Романов коммунистом? Меня, наверное, засмеют. Всем известно, что Николай II Гольштейн-Готторп-Романов не только не был коммунистом – он ещё и боролся с коммунистами весь период своего правления, и закончил он свою жизнь в расстрельном подвале, когда большевик Я. Юровский осуществил заветную мечту всех угнетённых российских пролетариев. Родственники и ближайшие друзья покойного царя были надёжнейшей опорой самодержавию и бурно развивающемуся капитализму: размеры полученных ими взяток за «продвижение» заказов на строительство броненосцев, в итоге всю войну простоявших на приколе, исчислялись миллионами рублей. Кто же тогда капиталист, и даже более того – империалист? Тем не менее, согласно утверждениям В. Суворова (В. Резуна), Николай II Гольштейн-Готторп-Романов, а вместе с ним и великие князья, и все остальные князья, и министры, да и вообще все прочие господа, заканчивая статскими, титулярными и тайными советниками – все они являлись самыми отъявленными большевиками.
Это почему же – удивятся мои читатели? Что я такое пишу? Вроде, неглупый человек, а такое… просто абзац за предложение зашёл… К сожалению, это всё чистая правда: по меркам В. Суворова (В. Резуна), очень многие режимы являются коммунистическими, большинство законов, даже те, что ограничивают право на проведение демонстраций, включая коммунистические, написаны коммунистами (!), и Николай II Гольштейн-Готторп-Романов – тоже коммунист.
Чтобы более не держать вас в неведении относительно обстоятельств, при которых даже царь, по стандартам В. Суворова (В. Резуна), стал большевиком, расскажу, в чём же всё-таки дело. А дело вот в чём: в 1915 году в России был создан новый управленческий орган – Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. В его компетенцию входила организация производства вооружения и униформы, снабжение действующей армии продуктами питания – и осуществление всех необходимых мероприятий для реорганизации промышленности и сельского хозяйства, которые позволили бы добиться победы над супостатом в кратчайшие сроки. Деятельность Особого совещания продолжалась и после Февральской революции, и после Октябрьской, несмотря на то, что состав его пережил пертурбации, а название ведомства изменилось. В 1916 году Россия была вынуждена прибегнуть к реквизициям продовольствия в сельскохозяйственных регионах, так как закупки по фиксированным ценам (с 8 сентября 1916 г. спекуляция продовольствием и иными товарами первой необходимости относилась к уголовно наказуемым деяниям) осуществить уже не представлялось возможным – крестьяне припрятывали хлеб с тем, чтобы продать его подороже на «чёрном рынке». Последний в те годы, особенно в связи с инфляцией и ограничением на свободный оборот золотого рубля, переживал небывалый расцвет. Реквизиции эти продолжились и при Временном правительстве, и при большевистском, получив название продразвёрстки. Продразвёрстка являлась главным отличительным признаком периода «военного коммунизма», а по мнению В. Суворова (В. Резуна), и коммунизма как такового. Следовательно, главнейшим коммунистом в России следует считать царя Николая II Гольштейн-Готторп-Романова – ведь закон этот введён им (2 декабря 1916 г.), обеспечивал он его личное питание и позволял ему удерживать власть, причём вопреки законам свободного рынка, установившим реальную цену на хлеб, сахар и сало, и которую господа статские советники (все до последнего – коммунисты) отказывались платить.
Вы, скажете, я манипулирую фактами и жонглирую словами, чтобы использовать имеющуюся у меня возможность поиздеваться над читателем. Тут вы совершенно правы. К сожалению, В. Суворов (В. Резун) поступает таким образом с миллионами читателей уже долгие десятилетия. И никто ему ничего не говорит, хотя вещи, вроде бы, элементарные.
В дальнейшем мне придётся неоднократно возвращаться к тому, чем же всё-таки является коммунизм, особенно в понимании того или иного автора, однако нужно подчеркнуть главное – для В. Суворова (В. Резуна) это явление определяется степенью централизации власти, контролем государства над средствами производства и тем, как близко стоят товарно-денежные отношения к натуральному хозяйству. В моём понимании, всё это также является признаками одной из форм коммунизма, причём ультраправой его формы, однако, чтобы считаться коммунистическим, подобное государство должно иметь у власти политическую партию соответствующего толка – партию большевиков, например. Нетрудно заметить, что такое утверждение достаточно просто и элегантно раскрывает тайну, как большинство элементов «военного коммунизма» были введены ещё враждебной коммунизму царской реакцией (также ультраправой), однако же сами большевики пришли к власти лишь спустя три революции.
Простота и доступность – это то, что позволяет информации владеть умами. Таким образом, применяя несложные лозунги, легко остающиеся в подсознании читателя, работали выдающиеся пропагандисты ХХ века – В. Ленин (В. Ульянов), Л. Троцкий (Л. Бронштейн), И. Сталин (И. Джугашвили), А. Гитлер и многие другие. Ты беден? Ограбь богатого – буржуя или еврея, это без разницы! Ты слаб? Призови сообщников – и скажите, что вы угнетённый класс или даже народ! Ещё проще поступали те, кто связывал свою судьбу с капиталом: они просто рисовали на ценнике необходимую цифру. Хотите получить товар – платите. В конечном итоге, те, кто бросал в толпу лозунги и вешал ценники, получили ту власть, к которой стремились, хотя и по-разному организованную. Впоследствии была разработана теория конвергенции, научно описавшая данные процессы.
Данная книга не посвящена вопросам идеологии или капитала. Её главное предназначение – позволить читателю взглянуть на историю без навязанных кем-то очков, неважно, розовые они, красные или даже коричневые. Даже если их сделали в ГРУ, они нам не нужны – нам интересна правда. И правда такова: вожди Октябрьской революции вполне осознавали, что, осуществляя переворот, они начинают отнюдь не построение передового государства, а наоборот, ускоряют падение существующего. Однако они опускали общество до такого уровня, на котором сами стали бы равноапостольными пророками новой религии; разумеется, такая роль слишком подкупает, чтобы нормальный человек смог противиться искушению.
Большевиков, или как минимум, их высшее руководство, в связи с этим можно назвать авантюристами, осуществившими революцию и ввергнувшими страну в гражданскую войну ради идей, реализацию которых на практике они представляли себе весьма туманно – но ради очевидной собственной выгоды, которую давала им власть. Это правда. Однако можно сравнить их с генерал-адъютантом А. Брусиловым, чьё восхождение по карьерной лестнице от командующего армией до Верховного командующего обошлось в миллионы человеческих жизней, искалеченных или прерванных окончательно. Ради очередного повышения А. Брусилов охотно лгал о превосходстве своей «методы» наступления на широком фронте – как лгут врачи-приверженцы нетрадиционной медицины, обещая чудесное исцеление благодаря применению «биоэнергетических методик». В конце концов, и В. Ленин (В. Ульянов), и А. Брусилов стали представителями одной властной группировки; другие же в условиях жестокого кризиса в России оказались несостоятельными. Ложь о всеобщем братстве народов (породившая братоубийственную войну), сопутствовавшая лжи о честном заработке в обществе равных (что привело к всеобщей нищете), оказалась ничем не лучше лжи о том, что широтой «методы» можно покорить мир.
Глава 10. Февральская революция – «бескровная»
Внешне казалось, что сила на стороне царя, однако одного порыва ветра Февральской революции оказалось достаточно, чтобы смести его
Мао Цзэдун
Падение царизма в России назревало уже продолжительный период времени, и неудачная, затяжная война, по сравнению с которой русско-японская оказалась пустячной ссорой, делало это событие неизбежным. Ветер перемен, гулявший по самым высоким кабинетам, нёс сладковатый запах чего-то нового, возбудивший не только большевиков, но и даже либеральные партии вроде конституционалистов-демократов, военную верхушку, более того – царскую семью. В месяцы, предшествовавшие Февральской революции, возникла даже «великокняжеская фронда», ставившая целью ограничение власти царя (!). Можно только предполагать, чем самодержавие насолило великим князьям, и насколько большие у них были долги, что им посулили за подобные действия и т.д. В этом случае важнее, не распыляясь на малозначимые для всех, кроме знатоков истории дома Гольштейн-Готторп-Романовых, темы, отметить, что привкус чего-то нового, появившийся в воздухе, окрылил надеждами на лучшее будущее даже близких родственников царя. Как ни странно, в этом поветрии никто не уловил ни признаков хлора или фосгена, которыми немцы в это время травили русских солдат на фронте, ни запаха разлагающейся плоти, которому, по причине грядущих эпидемий тифа и испанского гриппа, в ближайшие годы предстояло стать главным на бескрайних просторах стремительно разваливающейся империи. Более того, никто даже не заподозрил, что речь идёт о банальном сквозняке, возникшем вследствие того, что входную дверь высадила чья-то нога, обутая в крепкий матросский башмак.
Подробное описание падения царизма в России, даже в течение последних месяцев его существования, является необычайно увлекательной темой, достойной далеко не одного тома – и, вместе с тем, несколько выходит за рамки данного исследования. Важно, тем не менее, остановиться на наиболее важных моментах: «Брусиловский прорыв» («…порыв», «…надрыв» – и ещё многих эпитетов достойно это любопытнейшее со всех точек зрения наступление) обескровил не только Юго-Западный фронт, но и вооружённые силы в целом. Статистика предыдущей главы продемонстрировала, каким образом в ведение А. Брусилова перешли – и были перемолоты концентрированным пулемётно-артиллерийским огнём противника – стратегические резервы Ставки, включая даже гвардию. Чтобы перейти к намеченному А. Брусиловым стратегическому наступлению по всему фронту, а не только на юго-западном направлении, нужны были уже миллионы солдат, которых не было в наличии даже на бумаге. Только для того, чтобы пополнить войска, правительство было вынуждено начать призыв ратников 2-й очереди, то есть мужчин среднего возраста. Вильгельм II не зря утверждал: «Ни одного отца семейства на фронте!». Они способны, конечно, держать в руках оружие, но едва ли согласны умирать ради вещей, которые, учитывая наличие у них жизненного опыта, выглядят сомнительными. Такие люди, в принудительном порядке оставляющие собственное хозяйство и семью, не слишком пригодны к ведению боевых действий, требующих как устойчивости к постоянному психическому стрессу, вызываемому огнём противника, так и изрядных физических сил. В тот период, даже бездействуя в окопах, солдаты вынуждены были терпеть холод и сырость, противостоять паразитам, переносящим заразные болезни – и постоянно обновлять собственные траншеи и блиндажи, то и дело приходящие в негодность в результате огня вражеской артиллерии. Далеко не каждый человек, особенно тот, чья жизнь уже в значительной степени состоялась, мог найти в себе желание спокойно смириться с такого рода постоянными тяготами и, конечно, со смертельной опасностью.
Одновременно для действий в тыловой в зоне начался призыв т.н. «коренного населения», что немедленно вызвало многочисленные восстания. Железнодорожные коммуникации и промышленность, по причине оттока рабочей силы на фронт, быстро приходили в упадок. Даже в тех случаях, когда удавалось закупить и реквизировать необходимые для снабжения армии продукты питания, те не доходили до фронта по причине заторов на железнодорожных путях и, разумеется, воровства.
Вместе с продразвёрсткой были введены продуктовые карточки; норма питания снизилась с 3 фунтов хлеба до 2 на фронте и до 1, 5 фунтов22 – в прифронтовой полосе. Даже если забыть о том, что питание исключительно хлебом едва ли свидетельствует о благополучном положении дел (большая часть скота, в том числе и молочного, была забита ещё в 1915 г.), такое уменьшение пайка свидетельствует об уже случившейся в тылу катастрофе. Разумеется, и эти нормы в большинстве случаев не выполнялись: в ноябре 1916 г. фронт получил лишь 74% необходимых грузов, в декабре – только 67%. Впрочем, по сравнению с Петербургским и Московским районами, данная картина ещё производит благоприятное впечатление, ведь там поставки ограничились 29% (!) от нормы.
В результате в Петрограде сложилась ситуация, чреватая взрывом сама по себе: здесь были расположены крупные заводы, например, Путиловский, Невский, Обуховский, Александровский и Арсенал, на которых работало до 400 тыс. чел., включая до 220 тыс. чел. кадровых; при численности населения города в 2 млн. чел., это составляло весьма значительную его часть. Рабочих от мобилизации защищала «бронь», так как они производили оружие, боеприпасы и стратегически важную продукцию; тем не менее, увольнения, как и призыв рабочих, неизменно вызывавшие волнения в их среде, являлись всё более распространённым явлением.
В Петрограде располагались и войска, причём в огромном количестве – около 160 тыс. чел. в составе запасных батальонов. При этом они были вынуждены ютиться в казармах, рассчитанных лишь на 20 тыс. чел.; численность некоторых запасных батальонов достигала 12 – 15 тыс. чел., что, конечно, усложняло поддержание в них надлежащего уровня дисциплины23. Это объяснялось просто: в отличие от союзников и противников, Россия так и не создала полевых учебных лагерей, сосредоточив их в собственной столице. Такому решению могло быть несколько причин: а) высокая плотность железнодорожных путей в районе столицы, позволяющая быстро маневрировать резервами; б) сложность предотвращения дезертирства из полевых лагерей, которые, таким образом, пришлось бы превращать в концентрационные; в) необходимость постоянно держать в Петрограде мощный противовес революционно настроенной массе столичных рабочих. Как уже говорилось выше, какая бы из причин не привела к подобному положению вещей, подавляющее большинство солдат запасных войск к тому времени представляли собой весьма неблагонадёжный человеческий материал. Что немаловажно, их продуктовый паёк, как и у рабочих, был урезан до 1,5 фунтов хлеба в день, из которых они в последние два месяца 1916 г. получали, учитывая перебои со снабжением, только около 178 граммов в день. Для сравнения: в период блокады Ленинграда в годы Великой отечественной войны минимальный размер хлебного пайка для взрослого человека колебался в пределах от 125 г (иждивенцы) до 250 г (рабочие) и даже более (375 г для рабочих цехов с высокой температурой).
Нетрудно заметить, что жители Петрограда к началу 1917 г., фактически, пребывали на осадном положении. По городу постоянно плодились и множились слухи о будущей революции, о необходимости изгнания немцев из правительства; сотрудники Охранного отделения, чьи информаторы активно работали во всех сферах общества, всё чаще доносили о напряжённом ожидании чего-то, некоего важного события, которое дало бы старт новому этапу в жизни города.
Власти (градоначальник генерал А. Балк и командующий петроградским военным округом генерал С. Хабалов) предприняли всё возможное (откровенно говоря, их усилия выглядят смехотворными) для борьбы с надвигающимися бунтами: город разделили на районы, подчинённые надёжным штаб-офицерам, которые командовали наиболее дисциплинированными частями – учебными командами запасных батальонов (т. е. инструкторами), общая численность которых достигала 10 тыс. чел., и полицейскими, которых было… 3500 чел. Оружие заперли под замок, чтобы избежать доступа к нему «неблагонадёжного элемента».
В конечном итоге, большинство предпринятых мер оказались совершенно недостаточными, учитывая уровень недовольства и количество взбунтовавшихся.
16 февраля (ст. ст.) 1917 г. забастовал крупнейший Путиловский завод. Не имея возможности принудить рабочих приступить к исполнению их обязанностей, правление было вынуждено 21 – 22 февраля (ст. ст.) закрыть предприятие. Этот поворотный и во многом символический шаг задекларировал стремление России выйти из войны – ведь Путиловский завод выпускал столько трёхдюймовых полевых пушек (орудие, представлявшее собой основу артиллерийского парка армии), сколько казённые заводы, вместе взятые. Кроме того, что рабочие обрекались таким решением на голод, им угрожал призыв в армию. Легко прийти к выводу, что подобное решение со стороны правления акционерного общества было не просто безответственным, но и преступным, вероятно, даже умышленным, ведь 36 тыс. чел.24, оказавшиеся в столь критических обстоятельствах, неминуемо должны были восстать.
Манифестации, начавшиеся немедленно, 6 марта (н. ст.) 1917 года25, охватили рабочих, а также часть студентов и курсисток; протестующие, начав с лозунгов «Хлеба! Хлеба!», вскоре перешли и к политическим требованиям; ими применялась исключительно эффективная тактика принудительного «снятия» рабочих соседних заводов – тех силой побуждали присоединяться к акциям протеста. Войска гарнизона, брошенные на подавление стремительно разгоравшегося восстания, далеко не во всех случаях были способны сдержать натиск толпы, а после того, как им были выданы патроны (11 марта), проявляли либо нерешительность, либо, что случалось чаще, переходили на сторону восставших. Бунтовщики, в ответ на залпы, направленные в толпу, не рассеивались, а лишь отступали, чтобы заново перегруппироваться; они также начали захватывать оружие, размещённое на складах. 12 марта н. ст., когда восстание перешло в стадию вооружённого, падение царизма уже ни у кого не вызывало сомнения; в этот день возникло два новых органа власти – Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) и Временный комитет Государственной думы. Возникшие независимо друг от друга, они представляли совершенно разные по своему составу, численности и целям слои населения, и в конечном итоге подобное двоевластие закончилось падением слабейшего из этих, вновь образованных институтов власти.