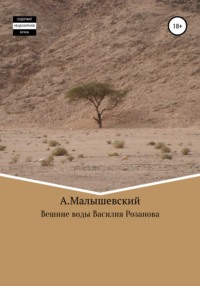
Вешние воды Василия Розанова
Знаменитые розановские журфиксы[280] – хлебосольные чаепития по воскресеньям для друзей и недругов… Помимо философов, литераторов, художников, в квартиру попадало немало случайных любопытствующих людей, которым удавалось через кого-либо получить приглашение.
«В те годы – в конце прошлого столетия и в начале нынешнего – было интересно жить в Петербурге… Было время для поисков теории. В этих поисках, в том напряжении созерцательного творчества, в ряду других, одно из первых мест занял Василий Васильевич. Его дом, естественно, стал одним из интеллектуальных журфиксов столицы, куда волна выносила, надолго или мимолетно, каждого захваченного течением. Теперь это было уже совсем не похоже на Павловскую улицу… Напротив, наряду с понедельниками у Дягилева (редакция «Мира искусства»), собраниями у Мережковского и других, розановские воскресенья были одним из тех очагов, где ковалась новая идейность. При радушии хозяев и газетных связях Василия Васильевича здесь набиралось, может быть, больше постороннего элемента, чем в других местах, но оглашенные[281] постепенно сами собой отходили в сторону, а елицы верные[282] продолжали прясть переходившую со станка на станок пряжу».
Петр Перцов[283]«В Петербурге, на Шпалерной улице, у церкви Всех Скорбящих и дома предварительного заключения, около тех мест, где находился некогда дворец сына Петра Великого, царевича Алексея[284], в четвертом этаже огромного нового дома, в квартире Василия Васильевича Розанова, лет пять тому назад по воскресным вечерам происходили любопытные собрания. Из незанавешенных окон столовой видны были звездно-голубые снежные дали Невы с мерцающей цепью огоньков до самой Выборгской. Здесь, между Леонардовой Ледой с лебедем[285], многогрудой фригийской Кибелой[286] и египетской Изидой[287] с одной стороны, и неизменно теплящейся в углу, перед старинным образом, лампадкою зеленого стекла – с другой, за длинным чайным столом, под уютно-семейной висячей лампой, собиралось удивительное, в тогдашнем Петербурге, по всей вероятности, единственное общество: старые знакомые, сотрудники «Московских ведомостей»[288] и «Гражданина»[289], самые крайние реакционеры и столь же крайние, если не политически, то философские и религиозные революционеры – профессора духовной академии, синодальные чиновники, священники, монахи, – и настоящие люди из подполья[290], анархисты-декаденты. Между этими двумя сторонами завязывались апокалиптические беседы, как будто выхваченные прямо из «Бесов»[291] или «Братьев Карамазовых». Конечно, нигде в современной Европе таких разговоров не слышали. Это было в верхнем слое общества отражение того, что происходило на Светлом озере, в глубине народа».
Дмитрий Мережковский[292]«У Розанова воскресенья совершались нелепо, нестройно, разгамисто, весело; гостеприимный хозяин развязывал узы; не чувствовалось утеснения в тесненькой, белой столовой; стоял большой стол от стены до стены; и кричал десятью голосами зараз; В. В. где-то у края стола, незаметный и тихий, взяв под руку того, другого, поплескивал в уши; и – рот строил ижицей; точно безглазый; ощупывал пальцами (жаловались иные, хорошенькие, что – щипался), бесстыдничая переблеском очковых кругов; статный корпус Бердяева всклокоченною головой ассирийца его затмевал; тут же, – вовсе некстати из Нового времени: Юрий Беляев[293]; священник Григорий Петров[294], самодушная туша, играя крестом на груди, перепячивал сочные красные губы, как будто икая на нас, декадентов[295]; Д. С. Мережковский, осунувшийся, убивался фигурою крупною этою; недоуменно балдел он, отвечая невпопад; с бокового же столика – своя веселая группа, смакующая безобразицу мощной вульгарности Розанова; рыжеусый, ощеренный хищно, как бы выпивающий карими глазками Бакст[296] и пропухший белясо, как шарик утонченный с еле заметным усенком – К. Сомов[297].
Все – выдвинуты, утрированны; только хозяин смален; мелькнет белым животом; блеснет своим блинным лицом; и плеснет, проходя между стульями, фразочкою: себе в губы; никто ничего не расслышит; и снова провалится между Бердяевым и самодушною тушей Петрова; здесь царствует грузная, розовощекая, строгая Варвара Федоровна[298], сочетающая в себе, видно, Матрену с матроной; я как-то боялся ее; она знала, что я дружил с Гиппиус; к Гиппиус она питала мистическое отвращение, переходящее просто в ужас; я, друг Мережковских, внушал ей сомнение.
Розанов, взяв раз за талию, меня повел в показную, парадную комнату; она зарела, как помнится, – розовым; посередине, как трон, возвышалося ложе: не ложное; и приводили: ему поклониться; то – спальня.
Однажды он, смяв меня и налезая, щупал, плевнул вопросом; и я, отвечая, чертил что-то пальцем по скатерти: непроизвольно; он, слов не расслышав, подставивши ухо (огромное), видел след ногтя, чертившего схему на скатерти, и, точно впившись в нее, перечерчивал ногтем, поплевывал: Понимаете! Силился вникнуть; вдруг он запыхался, устал, подразмяк, опустил низко голову, снявши очки, протирал их безглазо, впадая в прострацию; физиологическое отправленье совершилось; не мог ничего он прибавить; мыслительный ход совершался естественной, что ли, нуждою в нем; так что, откапав матерей мыслей, он капать не мог.
Не забуду воскресников этих; позднее на них пригляделся – впервые я к писателю Ремизову; он сидел, такой маленький, всей головою огромной уйдя себе под спину; дико очками блистал; и огромнейшим лбом в поперечных морщинах подпрыгивал из-под взъерошенных, вставших волос; меня вовсе не зная, уставился, как бык на красное; вдруг, закрививши умильные губки, он мне подмигнул очень странно; мне сделалось жутко; и он испугался; сапнувши, вскочил, оказавшись у всех под микиткой; пошел приставать к Вячеславу Иванову:
– У Вячеслава Иваныча – нос в табаке!
И весь вечер, сутуленький, маленький, странно таскался за В. И. Ивановым; вдруг, подскочивши к качалке, в которой массивный Бердяев сидел, он стремительно, дьявольски-цапким движением перепрокинул качалку; все, ахнув, вскочили; Бердяев, накрытый качалкой, предстал нам в ужаснейшем виде: там, где сапоги, – голова; там же, где голова, – лакированных два сапога; все на выручку бросились; только не Розанов, сделавший ижицу, невозмутимо поплескивал с кем-то».
Андрей Белый[299]«В столовой в воскресные вечера был всегда изящно сервирован чай. На столе торты, вино, фрукты. За самоваром обычно сидела жена Розанова – Варвара Дмитриевна или его падчерица – Александра Михайловна Бутягина (автор нескольких талантливых беллетристических произведений). На другом конце большого стола, поджав под себя одну ногу и непрерывно куря, восседал Василий Васильевич… Беседа больше шла около него – с ближайшими соседями по столу. Остальные либо прислушивались, либо вели свои разговоры. Общество у В. В. было достопримечательное: кое-кто из Духовной академии и Религиозно-философского общества, из редакции перцовского «Нового пути», «Мира искусства», а изредка, очень изредка кто-нибудь из «Нового времени»… Встречал я у Розанова Мережковских, Бердяева, Ремизова, Белого, Сологуба, Вяч. Иванова, Бакста, о. Петрова, И. Л. Щеглова[300], Е. А. Егорова[301]. Бывала и молодежь, студенты, литераторы: Пяст, Евг. П. Иванов[302], Н. Н. Ге[303], музыканты, В. В. Андреев[304], Б. А. Зак[305]. Бывали и просто молодые люди».
Далмат Лутохин[306][307]«У Розанова почти не читали своих литературных произведений; но обильно закусывали; долго засиживались за чайным столом, разговаривали – говорил по большей части хозяин… Потом он вел всех или некоторых гостей в кабинет, – тоже очень просторный, тут было много стеклянных ящиков с аккуратно разложенными монетами: журналист по профессии, – в эту пору Розанов считал себя по призванию нумизматом, и ничем больше».
Владимир Пяст[308]«Вспоминаю одно из воскресений, когда В. В.[309] был особенно в ударе… Разговор был жаркий, перекрестный, причем весь жар проистекал от Розанова, который весь был в потоке мыслей, образов, мимики, жестов. Он так увлекался порою, что впадал в неприличие. «Что? Автономия Украины? – кричал он на девицу, набожно глядевшую ему в рот. – Вот вам автономия!» – и кукиш взлетел к носу девицы».
Эрих Голлербах[310][311]На расцветших многолюдных воскресениях Розанова было меньше всего литературы. Там кипели споры на религиозно-философские темы… Специальных докладов не проводилось, но обсуждения проходили чрезвычайно живо, во многом благодаря хозяину, который в разговорах на идейные темы был раскован, горяч и непредсказуем. Он буквально фонтанировал оригинальными идеями.
Тогда же и там же оформилась идея придать частным встречам некий общественный характер. Так возникли Религиозно-философские собрания 1901–1903 гг. – встречи богоискательской русской интеллигенции и православной церкви, проходившие в здании Географического общества[312] у Чернышева моста[313].
«Многие мне приписывали инициативу и основание религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге. Это было бы лестно, так как эти собрания (я думаю) сыграли большую роль в движении нашей религиозной мысли. Но правда вынуждает сказать, что этого не было, т. е. что я не принимал участия в этом возникновении. Я даже не помню, как они произошли. Как-то вдруг стали говорить об этом. Кто? Когда? Лица и граница времени путается. Мы говорили. Все говорили. Была очень счастливая пора, по настроению, по взаимному всех ко всем доверию. Но я думаю, внутренно инициатива исходила от Мережковского; и еще правдоподобнее, что первая шепнула ему на ухо его З[314]. И уже заставила его закричать (он всегда кричал). Сейчас же поддержал Философов[315], – тогда ходивший в прелестном пиджаке и так прелестно себя державший. С ним и Дягилев, но этот не очень (художество). Тут загудел, я думаю, Тернавцев[316], тоже Егоров, а они вместе уговорили В. М. Скворцова[317] попросить Победоносцева дать licentiam[318]. Победоносцев сказал Плеве[319], что он ручается, – и замечательное общество стало действовать, без устава, без официального разрешения, без всякой формы. Отчеты собраний печатались в газетах; там были произносимы впервые за историю существования русской церкви – свободные религиозные речи, свободная и всесторонняя критика состояния и самих принципов церкви. Между тем этот поистине религиозный митинг – настоящий митинг – никем не был разрешен и даже нигде не был зарегистрирован. Необыкновенное его разрешение совершенно свидетельствует о прекрасной доверчивой душе Победоносцева, – и о духе терпимости вообще нашей Церкви, нашего духовенства, в частности, и особенно митрополита Антония[320]. Он прислал сюда своего друга, архимандрита (вскоре епископа) Антонина[321]. Антонин был нам всем истинным другом. Мы все его любили и ценили его с проблесками гениальности и порывами безумия ума».
Василий Розанов[322]Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний разрешил участвовать в Религиозно-философских собраниях всему черному и белому духовенству[323], всем академическим профессорам и приват-доцентам и, по выбору, студентам Санкт-Петербургской духовной академии. Монахи и белое духовенство сидели справа от председателя, интеллигенция – слева. Здесь часто бывали епископ Феофан[324], Андрей Белый, Александр Блок, Евгений Иванов, Валерий Брюсов[325], Максимилиан Волошин[326], Петр Перцов, Павел Флоренский[327]. Сам Василий Розанов своих докладов на Собраниях не произносил, его доклады читали за него другие. Вот его объяснения: «Когда в Религиозно-философском обществе читали мои доклады (по рукописям и при слушателях перед глазами), – я бывал до того подавлен, раздавлен, что ничего не слышал (от стыда)»[328]. Трагический лоб, пальцы, закрывающие глаза[329]… Возражения Розанов собирал, а после писал на них ответы, которые также читал кто-то другой.
«К Розанову льнуло и православное духовенство, несмотря на его жесткие статьи по поводу христианства и Христа… С первого взгляда это кажется странным. Розанов ведь был светский писатель при этом, т. е. интеллигент – слово в духовном мире тогда страшное. Но, во-первых, был не интеллигент, как прочие, пугала из тьмы, которые, мол, никакого Бога не признают, как и благонамеренных журналов: он писал в «Новом времени». Во-вторых (и это особенно для белого духовенства), чувствовалось в нем какая-то семейная теплота. А что он еретик – не беда: еретик всегда может вернуться на правый путь… Так было и дальше, несмотря на жестокие выпады на Собраниях против церкви, духовенства, в особенности против Монашества»[330]… «Ну, а другие церковники – приятельствовали с Розановым, прощая резкие выпады по их адресу, вот почему: он, любя всякую плоть, обожал и плоть церковную, православие, самый его быт, все обряды и обычаи. Со вкусом он исполняет их, зовет в дом чудотворную икону и после молебна как-то пролезает под нее (по старому обычаю). Все делается с усердием и с умилением. За это-то усердие и душевность Розанова к нему и благоволили отцы. А еретичность… да, конечно, однако ничего: только бы построже хранить от него себя и овец[331] своих»[332]… «Трудность же положения светской стороны в Собраниях была вот в чем: Розанов совпадал – но не всегда, и не во всем, – с линией Собраний. С некоторых сторон он был громадной ей поддержкой и помощью; с другой – он ее искривлял и как бы разрушал. И когда в Собраниях церковники нападали на Розанова огулом, одинаково и на правду его и неправду, тут-то и приходилось трудно: надо было Розанова защищать, но в то же время, защищая линию, – отъединяться от него…»[333].
Зинаида ГиппиусМенялась жизнь В. В. Розанова – менялось его отношение к Санкт-Петербургу!!.. «Трепета души, вдохновения, прямо живого, движущего – в Петербурге больше. Москва есть неискоренимый эстет, и так с самого рождения своего, вечно думающая о том, чтобы все было красиво, процессуально, знаменательно… Совесть – дурнушка, не кокетлива, не нарядлива, хотя исполнена безмерной красоты в своей неубранности. И вот этого гораздо больше, мне думается, в Петербурге. Его легкомыслие легко сбегает, а ответственность в нем чутка. Петербург еще только начал, начинает жить. Великие душевные грезы его сил еще впереди. О Петербурге можно сказать, что Лермонтов[334] раз написал в черновой тетради и слова обвел в рамку: «Россия вся в будущем». И Петербург – весь в будущем. Чиновный его фазис – не все и даже не большая частность… Во всяком случае, это Россия стала чиновна, а не Петербург. В Петербурге Россия только сосредоточила свое чиновничество, как уже в наличном центре»[335].
«В 93 году у Николаевского моста, в Петербурге, впервые я увидел настоящих египетских сфинксов. «Из древнего города Фив, поставленные повелением ныне царствующего Государя», – как говорила на них надпись. Они стали уличным украшением – подробностью около «гранита», в который «оделась Нева»[336]. Самая коротенькая река в мире течет мимо их, как три тысячи лет назад текла самая длинная, и город самый новый из европейских шумит около обитателей самого ветхого в истории города. Однако все эти мысли-сопоставления пришли мне на ум гораздо позднее: при первом же разглядывании меня остановило удивительное выражение лица сфинксов. Как это может проверить наблюдением всякий, – это суть молодые лица с необыкновенно веселым выражением, которое я не мог бы определить выше и лучше, как известною поговоркою: «Хочется прыснуть со смеху». Я долго, внимательно, пытливо в них всматривался, и так как позднее мне случилось два года ежедневно ездить мимо них, то я не могу думать, чтобы обманулся во впечатлении: это были самые веселые и живые из встреченных мною в Петербурге действительно, казалось бы, живых лиц!.. От впечатления веселого, улыбающегося лица я позднее стал переходить к другим их линиям: сложение спины и состав бедер – удивительны по силе и правде. Это как бы фигуры из «Войны и мира» Толстого, перед коими остальные памятники Петербурга (включая статую Фальконета – Петра[337]) есть то же, что перед жизненными созданиями гениального художника забытые мною лица из одного, в детстве прочитанного рассказа, от которого я запомнил только заглавие: «Яшка – красная рубашка»[338]… Но удивительное влечение к их фигурам и почти волнение при созерцании меня никогда не оставляло и сохраняется до сих пор»[339].
Внимание Розанова не сфокусировалось на архитектуре и памятниках Санкт-Петербурга, в его сочинениях исторические здания, монументальная скульптура, знаменитые дворцы и парки – ничего не значащий фон. Однако все розановские литературно-философские озарения в области секретов Востока (исследования сирийской и египетской культуры любострастия, – как выразится Победоносцев)[340] непосредственно связаны с музеем Императорской Академии художеств[341], с коллекциями Императорского Эрмитажа[342], с книгохранилищем Публичной библиотеки. Гипсовые слепки со скульптурных произведений древней Греции и Рима (Изящны и мертвы!!)[343]… Подлинные шедевры античного искусства… Археологические и письменные памятники Древнего Египта…
«Я отпросился у начальства говеть и с энтузиазмом, какого не могу передать, поспешил в понедельник в заветные и с тех пор священные для меня двери Публичной библиотеки, в ее знаменитые, тихие, поэтические залы отделений. В самом деле – это прекраснейшее, религиознейшее (по серьезности) здание в Петербурге. Но что читать? А я страшно торопился. Полочек, шкафчиков специально с Египтом – нет. О! теперь я уже знаю все уголки, где старый египетский аист свил себе гнездо, но тогда не знал. К счастью, помог мне случайно встреченный там знакомый. Да вот длинные красные томы… И я погрузился. В шесть дней недели я не терял минуты; потом – немножко страстной недели, потом – субботы летом (день, свободный от занятий в Петербурге) и среди обычно служебной недели хоть денек скажешься больным – и все сюда, в знаменитые и прекраснейшие отделения. Согрешил, украл у христианского Бога одно говенье и заглянул в Фивские и Гелиопольские святилища[344]».
Василий Розанов[345]Василий Розанов стал персоной всероссийского масштаба, но сомнительная репутация никуда не делась… «Нововременец»!!.. и этим все сказано…
«Я настроен против евреев (убили – все равно, Столыпина[346] или нет, – но почувствовали себя вправе убивать здорово живешь русских), и у меня (простите) то же чувство, как у Моисея, увидевшего, как египтянин убил еврея[347]».
Василий Розанов Михаилу Гершензону[348][349]«Дело Бейлиса[350] имело громадные последствия, – и именно тем, что русские были здесь поражены. Это торжество евреев открыло всем глаза. Множество людей – пусть безмолвно – испугались за Россию. Увидели угрозу будущности России. Во время Бейлиса черта оседлости была как бы снята: они точно хлынули всею массою в Россию; все увидели, что они всем владеют, деньгами, силою, властью; прессою, словом; почти судом и государством. Пережили ужас. И этот ужас чувствовался в каждом дому (домашние из-за евреев ссоры, споры). До Бейлиса не было вопроса об еврее: вопрос был решен в их пользу, и бесповоротно. Только одно правительство задерживало, но оно косно и зло. После дела Бейлиса, когда увидели, что оно сильнее самого правительства и что правительство не может с ним справиться, несмотря на явность правды (Андрюша, очевидно, ими убит), – когда они вывезли с триумфом своего Бейлиса и наградили его покупкой имения в Америке, а господин Виленский[351] тоже выехал за границу: все увидели, что сплоченное еврейство куда могучее правительства в разброде, спорящего и вздорящего. И поняли, что правительство одно кое-что еще защищает и кое в чем сдерживает евреев, общество же – положительная труха».
Василий Розанов[352]«Не нужно звать погрома в Белосток, не надо погрома звать и в Россию: ибо революция есть погром России, а эмигранты – погромщики всего русского, русского воспитания, русской семьи, русских детей, русских сел и городов, как все Господь устроил и Господь благословил».
Василий Розанов[353]Церковное ослушание[354], отталкивающая творческую интеллигенцию розановская дремучая реакционность, более всего проявившаяся в антиеврейских выступлениях в связи с убийством Столыпина и делом Бейлиса[355], привели к полной общественной дискредитации (кислота в лицо!!) и отлучению на заседании Религиозно-философского общества[356] 26 января 1914 года: «Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В. В. Розановым в одном и том же общественном деле»[357].
«Господа, я не хотел бы в своей очень краткой речи останавливаться на религиозных мотивах. Развивать этого я не буду. Я скажу только, что если Религиозно-философское общество действительно хочет носить имя религии, то вопрос о суде невозможен принципиально, исключение Розанова для нас невозможно, несмотря на то отношение, которое он вызывает в нашей психологии и наших этических чувствах, несмотря на все и quand même[358] исключение его все же невозможно по религиозным мотивам.
В какой мере Религиозно-философское общество признает эти мотивы, остается невыясненным, но я с особенной энергией хотел обратить ваше внимание на то, что писатель вообще не судим и суду не подлежит. Писатель и потомство посмеются над таким судом, если бы он мог состояться; писатель презирает этот суд. Я теперь говорю только о писателе. Что касается Розанова, мы видим в нем человека; но все, выступавшие с попытками обвинения, выступали, я бы сказал, с робостью, даже с нравственной трусостью; говорили, что не человека судят, что не смеют судить человека.
Хорошо, итак, человека мы не судим. Кто же остается, кто осуждается – писатель? Многие говорили: мы судим Розанова-писателя. Вот я и хотел указать, что писатель не судим. Однако остается что-то, и, по моему мнению, подлежащее суду. В Розанове это осталось бы, если бы он был в тесном и настоящем смысле общественным деятелем. Тогда это было бы просто и грубо.
Если бы Розанов устно или письменно высказался буквально так: господа, поднимайте погромы, – если бы он призывал к кровопролитию, тогда подобные призывы выпадали бы из сферы писательской деятельности и подлежали бы суду как заявления, манифестации общественного деятеля, и я тогда первый стоял бы за всевозможное опозорение Розанова.
Но здесь дело иное. Я встречаю с его стороны заявления, может быть, мне непонятные по своей психологической и этической связи, заявления парадоксальные, больше того, отвратительные, внушающие глубокое омерзение, – но если это омерзительное стоит в связи с писательской деятельностью, то здесь мой суд умолкает; писатель, целиком взятый, столь нежный и целостный организм, что разбивать его на части и вырывать их из контекста нельзя. Тогда пришлось бы исключить и Достоевского, и Сологуба, и, конечно, Мережковского исключили бы 100 раз и т. д. Мы исключили бы и Гоголя, если бы жили в эпоху «Переписки с друзьями»[359], и прочее, и всякий раз поступали бы смешно и неплодотворно.
Розанов, несомненно, писатель крупный, громадного содержания, писатель, переживающий ту роковую для всякого писателя эпоху, которая проводит его через всевозможные чистилища и унижает иногда до последних унижений. «И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он»[360].
Да, он писатель, и потому в моих глазах не подлежит суду. Но, кроме того, он не только писатель; это общественный голос в стране, где имеется величайшая общественная опасность, и мы ее пережили в 1905 году. Когда торжествовало правительство, то оно, пожалуй, проявляло меньше нетерпимости, чем можно было прочесть в обещаниях партий, готовивших себе торжество. Эти партии обещали нам одну страшную нетерпимость, жестокую цензуру, сыск над писателем и т. д. Принципиально нельзя становиться на эту дорогу. Может быть, пройдет немного лет, и мы увидим, что это была слабость, а не истина, – это вопрос о Розанове. Может быть, дело будет идти не о том, чтобы исключить из литературного общества какого-то одного литератора, чтобы сделать демонстрацию, чтобы подчеркнуть то, что было 30 раз подчеркнуто и в чем никто не сомневается. Может быть, через короткое время это будет действительно, и тогда посмотрим, что будут говорить. Тогда, может быть, вспомнят и мои слова те люди, которым в настоящее время это непонятно.
Писателя не должно судить и писателя вовсе не нужно исследовать. Дайте ему амнистию раз навсегда, проявите к нему великодушие или благодарность – как хотите.
Затем, как Розанов исключается? Как Розанов, т. е. разом – и как человек, и как писатель, и как общественный деятель? Мне хотелось только сказать, что общественное мнение, сила его в стране, – это, конечно, залог свободы, но сила общественного мнения обратно пропорциональна принудительности.