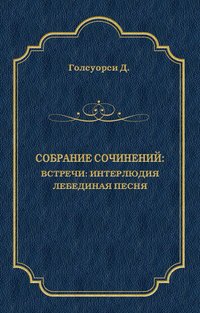
Собрание сочинений. Встречи: Интерлюдия. Лебединая песня
– Ах, милая, вот было бы славно!
– Ну, не слишком, тетя Уинифрид, это дело нелегкое.
– Но ведь это ненадолго. Парламент обязательно что-нибудь предпримет. Как тебе должно быть удобно – ты все новости узнаешь из первых рук. Так Холли можно направить к тебе?
– Ну разумеется! Она нам очень пригодится. Ей по возрасту, я думаю, больше подойдет делать закупки, чем бегать и подавать. Мы с ней прекрасно поладим. Главное – подобрать людей, которые могут сработаться и не будут зря суетиться. Вы что-нибудь знаете о папе?
– Да, он завтра приедет к тебе.
– Ой, зачем?
– Говорит, что должен быть на месте на случай…
– Как глупо. Ну, ничего. Будет вторая машина.
– И еще третья – у Холли. Вэл хочет править автобусом, и, знаешь, молодой… ну, вот и все, милая. Поцелуй Кита. Смизер говорит, в парке молока можно купить сколько угодно. Она сегодня утром была на Парк-Лейн, посмотреть, что там делается. А правда ведь все это увлекательно?
– В палате говорят, что подоходный налог повысят еще на шиллинг.
– Да что ты!
В эту минуту какой-то голос сказал: «Вам ответили?» И Уинифрид, положив трубку, опять осталась сидеть неподвижно. Парк-Лейн! Там из окон старого дома – дома ее молодости – все было бы прекрасно видно, прямо штаб-квартира! Но как это огорчило бы милого старого папу! Джемс! Она так ясно помнила его в накинутой на плечи шали, прилипшего носом к стеклу окна в надежде, что его старые серые глаза помогут ему в борьбе с несчастной привычкой окружающих ничего ему не рассказывать. У нее еще сохранилось его вино. А Уормсон, их старый дворецкий, и теперь еще содержит на Темзе, у Маулсбриджа, гостиницу «Зобастый голубь». К Рождеству он неизменно присылал ей головку сыра с напоминанием о точном количестве старого парклейнского портвейна, которое в него следует влить. Его последнее письмо кончалось так:
«Я часто вспоминаю хозяина и как он любил, бывало, сам спускаться в погреб. Что касается вин, мэм, то, боюсь, времена уже не те, что были. Передайте почтение мистеру Сомсу и всем. Эх, и много воды утекло с тех пор, как я поступил к Вам на Парк-Лейн.
Ваш покорный слуга Джордж Уормсон.
Р. S. Я выиграл несколько фунтов на том жеребенке, что вырастил мистер Вэл. Вы, будьте добры, передайте ему – они мне очень пригодились».
Вот они, старые слуги! А теперь у нее Смизер от Тимоти, а кухарка умерла – так загадочно, или, по выражению Смизер, «от меланхолии, мэм, не иначе: уж очень мы скучали по мистеру Тимоти». Смизер в роли балласта – так, кажется, это называется на пароходах? Правда, она еще очень подвижная, если принять во внимание, что ей уже стукнуло шестьдесят, и корсет у нее скрипит просто невыносимо. В конце концов, бедной старушке такая радость – опять быть в семье, думала Уинифрид, которая хоть и была на восемь лет ее старше, но, как истая представительница рода Форсайтов, смотрела на возраст других людей с пьедестала вечной молодости. А приятно, что есть в доме человек, который помнит Монти, каким он был в свои лучшие дни, – Монтегью Дарти, умершего так давно, что теперь его окружает сияние, желтое, как его лицо после бессонной ночи. Бедный, милый Монти! Неужто сорок семь лет, как она вышла за него замуж и переехала на Грин-стрит? Как хорошо служат эти стулья красного дерева с зеленой, затканной цветами обивкой. Вот делали мебель, когда и в помине еще не было семичасового рабочего дня и прочей ерунды! В то время люди думали о работе, а не о кино! И Уинифрид, которая никогда в жизни не думала о работе, потому что никогда не работала, вздохнула. Все очень хорошо, и, если только удастся поскорее покончить с этой канителью, от предстоящего сезона можно ждать много интересного. У нее уже есть билеты почти на все спектакли. Рука ее соскользнула на сиденье стула. Да, за сорок семь лет жизни на Грин-стрит эти стулья перебивали только два раза, и сейчас у них еще вполне приличный вид. Правда, теперь на них никто никогда не садится, потому что у них прямые спинки и нет ручек; а в наше время все сидят развалившись и так неспокойно, что никакой стул не выдержит. Она встала, чтобы убедиться, насколько прилично то, на чем она сидела, и наклонила стул вперед. Последний раз их обивали в год смерти Монти, 1913-й, перед самой войной. Право же, этот серо-зеленый шелк оказался на редкость прочным!
III
Возвращение
Ощущения Джона Форсайта, когда он после пяти с половиной лет отсутствия высадился в Ньюхэвене, куда прибыл с последним пароходом, были совсем особого порядка. Всю дорогу до Уонсдона, по холмам Сэссекса, он проехал на автомобиле в каком-то восторженном сне. Англия! Какие чудесные меловые холмы, какая чудесная зелень! Как будто и не уезжал отсюда. Деревни, неожиданно возникающие на поворотах, старые мосты, овцы, буковые рощи! И кукушка – в первый раз за шесть лет. В молодом человеке проснулся поэт, который последнее время что-то не подавал признаков жизни. Какая прелесть – родина! Энн влюбится в этот пейзаж! Во всем такая полная законченность. Когда прекратится генеральная стачка, она сможет приехать, и он ей все покажет. А пока пусть поживет в Париже с его матерью – и ей лучше, и он свободен взять любую работу, какая подвернется. Это место он помнит, и Чанктонбери-Ринг – там, на холме, – и свой путь пешком из Уординга. Очень хорошо помнит. Флер! Его шурин, Фрэнсис Уилмот, когда вернулся из Англии, много рассказывал о Флер: она стала очень современна и очаровательна, и у нее сын. Как сильно можно любить – и как бесследно это проходит! Если вспомнить, что он пережил в этих краях, даже странно, хотя и приятно, что ему всего-навсего хочется увидеть Холли и Вэла.
Он сообщил им о своем приезде только телеграммой из Дьеппа; но они, наверно, здесь из-за лошадей. Он с удовольствием посмотрит скаковые конюшни Вэла и, может быть, покатается верхом по холмам, прежде чем взяться за работу. Вот если бы с ним была Энн, они могли бы покататься вместе. И Джон вспомнил первую поездку верхом с Энн в лесах Южной Каролины, ту поездку, которая ни ей, ни ему не прошла даром. Вот и приехали. Милый старый дом! А вот в дверях и сама Холли. И при виде сестры, тоненькой и темноволосой, в лиловом платье, Джона как ножом резнуло воспоминание об отце, о том страшном дне, когда он мертвый лежал в старом кресле в Робин-Хилле. Папа – такой хороший, такой неизменно добрый!
– Джон! Как я рада тебя видеть!
Ее поцелуй и раньше всегда приходился ему в бровь, она ничуть не изменилась. В конце концов, сводная сестра лучше, чем настоящая. С настоящими сестрами нельзя не воевать, хоть немножко.
– Как жаль, что ты не смог привезти Энн и маму! Впрочем, может быть, оно и лучше, пока здесь все не обойдется. Ты все такой же, Джон, выглядишь совсем как англичанин, и рот у тебя как был – хороший и большой. Почему у американцев и у моряков такие маленькие рты?
– Наверно, из чувства долга. Как Вэл?
– О, Вэл молодцом! И улыбка у тебя не изменилась. Помнишь свою старую комнату?
– Еще бы. А ты как, Холли?
– Да ничего. Я стала писательницей, Джон.
– Это замечательно!
– Совсем нет. Тяжелая работа и никакого удовлетворения.
– Ну что ты!
– Первая книга вообще была мертворожденная. Вроде «Африканской фермы» – помнишь? – но без психологических финтифлюшек.
– Помню! Только я их всегда пропускал.
– Да, Джон, нелюбовь к финтифлюшкам у нас от папы. Он как-то сказал мне: «Мы скоро начнем называть всякую материю духом или всякий дух – материей, одно из двух».
– Ну, это вряд ли, – сказал Джон, – человек любит все разбивать на категории. О, да я помню всякую мелочь в этой комнате. Как лошади? Можно взглянуть на них сегодня, а завтра покататься?
– Завтра встанем пораньше, посмотрим, как их объезжают. У нас сейчас только три двухлетки, но одна подает большие надежды.
– Отлично! А потом я поеду в город и постараюсь получить какую-нибудь работку погрязнее. Хорошо бы кочегаром на паровоз. Меня всегда интересовало, какие мысли и чувства бывают у кочегаров.
– Поедем все вместе. Мы можем остановиться у матери Вэла. Как же я рада, что вижу тебя, Джон. Обед через полчаса.
Минут пять Джон постоял у окна. Фруктовый сад в полном цвету, насаженный не с такой математической точностью, как его только что проданные персиковые деревья в Северной Каролине, был так же прекрасен, как в тот давно минувший вечер, когда он гонялся по нему за Флер. Вот в чем прелесть Англии – здесь все естественно. Как они тосковали по родине, он и его мать! Теперь он больше не уедет. Какое дивное море яблоневого цвета! Опять кукушка! Из-за одного этого стоило вернуться на родину. Он подыщет участок и будет разводить фрукты, на Западе – в Вустершире или Сомерсете, а может быть, и здесь где-нибудь: в Уординге, помнится, разводят много маслин и еще чего-то. Он распаковал чемодан и стал одеваться. Вот тут, где он сидит сейчас, натягивая американские носки, сидел он в тот вечер, когда Флер показала ему свое платье с картины Гойи. Кто бы поверил тогда, что через шесть лет ему будет нужна Энн, а не Флер с ним рядом, на этой постели! Гонг к обеду! Он наскоро пригладил волосы, светлые и непокорные, поправил галстук и побежал вниз.
Взгляды Вэла на стачку, взгляды Вэла на все на свете – скептические и узкие, как его лицо лошадника! Теперь-то этим бездельникам-лейбористам достанется; придется им удирать, пока целы. Как понравились Джону янки? Видел он «Броненосец»? Нет? Боже правый! Самый интересный спектакль в Америке! Правда, что в Кентукки трава синяя? Только издали? А! Что они еще собираются там отменить? Правда, что где-то в южных штатах есть город, где сожительство разрешается только на глазах городской охраны? В Англии парламент хочет провести налог на игру на скачках; почему бы не ввести тотализатор и не покончить с этим вопросом? Ему-то, впрочем, все равно, он больше не играет. И он взглянул на Холли. Джон тоже взглянул на ее поднятые брови и полуоткрытые губы – прелестное лицо, такая в нем ирония и терпимость. Она ведет Вэла на шелковом поводу.
Вэл не унимался. Хорошо, что Джон разделался с Америкой; если ему обязательно нужно заниматься сельским хозяйством вне Англии, почему не поселиться в Южной Африке, под бедным старым английским флагом; хотя с голландцами еще не покончено! Ух и народ! Конечно, они живут там так давно, что стали настоящими поселенцами, не какие-нибудь авантюристы, неудачники, эмигранты на субсидии. Он их, негодяев, не любит, но народ крепкий, ничего не скажешь! Совсем остаться в Англии? И того лучше! Может, вместе будем разводить чистокровных скакунов?
Наступило неловкое молчание, потом Холли сказала лукаво:
– Джон находит, что это не очень-то почтенное занятие, Вэл.
– А почему?
– Излишняя роскошь.
– Чистокровные-то? А что без них станет с лошадьми?
– Очень соблазнительно, – сказал Джон, – я бы с удовольствием вошел в долю. Но в основном мне хочется заняться фруктами.
– Одобряю, сын мой. Можешь разводить яблоки, а мы будем лакомиться ими по воскресеньям.
– Видишь ли, Джон, – сказала Холли, – в Англии никто не верит в сельское хозяйство. Мы говорим о нем все больше, а делаем все меньше. Как по-твоему, Вэл, Джон изменился?
Кузены оглядели друг друга.
– Немножко возмужал; но ничего американского.
Холли проговорила задумчиво:
– Почему всегда сразу узнаешь американца?
– Почему всегда сразу узнаешь англичанина? – сказал Джон.
– В нем есть какая-то настороженность. А впрочем, нет ничего труднее, как определить национальный тип. Но американца ни с кем не спутаешь.
– Вряд ли ты приняла бы Энн за американку.
– Расскажи, какая она, Джон.
– Нет, подожди, сама увидишь.
После обеда, когда Вэл отправился в последний обход конюшен, Джон спросил:
– Ты видаешь Флер, Холли?
– Не видела года полтора, кажется. Мне очень нравится ее муж – золотой человек. Ты счастливо отделался, Джон: она не для тебя, хоть и очаровательна; уж очень всегда хочет быть в центре внимания. Да ты это, вероятно, знал.
Джон посмотрел на нее и не ответил.
– Впрочем, – тихо добавила Холли, – когда влюблен, мало что знаешь.
Вечером он сидел у себя в комнате; по дому бродили призраки. Точно собрались в нем все воспоминания: о Флер, о Робин-Хилле – любимые в детстве деревья, сигары отца, цветы и игра матери; детская с игрушками, где до него росла Холли, где позднее он мучился над рифмами; вид из окна на конюшни и башенку с часами.
В открытое окно его комнаты тянуло сладкими запахами – такими родными – с холмов, мерцающих в лунном полусвете. Первая ночь на родине за две с лишним тысячи ночей. С продажей Робин-Хилла у него не осталось в Англии дома, кроме этого. Но они с Энн устроят себе собственное гнездо. Родина! На английском пароходе он готов был расцеловать стюардов и горничных только за то, что они говорили с английским акцентом. Он слушал его как музыку. Для Энн теперь легче будет усвоить этот акцент, она очень восприимчива. Сам он американцев полюбил, но был рад, что Вэл не нашел в нем ничего американского. Прокричала сова. Какая тень падает от сарая, как знакомы ее мягкие очертания! Он лег в постель. Надо спать, если он намерен встать вовремя, чтобы посмотреть, как объезжают лошадей. Однажды ему уже случилось встать здесь очень рано, но с другой целью! Он скоро уснул и чей-то образ – не то Энн, не то Флер – проносился в его сновидениях.
IV
Сомс едет в Лондон
В среду, посадив жену на пароход в Дувре, Сомс Форсайт поехал на автомобиле в Лондон. По дороге он решил сделать порядочный крюк и въехать в город по Хэммерсмитскому мосту, самому западному из всех более или менее подходящих. Он всегда чувствовал, что в периоды рабочих волнений есть тесная связь между Ист-Эндом и всякими неприятностями. И, зная заранее, что, встреться ему грозная толпа пролетариев, никакие силы не заставят его отступить, он послушался другой стороны форсайтской натуры – решил предотвратить эту возможность. Таким-то образом случилось, что его автомобиль застрял на переезде у Хэммерсмитского вокзала – единственном месте, где в тот день произошли сколько-нибудь серьезные беспорядки. Собралось много людей, и они остановили движение, которого, по-видимому, не одобряли. Сомс наклонился вперед, чтобы сказать шоферу: «Лучше объехать, Ригз», потом откинулся на сиденье и стал ждать. День был погожий, машина «ландолет» открыта, он не мог не видеть, что «объехать» совершенно невозможно. И всегда этот Ригз где-нибудь застрянет! Сотни машин, набитых людьми, пытающимися выбраться из города; несколько почти пустых машин с людьми, пытающимися, как и он сам, пробраться мимо них в город; автобус, не то чтобы опрокинутый, но с выбитыми стеклами, загородивший половину дороги; и толпа людей с ничего не выражающими лицами, снующих взад и вперед перед горстью полисменов. Таковы были явления, с которыми, по мнению Сомса, власти могли бы справиться и получше.
До слуха его донеслись слова: «Вот буржуй проклятый!» И, оглянувшись, чтобы увидеть буржуя, о котором шла речь, он убедился, что это он сам. Несправедливые эпитеты! На нем скромное коричневое пальто и мягкая фетровая шляпа. У этого Ригза внешность как нельзя более пролетарская, а машина – самого обыкновенного синего цвета. Правда, он занимает ее один, а все другие полны народу; но как выйти из такого положения – неизвестно; разве что повезти с собой в Лондон людей, стремящихся уехать в обратном направлении. Поднять верх автомобиля было бы, конечно, слишком демонстративно, так что ничего не остается, как сидеть смирно и не обращать внимания. Сомс, от рождения усвоивший гримасу легкого презрения ко всей вселенной, был как нельзя более приспособлен для такого занятия. Он сидел, глядя на кончик собственного носа, а солнце светило ему в затылок, и толпа колыхалась взад-вперед вокруг полисменов. Насильственные действия, результатом которых явились выбитые окна автобуса, уже прекратились, и теперь люди вели себя вполне мирно, словно вышли поглазеть на принца Уэльского.
Всеми силами стараясь не раздражать толпу слишком явным вниманием, Сомс наблюдал. И пришел к заключению, что вид у людей равнодушный: ни в глазах, ни в жестах он не видел той напряженной деловитости, которая одна только и придает революционным выступлениям грозный характер. Почти все молодежь, чуть не у каждого к нижней губе приклеилась папироса, – так смотрит толпа на упавшую лошадь.
Люди теперь так и родятся, зеваками. И это неплохо. Кино, дешевые папиросы и футбольные матчи – пока они существуют, настоящей революции не будет. А всего этого, по-видимому, с каждым годом прибавляется. И он только было решил, что будущее не так уж мрачно, когда к нему в автомобиль просунулась голова какой-то молодой женщины.
– Не могли бы вы подвезти меня в город?
Сомс по привычке посмотрел на часы. Стрелки, показывавшие семь часов, мало чем помогли ему. Довольно нарядно одетая женщина, с чуть вульгарной манерой говорить и напудренным носом. И долго этот Ригз будет скалить зубы? А между тем в «Бритиш газет» он читал, что все так делают. Он ответил грубовато:
– Могу. Куда вам нужно попасть?
– О, хотя бы до Лестер-сквер добраться.
Этого еще недоставало!
Молодая женщина, казалось, почуяла его опасения.
– Видите ли, – сказала она, – мне надо еще поесть до спектакля.
Да она уже лезет в машину! Сомс чуть не вылез вон. Он сдержался, искоса оглядел ее; наверно, какая-нибудь актриса: молодая, лицо круглое и, конечно, накрашено, чуть курносая, глаза серые, слегка навыкате; рот… гм, красивый рот, немножко вульгарный. И, разумеется, стриженая.
– Вот спасибо вам!
– Не стоит, – сказал Сомс.
И машина тронулась.
– Вы думаете, это надолго – забастовка?
Сомс наклонился вперед.
– Поезжайте, Ригз, – сказал он, – этой даме нужно на… э-э… Ковентри-стрит, там остановитесь.
– Такая глупость вся эта история, – сказала дама. – Я бы ни за что не поспела вовремя. Вы видели наше обозрение «Такая милашка»?
– Нет.
– Очень, знаете ли, неплохо.
– Да?
– Впрочем, если это не кончится, придется закрывать лавочку.
– А…
Молодая женщина замолчала, сообразив, что ее спутник не отличается разговорчивостью.
Сомс переменил позу. Он так давно не разговаривал с посторонней молодой женщиной, что почти совсем забыл, как это делается. Поддерживать разговор ему не хотелось, а между тем он понимал, что она его гостья.
– Вам удобно? – неожиданно спросил он.
Она улыбнулась.
– Неужели нет? Машина чудесная!
– Мне она не нравится, – сказал Сомс.
Она раскрыла рот.
– Почему?
Сомс пожал плечами; он говорил, только чтобы сказать что-нибудь.
– По-моему, это даже интересно, правда? – сказала она. – «Держаться» вот так, как мы все сейчас.
Машина теперь шла полным ходом, и Сомс начал высчитывать, через сколько минут можно будет покончить с такими сопоставлениями.
Памятник Альберту, уже! Он почувствовал к нему своего рода нежность – такое счастливое неведение всего происходящего!
– Обязательно приходите посмотреть наше обозрение, – сказала дамочка.
Сомс собрался с духом и взглянул ей в лицо.
– Что вы там делаете? – спросил он.
– Пою и танцую.
– Вот как.
– У меня хорошая сцена в третьем акте, где мы все в ночных рубашонках.
Сомс чуть заметно улыбнулся.
– Таких, как Кэт Воген, теперь не увидишь, – сказал он.
– Кэт Воген? Кто она была?
– Кто была Кэт Воген? – повторил Сомс. – Самая блестящая балерина легкого жанра. В то время в танцах было изящество; это теперь вы только и знаете, что ногами дрыгать. Вы думаете, чем быстрее вы можете передвигать ноги, тем лучше танцуете. – И, сам смутившись своего выпада, который неминуемо должен был к чему-то привести, он отвел глаза.
– Вы не любите джаз? – осведомилась дамочка.
– Не люблю, – сказал Сомс.
– А знаете, я, пожалуй, тоже. Кроме того, он выходит из моды.
Угол Хайд-парка, уже! И скорость добрых двадцать миль!
– Ой-ой-ой! Посмотрите на грузовики: замечательно, правда?
Сомс проворчал что-то утвердительное. Дамочка стала без всякого стеснения пудрить нос и подмазывать губы. «Что, если меня кто-нибудь увидит?» – подумал Сомс. А может, кто и видит, он этого никогда не узнает. Поднимая высокий воротник пальто, он сказал:
– Сквозит в этих автомобилях! Подвезти вас к ресторану Скотта?
– Ой, нет, если можно – к Лайонсу: я еле-еле успею перекусить. В восемь надо быть на сцене. Большое вам спасибо. Теперь если бы кто еще отвез меня домой!
Она вдруг повела глазами и добавила:
– Не поймите превратно!
– Ну что вы, – сказал Сомс не без тонкости. – Вот вы и приехали. Стойте, Ригз!
Машина остановилась, и дамочка протянула Сомсу руку.
– Прощайте, и большое спасибо!
– Прощайте, – сказал Сомс.
Улыбаясь и кивая, она сошла на тротуар.
– Поезжайте, Ригз, да поживее. Саут-сквер.
Машина тронулась. Сомс не оглядывался; в сознании его, как пузырь на поверхности воды, возникла мысль: «В прежнее время всякая женщина, которая выглядит и говорит, как эта, дала бы мне свой адрес». А она не дала! Он не мог решить, знаменует это прогресс или нет.
Не застав дома ни Флер, ни Майкла, он не стал переодеваться к обеду, а прошел в детскую. Его внук, которому шел теперь третий год, еще не спал и сказал:
– Алло!
– Алло!
Сомс извлек игрушечную трещотку. Последовало пять минут сосредоточенного и упоенного молчания, по временам нарушаемого гортанным звуком трещотки. Потом внук улегся поудобнее, уставился синими глазами на Сомса и сказал:
– Алло!
– Алло! – ответил Сомс.
– Спать! – сказал внук.
– Спать! – сказал Сомс, пятясь к двери, и чуть не споткнулся о серебристую собачку.
На том разговор закончился, и Сомс пошел вниз. Флер предупредила по телефону, чтобы он не ждал их к обеду.
Он сел перед картиной Гойи. Трудно было бы утверждать, что Сомс помнил чартистское движение 1848 года, потому что он родился в 55-м; но он знал, что в то время его дядя Суизин состоял в добровольческой полиции. С тех пор не было более серьезных внутренних беспорядков, чем эта генеральная стачка; и за супом Сомс все глубже и глубже вдумывался в ее возможные последствия. Большевизм на пороге, вот в чем беда! И еще – недостаток гибкости английского мышления. Если уголь был когда-то прибыльной статьей – воображают, что он навсегда останется прибыльным. Политические лидеры, руководство тред-юнионов, печать не видят на два дюйма дальше своего носа! Им еще в августе надо было начать что-то делать, а что они сделали? Составили доклад, на который никто и смотреть не хочет.
– Белого вина, сэр, или бордо?
– Все равно, что есть начатого.
В восьмидесятых, даже в девяностых годах с его отцом от таких слов случился бы удар: пить бордо из начатой бутылки в его глазах почти равнялось безбожию. Очередной симптом вырождения идеалов!
– А вы, Кокер, что скажете о забастовке?
Лысый слуга наклонил бутылку сотерна.
– Неосновательно задумано, сэр, если уж вы меня спрашиваете.
– Почему вы так думаете?
– А было бы основательно, сэр, Хайд-парк был бы закрыт для публики.
Вилка Сомса с куском камбалы повисла в воздухе.
– Очень возможно, что вы правы, – сказал он одобрительно.
– Суетятся они много, но так – все впустую. Пособие – вот что умно придумали, сэр. Хлеба и цирков, как говорит мистер Монт.
– Ха! Вы видели эту столовую, которую они устроили?
– Нет, сэр. Кажется, нынче вечером туда придет морильщик. Говорят, тараканов там видимо-невидимо.
– Брр!
– Да, сэр, насекомое отвратительное.
Пообедав, Сомс закурил вторую из двух полагавшихся ему в день сигар и надел наушники радио. Он, пока мог, противился этому изобретению, но в такое время! «Говорит Лондон!» Да, а слушает вся Великобритания. Беспорядки в Глазго? Иначе и быть не может – там столько ирландцев! Требуются еще добровольцы в чрезвычайную полицию? Ну, их-то скоро будет достаточно. Нужно сказать этому Ригзу, чтобы записался. Вот и здесь без лакея вполне можно обойтись. Поезда! Поездов, по-видимому, пустили уже порядочно. Прослушав довольно внимательно речь министра внутренних дел, Сомс снял наушники и взял «Бритиш газет». Впервые за всю жизнь он уделил некоторое время чтению этого малопочтенного листка и надеялся, что первый раз будет и последним. Бумага и печать из рук вон плохи. Все же надо считать достижением, что ее вообще удалось выпустить. Подбираются к свободе печати! Не так-то это легко, как казалось этим людишкам. Попробовали – и вот результат: печать куда более решительно направленная против них, чем та, которую они прикрыли. Обожглись на этом деле! И без всякого толку, ведь влияние печати – устарелое понятие. Его убила война. Без доверия нет влияния. Что политические вожди, что печать, – если им нельзя верить, они вообще не идут в счет! Может быть, эту истину когда-нибудь откроют заново. А пока что газеты – те же коктейли, только возбуждают аппетит и нервы. Как хочется спать. Хоть бы Флер не слишком поздно вернулась домой. Безумная затея – эта стачка! Из-за нее все взялись за совершенно непривычные дела, да еще в такой момент, когда промышленность только-только начинает – или делает вид, что начинает, – оживать. Но что поделаешь! В наше время становится год от года труднее придерживаться плана. Всегда что-нибудь помешает. Весь мир как будто живет со дня на день, и притом такими темпами! Сомс откинулся на спинку испанского стула, заслонил глаза от света, и сон волной подступил к его сознанию. Стачка стачкой, а волны перекатывались через него мягко, неотвратимо.