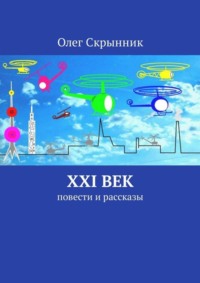
XXI век. Повести и рассказы
Тот поворачивает к себе обложку, читает название и в свою очередь восклицает:
– Да ещё по такому вопросу! Слушай, Самвелович, надо взять!
– А кандидатские у вас сданы? – оборачивается ко мне будущий шеф.
Я роюсь в сумочке как будто в поисках носового платка.
– Понятно, – говорит он. – Что ж, придётся всё успевать. И реферат мне к осени будет нужен вот на эту тему.
Он роется в кипе бумаг на приставном столике и выуживает оттуда объёмистую статью, написанную на языке, в котором знакомыми мне представляются только буквы.
– Венгерский, – говорит он, видя моё недоумение. – Обратишься в бюро технического перевода. А сейчас просто посмотри картинки.
Пока я занята разглядыванием статьи, он заканчивает разговор со своим собеседником.
– Ну, что же, Леонид Валерьянович. Через два месяца жду тебя с восьмой главой. Издательство уже включило нашу книгу в план, так что назад пути нет. Когда у тебя самолёт?
Он выбирается из-за стола, и оба ненадолго выходят из кабинета. Этого времени мне хватает, чтобы расстегнуть верхнюю пуговку на блузке. Теперь в определённой позе будет как бы случайно виден краешек моей шикарной добычи из «Лейпцига».
Этот краешек производит на впечатлительного Кащероносцева такое воздействие, что всё остальное ему загорается увидеть немедленно. Это нетерпение маститого учёного, престижного лауреата и автора ряда монографий, очень льстит, и я позволяю себе пребывать в ритуальном смущении не более двадцати секунд, по истечении которых тут же оказываюсь в лауреатовской «Волге». Краткая поездка по Москве, великолепный ужин в «Будапеште» – и вот мы уже потягиваем красное вино, нежась в огромной сверкающей ванне, установленной в его квартире. Он разглядывает меня во все глаза, в которых я вижу неподдельное восхищение и прямо-таки мальчишеский блеск. Возношусь в небеса и наслаждаюсь возникшим при этом лёгким кружением головы.
В массивную дверь ванной стучат, и слышится голос – низкий, но женский:
– Василий!
Душа уходит в пятки, но он берёт меня за неё и, легонько сжимая, громко интересуется:
– Что тебе, Роза?
В дверь протискивается пожилая женщина в замурзанном шёлковом халате и с потухшей папиросой между коричневыми пальцами.
– Нигде не могу найти справочник Корнов. Куда ты его задевал?
– Посмотри в правой тумбе стола, – говорит он, продолжая гладить мои щиколотки. – И закрой скорее дверь: холодом тянет.
– Что за привычка засовывать в свой стол общую литературу! – ворчит Роза и уходит, плотно закрыв за собою дверь.
– Моя жена, – отвечает он моему взъерошенному взгляду. – Не бойся, она не будет нас травить или резать кухонным ножом. Она смирная.
Он вылезает из ванны и, наклонившись, подхватывает меня на руки. Вода хлещет с нас прямо на кафельный пол. Струится на паркет. Капает на ковёр. Когда это меня так носили в последний раз? Только в детстве. Папа. Мой бедный папочка…
Постель у него очень дорогая, с красивой узорной каймой (столица!) Но при этом могла бы быть и поопрятнее. Мягкий свет ночника не раздражает глаз. Он продолжает разглядывать и будоражить меня, и я то там, то тут чувствую непривычные прикосновения сплошь устланного волосами тела. То, ради чего всё затевалось, происходит только утром, когда уже не остаётся никакого терпения, и я, не в силах сдерживаться, оглашаю комнату таким истерическим криком, от которого самой становится страшно.
– Ты самый необычный мужчина в моей жизни, – говорю я, целуя его в седую щетину, и на этот раз почти не вру.
– Роза! Ты будешь пить кофе? – кричит он и просительно смотрит на меня.
Накидываю попавшийся под руку дежурный халат и отправляюсь на кухню. Роза сидит за большим круглым столом. Она уже одета в какой-то безнадёжно мрачный, свисающий с неё наподобие лохмотьев, костюм и читает статью, кажется, на английском языке.
– Всё-таки этот Дженкинсон придаёт чересчур большое значение своему фактору «дельта», – бормочет она – Вчера я проанализировала…
Она поднимает глаза и, увидев, что это всего лишь я, умолкает на полуслове, вновь уткнувши свой крючковатый нос в бумагу.
После кофе с гренками Василий сажает нас в машину и везёт в институт. Мы подъезжаем к зданию как раз в тот момент, когда в его стеклянные двери вливается мощный поток самых дисциплинированных сотрудников. Василий Самвелович раскланивается практически с каждым, не переставая при этом придерживать меня за локоть. Я вспоминаю прислушивающегося к малейшему шороху в моём подъезде Николая, остальную отчаянно трусящую на людях мужскую братию, и наполняюсь небывалым уважением как к ведущему меня мужчине, так и к себе самой.
Широковатая в талии смуглолицая Сильвия шлёпает что-то на машинке, поводя густыми чёрными бровями.
– Через двадцать минут зайди ко мне с той текстовкой, – командует он ей, раскрывая передо мной дверь кабинета.
– Ха-арашо! – отвечает она, тряхнув головой, в которую воткнута какая-то невообразимая блестяшка.
Он жестом указывает мне на стул, достаёт из стеклянного шкафа толстую жёлтую брошюру и кладёт передо мной.
– Анализ всех последних трудов по твоей теме. Я сделал это в прошлом году для защиты темплана лаборатории. Если с умом переписать, из этого получится и реферат, и почти вся первая глава. Пользуйся!
Пока я листаю, он поднимает трубку внутреннего телефона.
– Алло. Бюро перевода? Вчера к вам приходил от меня… Девушка. Что? К обеду?
Он вопросительно смотрит на меня. Я машу рукой, соглашаясь.
– Ха-арашо! – говорит он в трубку и оборачивается ко мне.
– Вот тебе три рубля. Купишь шоколадку переводчице. И перед обедом заберёшь статью вместе с переводом. Статью сюда, а перевод – тебе. Штудируй. И осенью жду тебя здесь готовой к вступительным экзаменам.
Я пытаюсь продвинуть обратно выложенный на стол трояк, но он вкладывает его в мою руку и задерживает всё это в своих больших и тёплых ладонях.
– Бери, не модничай. Лучше поцелуй меня на прощание.
Я нагибаюсь и тону в его широкой натуре.
Продавщица привокзального «Гастронома» пожалела меня и отпустила, вопреки всем правилам столичной торговли, целых два батона колбасы. А я, не приученная к тому, чтобы бережно относиться к собственной персоне, натащила в ячейки камеры хранения ещё всякой всячины ровно столько, чтобы кое-как доплестись со всем этим до своего вагона (не прибегая к помощи носильщика!) и замертво грохнуться там на полку.
Москва представляет из себя всесоюзный склад товаров первой необходимости. Всё, что производится в стране и за её пределами, для чего-то свозится именно сюда. Думаю, что для удобства учёта: ведь любое добро гораздо легче пересчитать и занести в реестры, когда оно свалено в одну кучу, а не разбросано, словно мусор, по всей стране. В конечном счёте это удобно и для народонаселения. Когда в домохозяйстве выявляется потребность в чём-нибудь – от апельсинов до игл для швейной машинки – жителю необходимо лишь позаботиться о билете до столицы вместо того, чтобы мотаться вслепую по необъятным просторам Родины.
Когда утром я разула глаза, оказалось, что в купе кроме меня едут трое плохо вымытых мелких мальчишек и дородная мамаша в цветном халате, косынке и шароварах, периодически подкармливающая огромной захватанной грудью четвёртого. Мальчишки в количестве трёх беспрерывно перескакивали с полки на полку, стимулируя меня острыми пятками и возбуждая огромную радость от сознания того, что их голенький братишка покамест не в состоянии к ним присоединиться. Зато он в силу своего нежного возраста имел право не выходя из купе проделывать кое-что другое и широко этим правом пользовался. Спустив ноги, я нашарила ими вместо своих шлёпанцев чужие картонные коробки. Не желая беспокоить соседей расспросами, я кое-как встала коленями на потёртый железнодорожный коврик и продолжила поиски уже с помощью рук. Шесть блестящих чёрных глаз с верхних полок внимательно наблюдали за моими упражнениями, то ли недоумевая, чего этой русской тётке не лежалось на полке, а понадобилось лезть под неё, то ли присматривая за своими коробками на предмет того, чтобы она не стянула оттуда что-нибудь ценное.
Найдя шлёпанцы в разных углах купе и сформировав из них пару, я вышла в тамбур. И там, докуривая натощак вторую сигарету, с тоской поняла, что остаток пути мне скорее всего предстоит провести здесь, между немытых стёкол, перед которыми болтаются переполненные окурками старые консервные банки. Вошедший солдатик в кителе и чёрном трико попросил у меня огня, думая, что я не увидела, как он поспешно спрятал свою зажигалку. Подав ему свою, отгородилась не только веком, но и затылком, усердно ловя взглядом пробегающие снаружи опоры контактной сети. Он всё понял и, сдержанно поблагодарив, занял наблюдательный пост у противоположной двери.
Поезд стал снижать скорость. Звеня тормозами, он проследовал небольшой гремучий мостик. Мачту радиорелейной связи. Здание, показавшееся чем-то очень знакомым. Станция… Боже мой, станция Купа!
– Стоянка поезда две минуты! – предупреждает проводница.
Запах елей, который не в силах побороть даже станционная гарь. Выкрашенный в землистый цвет киоск. Полная дама в красной фуражке на отдалении. Лента шоссе, лёгким изгибом взлетающая на возвышенность и теряющаяся там, с пробегающими по ней КрАЗами и КамАЗами, – дорога на Нефтекупино. Господи, как давно всё это было!..
– Отправляемся! – кричит проводница.
Задираю ногу до последней возможности. Какая высокая ступенька! Не оставить бы тут шлёпанец.
Неужели поезд и вправду стоял всего две минуты?
– Здравствуйте, Любовь Сергеевна! Поздравьте меня.
Эта улыбка ему очень к лицу. Но с ней он выглядит ещё моложе. Совсем мальчишка!
– С удовольствием поздравляю тебя, Дима. И поздравила бы ещё сердечнее, если бы знать, с чем.
– Как это «с чем»? С окончанием института.
– Какого института? – опешила я.
– Нашего института.
– Вот как? А я полагала, что это случится только на будущий год.
– А я поспешил. Чего тянуть! И так за плечами уже и работа, и армия… «А годы проходят. Всё лучшие годы!»
– Молоде-ец. Не ожидала.
Этого я действительно ожидала от него меньше всего.
– Просто взял себе за правило в каждую сессию сдавать что-нибудь лишнее. И вот, пожалуйста. Пока вы где-то там ездили, сдал, что ещё оставалось, и даже защитил диплом. Между прочим, на «отлично».
– А сейчас к дядюшке на приём? И, небось, с благодарственной речью?
Киваю на тяжёлую дверь с табличкой «Проректор по научной работе д.т.н, проф. Шувалов Алексей Петрович», возле которой мы, собственно, и столкнулись. Он пытается положить руку на моё плечо, но я отстраняюсь и машинально озираюсь по сторонам. По счастью, коридор в это мгновение оказывается пустым.
– Никого нет, – говорит он изменившимся голосом. – Время каникул и отпусков.
Он делает ещё одну неудачную попытку привлечь меня к себе. Я смотрю на него укоризненно, чувствуя, что краснею.
– Чего мы боимся? Вы не замужем, я не женат. И я уже не ваш студент.
Чего я боюсь? Эх, парень. Да именно того, что мешает тебе до сих пор перейти на «ты».
Он глубоко вздыхает и продолжает уже другим тоном.
– Решил, по вашему примеру, заняться наукой. Вот, хочу попросить дядьку, чтобы он договорился насчёт сдачи кандидатских где-нибудь… Словом, где можно. Вас этот вопрос интересует?
Я задумываюсь над неожиданно открывшейся возможностью, и он, воспользовавшись этим, всё-таки дотрагивается до моего голого плеча.
– Подождите меня здесь. Я мигом!
Клубы мурашек, сплетаясь со сладким дымом надежд и заманчивых перспектив, зудят во мне, и за этим зудом всё слабее слышатся исчезающе далёкие позывные внешнего мира со всеми его делами, хлопотами, доводами здравого смысла и жизненными расчётами.
– Он просит, чтобы вы зашли.
Он просит, чтобы я зашла. Он о-чень-про-сит-что-бы… Он-хо-чет-что-бы-я… Здравствуйте, Алексей Петрович. Ой, что вы! Спасибо. Мне очень приятно! Я и не думала, что вы заметите мой скромный вклад в это большое коллективное дело. Азимов хвалил? Он очень добр ко мне. Как и вы…
– Я договорился насчёт сдачи аспирантских экзаменов для двух наших сотрудников. В Челябинске. Вас это устраивает?
Мы оба помолчали. Он – выжидая, пока до меня дойдёт смысл сказанного, я – пока он поймёт, что этот смысл до меня уже дошёл.
Наконец он по-настоящему поднял на меня свои глаза.
– Вы, конечно, знаете, что Духовицкий – мой родственник.
И, не дожидаясь никаких подтверждений с моей стороны, без малейшей паузы продолжил:
– Хороший мальчик. Умный. И даже талантливый.
Что ж. Говорите, Алексей Петрович. Я, собственно, знаю всё, что вы мне сейчас скажете. Но вы всё равно говорите, не обращайте на меня внимания.
– Он бы уже давно закончил институт, если бы…
Шувалов потеребил в руках министерский телефонный справочник. Поискал для него на столе более удобное место и, не найдя, бросил на прежнее.
– Словом, парень видный. Молодой, горячий. Увлекающийся.
Я слепила из своей физиономии лицо сфинкса. Я не изменила бы этого выражения даже если мне, как сфинксу, снесли бы сейчас полморды.
– Короче, у меня к вам будет большая просьба, – выдохнул он наконец самое главное. – Вы присмотрите за ним там, в Челябинске. Чтобы он какой-нибудь фортель ещё не отбросил. А то ведь, знаете!.. На вид-то большой, а в жизненных делах ещё балбес балбесом. Родители за него волнуются. Они у него…
Только не надо смотреть на меня вот так, «со значением». Знаю я прекрасно, кто у него родители!
– В общем, Люд… О, Любовь Сергеевна! Я вас лично очень… Очень прошу. Присмотрите за ним как… Ну, по-матерински, что ли. Вы меня поняли? Мы с ним только что говорили. Он вас как педагога очень уважает. Вы для него большой авторитет!
Он жмёт мне руку у выхода. Крепко, «по-товарищески».
Ох, Алексей Петрович. Вы и представить себе не можете, как я вам благодарна за доверие.
– И о чём же вы там беседовали с моим дядькой? – как бы в шутку поинтересовался Дима, когда мы уже мчали по загородному шоссе.
– О тебе, конечно, – не задумываясь ответила я.
– Правда?
Почувствовалось некоторое напряжение.
– Он тебя очень хвалил. Говорил, что из тебя вырос настоящий мужчина. Толковый, не по годам развитый. А особенно – сведущий в жизненных вопросах. Сказал, чтобы я не стеснялась обращаться к тебе за помощью. Что ты в состоянии, если нужно, даже помочь ценным советом.
– Надо же! – проговорил он с видимой иронией, но за версту было видно, что услышанное ему очень понравилось.
Знакомая дача встретила нас тишиной и прохладой. В огромном ушате плавали листья, сновали водомерки и отражались высоченные облака. Когда мы вдоволь насиделись в его ласковой воде, и мой юный красавец, выйдя наружу, галантно подал мне руку, я приподнялась и обеими своими обхватила его за шею. На мгновение опешив от неожиданности, он мужественно подхватил меня и понёс, осторожно ступая по тёплым от солнца доскам крыльца. Да, мой дорогой. Теперь тебе придётся делать это. Но я буду честно стараться, чтобы было не очень тяжело.
Он не оставляет без внимания ни одного квадратика. Может быть, правда любит? Ого! Что ты делаешь? Я не смогу ответить тебе тем же…
– Тебе не понравилось?
Ну, что ты, малыш. Разве это может не понравиться.
– Давай будем готовиться к экзамену вместе.
– А ты уверен, что у нас получится?
В столичных столовых тоже бывают рыбные дни. Вероятно, их устраивают для того, чтобы такие как мы чувствовали себя здесь как дома. Но сегодня рыба пахнет как-то по-особенному отвратительно. Когда мы с ней доходим до кассы, я уже готова выпустить её обратно в мировой океан. Только усвоенная ещё в детстве дурная привычка обедать заставляет меня дойти до стола и вонзить ей в бок скользкую алюминиевую вилку. Но после этого приходится нести её уже в себе. И я точно знаю, что до мирового океана мы с ней теперь не дотянем.
В туалете меня обступили сочувствующие женщины.
– Надо же, какую гадость они тут готовят!
– Отравилась, бедняжка.
– Они нас всех отравят.
– Совсем обнаглели!
– Вы, девушка, обязательно напишите на них жалобу!
Конечно, напишу. Вот только расплачусь с соседкой по комнате за слопанные вчера без её ведома две селёдки, которые она собиралась загнать «под шубу», – и сразу же накатаю. Нашла, когда извлекать спираль, дура! Совсем размякла, все мозги повыпустила. Забыла, как это бывает? Забыла всё на свете!
А может быть, это и есть мой случай?
Как бы то ни было, он имеет право знать.
– Почему ты не позвонила? Я бы встретил тебя в порту.
– Да встретишь ещё. Какие наши годы.
Какое там «позвонила»! Я и сама-то не понимала, что лечу. Вот бы так: закрыть глаза, а утром – глядь! – и ничего нет. Рассосалось.
– Ты прилетела одна?
Усмехаюсь про себя: «Пока одна».
– Чего молчишь? Я имею в виду: без Мишутки?
– Мишутку уж три недели как отправила. Нечего прохлаждаться, учиться надо.
Он сел на кровати.
– С тобой что-то происходит. Неужели…
Ну, давай же! До отгадки всего один шаг.
– Неужели кто-то всё-таки выболтал тебе…
Он бьёт себя кулаком по коленке.
– Это я во всём виноват. Я должен был сам… Сам, давно всё это тебе рассказать!
Господи! А ты-то ещё чего должен был мне рассказать?
– Короче, у меня была раньше одна… История.
Он то ли вздохнул, то ли всхлипнул.
– Влюбился как мальчишка. Да я и был тогда мальчишка. Всего лишь на первом курсе, ещё восемнадцати не было. Она в булочной возле нас работала продавщицей. Я туда каждое утро за хлебом бегал. А у неё халатик такой… В общем, наповал. Жениться хотел! Старики, естественно, ни в какую. Я институт бросаю, и мы вместе рвём когти в её город. Меня, конечно, по малолетству в путёвые места не берут, так что ошиваюсь я на товарной станции, вагоны разгружаю. Силой господь не обидел, а паспорт там не спрашивали.
Ну, что ж. Живём мы, значит, так какое-то время. Живём душа в душу. Вдруг – откуда ни возьмись! – приезжает дядька. Разыскал! И новость привёз: мамка, мол, в больнице с сердцем. Из-за меня слегла. Что тут поделаешь! Я с ним в машину сажусь, невесту чмокнул – жди, мол, – и домой. Маманя, и правда, в больнице. Просит пожить дома, пока она не оклемается. Живу неделю, другую. День рождения мой подходит. Совершеннолетие! Маманя ради такого случая попросила, чтобы её пораньше из больницы выписали. Да ещё, по её словам, насилу врача уговорила! Но всё-таки отпустили. Устроили они мне, конечно, грандиозный праздник. Батя мотоцикл подарил, о котором я давно мечтал. Ну, и вообще…
Короче, отпраздновали, а через пару дней – хлоп! – повестка из военкомата. И меня без всякого промедления гребут по полной программе и шлют, где Макар телят не пас, – аж под Владивосток. Думаю, что без бати тут не обошлось. Но как докажешь! До сих пор это место в моих с предками отношениях тёмным остаётся.
Но дело не в этом.
Служу я, стало быть, в армии, по невесте тоскую, и вдруг получаю письмо. От неё. Прости, мол, дорогой, это была ошибка. Полюбила я теперь по-настоящему, мужчину взрослого, обеспеченного, и выхожу за него замуж. Прочитал я это – и с ходу через забор. Чтоб, значит, лично убедиться… Или как бы это сказать… Короче: когда огнём или кипятком обожжёшься – обычно сразу дёргаться начинаешь. Пляски там всякие устраивать. Не думаешь ведь в этот момент, что никакого толку от плясок этих, собственно, нет и быть не может. Ну, вот и со мной что-то такое случилось, наподобие этих «плясок». Но куда там! Только до Лесозаводска и добрался – сцапали. Могут, гады, когда захотят! Мне, значит, за это дело дисбат ярким светом светит, а может быть, и тюряга. Приехал отец, с командованием части, с прочими разными чинами якшался, – отмазал как-то там, сумел. Но меня после этого на пароходик – и к чёрту на рога. Чукотка. Мыс Шмидта. Ты, небось, о таком и не слыхала?
– Что?
– Да ладно, проехали, – махнул он. – Служу, значит, я там, откуда уже никак не рвануть. И дёргаться-то не стоит. Отслужил, еду на дембиль – чтобы домой? – Так нет. Сразу к ней. Приезжаю, смотрю – правда, не обманула. Муж такой… Какой-то местный начальничек. Ребятёнок. Квартира. Короче, со мной и говорить не захотела. Покрутился-покрутился я – да и поехал домой. На работу устроился, по второму разу поступать готовлюсь – на первый-то курс восстановиться нельзя – и вдруг узнаю, что ребятёночек-то… Тот, которого я у девки-то своей видел. Что он – мой. Представляешь? Тётка, жена дядькина, проболталась.. И между прочим добавила, что мои благородные родители договорились, что любовь моя не будет на меня претендовать, а они за это будут ей платить алименты. До совершеннолетия ребёнка! Вот такие дела. Так что малыш мой у моих стариков сейчас на иждивении.
Он посмотрел мне в лицо, чтобы увидеть мою реакцию, но я вовремя прикрыла глаза.
– Сначала я на стариков обиделся за то, что они так вот чувство моё за деньги купили. Даже из дома уйти хотел. А потом и подумал: хорошо. Они купили. Но есть ведь и те, кто продал. Если бы она не продала, то и они бы не купили. А раз так, то куда мне бежать. К кому? Вот так подумал – и… Остался. Иной раз думаю про себя, что подлец я такой, ребёнка бросил. А потом думается: мать-то его мне ничего до сего дня ведь не сказала. Если бы не тётка-дура – я бы и знать ничего не знал. Значит, никого я фактически и не бросил. Пусть старики его содержат, если вызвались. А я вот защищусь, начну работать. А там посмотрю – может быть, и приму от них эстафету. А может быть, и нет. Конкретно не думал ещё. В конце концов ведь не я, а они за моей спиной всё это проделали. Вот пусть и несут свой крест на Голгофу.
Он вздохнул, как мне показалось, с облегчением.
– Ну, вот. Теперь ты всё про меня знаешь.
Похоже, что ты прав, малыш. Теперь я знаю про тебя даже больше, чем ты сам.
– Ничего не хочу знать. Достаточно разговоров! Ты так и не понял, для чего я летела сюда? Люби же меня, наконец! Скорее. Иначе я умру от нетерпения, и один лишь ты будешь в этом виноват.
– Так ты… Прилетела только за этим? – восклицает он, не веря своему счастью.
– А тебе этого мало?! Ах ты, дрянной мальчишка! Я бросаю все свои дела, гонимая жаждой любви мчусь к нему на крыльях, а он вместо того, чтобы осчастливить бедную женщину, оскорбляет её своим бездействием… О, да. Да! Да!!
Ибо сказано: кто умножает знание, тот умножает скорбь.
За окном палаты мокрый снег на фоне свинцового неба. Он грязно-белого цвета, но иногда приобретает зеленоватый оттенок. Это значит, что перед глазами опять плывут зеленоватые круги. Тогда я зажмуриваюсь, и становится страшно. Вернее: становится страшно, и я зажмуриваюсь. А ещё вернее: страшно мне всё время, беспрерывно, с самого начала. Соседки говорят, что нет практически ни одной женщины, которая не прошла через это хотя бы один раз. Вон, Маруся, которая лежит у двери, смеётся, что ходит сюда регулярно, как в парикмахерскую. Врут. Им всем страшно. Но мне страшнее всех. И не только потому, что я тут впервые. Дело в том, что про них знают. Мужья, любовники. Наконец, матери, соседи, подруги или сослуживцы. И оттого, что знают, они как бы присутствуют здесь, рядом с этими женщинами, и разделяют их страх, отчего на их души приходится уже меньше.
Про меня не знает никто – значит, я тут совсем одна. Дима лично отвёз меня на вокзал, и мы прощались, сидя на моей полке, до самого отправления поезда. Вряд ли он мог знать, что я сошла на пригородной платформе и вернулась оттуда на автобусе. Что же касается мамы, то она пока вообще не в курсе, что я в городе.
Всё уже позади, но страх так и не отпускает. Скорее наоборот: он то и дело переживается заново, и с каждым разом всё острее. В который раз, закрыв глаза, я погружаюсь в этот чёрный туннель с алой точкой посредине. Точка растёт, превращаясь вначале в нестерпимо яркий диск, а затем заливая всё поле зрения. В этом бескрайнем море красного шевелятся какие-то бесформенные тени, и их шевеление порождает ужас, спастись от которого пытаюсь, широко раскрыв глаза. Но когда я их открываю, я вижу безразличный ко мне серый пейзаж перед собой и ощущаю тупую боль и тягостную пустоту внутри себя.
– Мама, здравствуй. Мама, ты мне не рада?
– Рада, – вздыхает она. – Есть будешь?
– Я бы полежала.
Я не уверена, что сказала это вслух.
Мама отстранила меня и разложила диван собственноручно.
– Нечего. Ты ещё не окрепла.
Она укрыла меня своим пуховым платком.
– Что это значит? – сделала я слабенькую попытку удержать последнюю позицию.
– А что это ещё может значить! – она едва заметно улыбнулась. – «В Сочи на три ночи».
Я бы поразилась, если бы не была так слаба.
– Ну, мама, ты даёшь… Откуда?
– Какое там «даёшь»! – машет она рукой. – От тебя же за версту разит этой больницей.