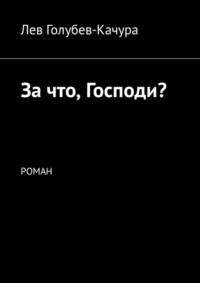
За что, Господи? Роман
Весь мир для него делился на своих ребят и маменькиных сынков – чистеньких, наглаженных и накормленных. Считалось большой честью отобрать у «маменькиного сынка» домашний пирожок или булочку, а если, вывернув у него карманы находили деньги, то и деньги, выдаваемые родителями ему на обед. А, если…, а если быть до конца честным, подумал Кирилл и вздохнул, то они где-то в глубине своей пацанячьей души просто завидовали этим чистеньким, хорошо одетым домашним ребятам.
У этих ребят было всё, чего не было в детдоме – папа, мама, коньки, санки, абрикосы, арбузы, школьная форма, и даже фуражки с красивой кокардой, а у некоторых велосипеды и даже… собаки. А в детдоме всего этого не было, и в ближайшем будущем не предвиделось. Значит, чтобы это заиметь нужно было или отобрать что-то у маменькиного холёного сынка, или украсть!
Как сейчас помню, тянулась дальше мысль Кирилла, мне так хотелось покататься на настоящих коньках, а не на самодельных деревяшках с проволокой, но где их взять? Настоящие железные коньки тогда у меня даже перед глазами стояли. Такие, с загнутыми носами, блестящими лезвиями и креплениями из свиной кожи. Их…, их, если я не запамятовал, «Снегурками» называли. И ещё мне нравились эти…, как их…, нуу, пацаны называли их, то ли «ледянки», то ли ещё как-то… В общем – остроносые такие. Я бы за них даже свой самодельный ножик – гордость детдомовца – отдал!
Такие коньки были, но не у меня, а у двух братьев, живущих не так далеко от нашего детского дома, совсем рядом, метрах в ста-ста пятидесяти вниз по переулку.
И однажды я решился! Решился отобрать у них коньки! Их блестящие, хромированные коньки, сам, в одиночку, чтобы владеть ими одному, без-раз-дель-но!
Выследив, когда они выйдут на улицу покататься-покрасоваться, я подбежал к ним и, вытащив ножик из кармана, приказал: «А ну, снимай коньки! Быстро!»
Старший брат, я видел это по его глазам, на какое-то мгновение растерялся и, наверное, отдал бы коньки, а вот младший (я даже не ожидал такой прыти от него) неожиданно ударил меня коньком прямо по ноге.
Адская боль пронзила меня и я, со слезами на глазах, упал на колени, а они убежали домой.
Это была моя первая, и последняя, в жизни попытка грабежа средь бела дня. Не знаю почему, но я больше их не выслеживал и не трогал. Та, так плачевно закончившаяся для меня встреча с ними, отрезвила меня что ли, сняла с глаз пелену зависти. Не знаю, честно говорю, не знаю! Объяснения у меня и сейчас нет, почему я перестал отбирать вещи у других, более слабых и незащищённых.
А вот в ночных налётах на соседские сады я участвовал. Ещё как участвовал.
Как только фрукты или овощи начинали поспевать в садах и огородах я, собрав ватагу из десяти-пятнадцати мальчишек и девчонок (да, девчонки тоже иногда участвовали в наших набегах), ночной порой налетал на приглянувшийся мне сад-огород.
Мы, всем скопом, опустошали его, выдирали с корнем, ломали и крушили всё, что попадалось нам на глаза. Мы набивали животы ворованными абрикосами, вишней, яблоками, морковью, огурцами, помидорами, так, что они трещали от переизбытка пищи.
И опять же не пойму, по какой такой причине я не делал налётов на сад двух братьев, хотя абрикосы в их саду, между прочим, были то, что надо – крупные и, наверное, очень сладкие, а на грядках росла всякая всячина.
Можно было подумать, что на их сад-огород кто-то наложил табу для меня…
Кирилл, вспомнив свою жизнь в детдоме, даже усмехнулся. К чему бы эти воспоминания, дёрнув плечом, подумал он? Не иначе, как расслабился, вот и потянуло на далёкие, полуголодные детдомовские воспоминания.
…Это ж надо, какие горы пришлось преодолеть, чтобы школу без троек закончить, сколько труда вложить. Одним словом – детдомовский! Ни от кого помощи, ни от кого доброго слова. Но ничего, выдержал, не сломался. По кривой дорожке, как некоторые мои одногодки, не пошёл.
А когда в институт поступал, сколько нервов потрепал. Вы только подумайте люди добрые – сдать экзамены, набрать на два балла больше, чем количество проходных и, не увидеть себя в «списках» зачисленных в студенты. Считай, целый месяц, тридцать дней, пришлось обивать пороги деканата и ректора. Упёрлись – «Вы не сдали письменную работу – сочинение, по русскому языку и литературе». Нет, каково, а? В конце-концов пришлось пригрозить – если не найдёте моё сочинение, иду в прокуратуру, а затем подаю в суд.
И-и… что вы думаете? На второй день сам декан нашёл моё сочинение в архиве, а ещё через полчаса мне выдали студенческий билет…
* * *
– Кирилл, держи! – прервав воспоминания, подал ему полупустую бутылку с дешёвеньким вином, напарник, с которым он вот уже считай три года работал здесь, на этом чёртовом рынке. Работал в «высокой» должности – принеси-подай!
…Выпей, мне для друга не жалко, добавил он, примостившись рядом на мешки с картошкой, капустой и редькой.
Кирилл, ни слова не говоря, приложился к бутылке и забулькал горлом, вливая в себя дрянное, дешёвое винцо. Не выпитый остаток он протянул напарнику.
– Что-то я, Стёпа, сегодня не в норме. Что-то душа томится, и мысли разные в голову лезут. Может детишек давно не видал, а? Господи, как они там?
– Ты про кого говоришь-то? Про Светку, что ли? Так сам говорил – замуж она недавно вышла за очень хорошего и богатого человека.
– Говорить-то, говорил. Да сам-то не видел… Пропил я свадьбу-то дочери.
– Ну, так чего? Возьми и съезди. Тут же всего ничего. Подумаешь, каких-то двести километров. Можно… сегодня туда – завтра обратно. Я тут как-нибудь без тебя эти дни… один поработаю. Ничего, справлюсь, я жилистый…
– Хороший, нет, замечательный ты у меня друг, Стёпа. Душевный…
– Да чего там…
Они сидели и молчали, думая каждый о своём. Сделали ещё по глотку из уже почти пустой бутылки, и Степан, что-то буркнув себе под нос, поднялся.
– Пошли к Ваське-буржую, и подал Кириллу руку. – Отпросишься на два дня по семейным обстоятельствам. Попроси у него заработок за неделю. Даст, не обеднеет, добавил он. Не даст – у старой грымзы попросим.
Хозяин недовольно скривился, услышав просьбу Кирилла. Но после поддержки того Степаном, и его согласием поработать за двоих, с грехом пополам согласился, посетовав напоследок на свою доброту, и умением некоторых несознательных и ленивых, вить из него верёвки.
И он бы ещё долго изощрялся в «красноречии», если бы Степан не увёл Кирилла, потянув его за руку.
– Ишь, боров ненасытный, разжирел на чужом труду, – ворчал он, таща за собой Кирилла. Эксплуататор! Капиталист! Какой он предприниматель, продолжал он возмущённо? Обыкновенный махровый спекулянт! Купил дешевле – продал дороже… «Казённый дом» по нему, живоглоту, давно плачет. Ждёт, не дождётся…
– Ладно, Стёпа, угомонись. Не трепи нервы! Плетью обуха не перешибёшь.
– Чего угомонись, чего успокойся? Трахнули нас капиталисты и в хвост и в гриву. А ты, угомонись…, да успокойся…
Я понял бы его, если бы он сам, со своей семьёй, вырастил эти овощи-фрукты, а потом вывез на продажу. Тогда, да – это честный труд! А так – обыкновенный спекулянт! На чужом горбу в рай хочет въехать! – продолжал кипеть-возмущаться Степан, провожая Кирилла на автобусную остановку. И въедет сволочь, жирная морда спекулянтская…. Чтоб он сдох, не сейчас, так завтра! И такие же как он все передохли!
– Послушай, Стёпа, хозяин будет ругаться, что тебя долго нет на месте.
– Подождёт, не сдохнет! – Могу я друга до автобуса проводить. Ты же чуть живой, – не согласился он с Кириллом. Вон, какой бледный…
Глава девятая
СВЕТЛАНА
…Она видела – он неотрывно смотрит ей в лицо, как-будто что-то хочет прочесть на нём. А, что он может увидеть или прочесть? Только любовь и желание принадлежать этому мужчине.
Она попыталась овладеть своими чувствами и, сдвинув брови, постаралась придать лицу выражение холодной неприступности. Любопытно, подумала она со страхом, заметил он её состояние, или нет и, опять почувствовала, как лицо начало полыхать от внутреннего жара. Да что же это такое! Ну-ка, прекрати немедленно краснеть, – попыталась она приказать себе. Я что, девочка пятилетняя, не умеющая владеть своими чувствами?
Мысленно встряхнув себя за плечи, она, почти спокойно, посмотрела на него, но опять испуг охватил её тело.
Он смотрел на неё, не отрываясь, словно хотел вобрать её всю в себя.
Светлана опять затрепетала, как пойманная в сети лань. Мне необходимо бежать от этого человека, подумала она трепеща, и даже лихорадочно попыталась заставить себя сделать это, но не могла сдвинуться с места.
Так, скованная по рукам и ногам невидимыми кандалами, кандалами вихрем налетевшей любви, она покорно отдалась этому сладостному чувству.
Как сквозь плотный туман она увидела, и услышала:
…Его лечит Светлана Кирилловна Соколова, говорил он, заглядывая ей в глаза. Так она здесь? Не подскажете? Как мне встретиться и переговорить с ней? Куда пройти?
– Вы, знаете, – наконец-то почти придя в себя, почти спокойно ответила она, – она здесь и вы вполне можете поговорить с ней…, если… это конечно очень срочно, – добавила она, и вновь залилась жарким румянцем.
– Я…, я… очень хорошо понимаю – Новый год и всё такое… Вероятно, я не вовремя…
Светлана видела, он пытается оттянуть время расставания с ней. Правда, делал это неуклюже, по-мальчишечьи смущаясь, но ей почему-то это нравилось, и она, также не желая скорого расставания, наслаждалась его попытками.
– Представьте себе, действительно не вовремя, – нисколько не помогая ему выйти из затруднительного положения и, в то же время, любуясь им, почти прошептала она.
Тут она снова смутилась: как это можно – любоваться мужчиной? Да! Он очень ей нравится. Но он же не красивая игрушка, в самом-то деле? Он – муж-чи-на!
Она окончательно запуталась в своих эмоциях, в своих чувствах и, чтобы, так ей казалось, выбраться из лабиринта сравнений и неувязок, она сказала себе: «Я женщина, и мне присуще всё женское!», а чтобы больше не затягивать его мучительную попытку выбраться из сложившейся ситуации, она всё же решила помочь ему:
– Я, Светлана Кирилловна Соколова – лечащий врач вашего Иван… Иваныча. Ему необходимо ещё полежать. У него вирусная форма гриппа…, с осложнением, добавила она, и, простите, мне необходимо идти.
– Ну, хоть на несколько минут я могу навестить его и кое-что спросить?
– Увы. Нет! В больнице карантин.
И, желая смягчить свой резкий ответ, она продолжила: «Не переживайте так за своего заместителя. Он, в настоящее время, уже неплохо себя чувствует и, через два-три дня, то есть, после праздника, мы его выпишем»…
Так…, сейчас он, как все мужчины (до чего же они неоригинальны), начнёт напрашиваться проводить меня, решила она. И, со страхом…, и некоторой надеждой, что он именно так и поступит, стала ждать этого волнительного момента.
Но он промолчал, он не предложил. Он почему-то не пред-ло-жил! Такого не должно быть! Ну не должно же быть такого, в смятении подумала она. Не долж-но-о!
Она стояла, не шевелясь, и смотрела, как он уходит, сказав лишь – «До свидания», и в знак подтверждения сказанному, коротко кивнул головой. Уходит! Уходит всё дальше и дальше от неё по заснеженной дорожке, а затем, завернув за угол больничного корпуса, и вовсе исчезает из виду…
Глаза Светланы вдруг что-то защипало, и непрошеные слёзы туманом застлали всё вокруг.
«Улетел мой сокол ясный, улетел», пришли на ум откуда-то запомнившиеся слова. Господи…! Ну почему в жизни так получается? Вот только что было счастье – она могла потрогать его руками и, вмиг его не стало. Оно растаяло, словно туманная дымка в летнее прохладное утро, оно растаяло под нежаркими утренними лучами солнца.
Спустившись с пандуса, она медленно побрела, опустив голову и вытирая катящиеся по щекам слёзы. Грустные мысли теснились в голове, навевая печаль и тоску… «Вот тебе бабушка и Юрьев день» – вспомнилось ей и, вослед «Как встретишь Новый год – так и проведёшь его».
Даа… уж чего хуже можно придумать – не придумаешь. Видно судьба у меня такая, продолжали бежать мысли в голове, как она хочет, так и вертит человеком. Вот захотела она поманить меня счастьем – поманила, да тут же и отобрала…. Не раскрывай рот широко, Светка – этот сладкий кусочек может не попасть в него, а только губы помажет…. Вкус почувствуешь, а съесть не съешь…. Так-то, девочка!
Почему так, я не понимаю? – обиженно спросила она у того, кто распоряжается нашими судьбами?
Но он не ответил ей, он промолчал.
Вокруг, от ярко светящего солнца, всё блестело. Каждая снежинка, отражая свой неповторимый свет, нет-нет да зацепит, как-бы играя, своим лучиком Светлану. То пройдётся по щеке, то пощекочет её хорошенький носик, а то, вдруг, как брызнет всеми цветами радуги прямо в глаза…. Тогда Светлана щурилась, отворачивалась, но слепящие лучики и тут находили её.
Она понарошку сердилась, закрывалась от них рукавичкой, но лучики не отставали, продолжая свою весёлую игру и, Светлана не выдержала. Она сдалась на милость победителей, как крепость сдаётся смелому, храброму рыцарю.
Слёзы постепенно высохли. На щеках опять заиграл румянец, а на чуть полноватых, розовых, нежных губках, появилась едва заметная, как раннее солнышко, улыбка.
Навстречу стали попадаться редкие ещё, прохожие. Город пробуждался и, набирая скорость жизни, готовился к трудовым будням.
В права вступал Новый Век! Век надежд и разочарований, встреч и разлук, горя и радости!
Я тоже вступаю в этот новый, неизвестный ещё никому, загадочный век, и каким он будет для меня, я не знаю – утверждая и спрашивая, шептала Светлана. Ах, как хочется, чтобы он оказался для меня добрым, и чтобы меня полюбил тот мужчина с голубыми глазами.
Затем, её мысль перекинулась на более глобальный вопрос – «А что же он даст, этот Век? Чем наградит всех людей?» – размышляла она, идя по улице и всматриваясь в лица встречных. И не находила ответа. Да и как его найти – «ответ», на совсем, совсем не простой вопрос? Ответ, который ищут люди со дня своего рождения и до глубокой старости. Ответ, скрытый за семью замками или, как будет более правильно – печатями?
Она шла по улице…, по улице, на которой ей был знаком каждый дом, каждая дверь во двор и, даже каждая кошка, греющаяся на солнышке, на подоконнике за стеклом. Она ходила по этим улицам, по этому городу вот уже шесть с лишним лет: пять с половиной лет студенческой жизни, и почти год работы в больнице…
…Шесть, нет, почти семь незабываемых, прекрасных по-своему, лет её жизни. И вот, среди покоя и неги пришла гроза в её девичью жизнь! Она налетела неожиданно, необузданным ураганом, ломая всё на своём пути, вырывая с корнем деревья и завывая…
Так думала Светлана, вспоминая преподнесённую ей, казалось, самой судьбой, встречу с тем человеком, с человеком, в которого она сразу и безоглядно влюбилась, и, с которым готова была пройти рядом всю свою жизнь.
Где же ты сейчас? – спросила она шёпотом у пространства. Что делаешь?
Глава десятая
НИКОЛАЙ
Он шёл по коридору, опустив голову и заложив, как ему приказал охранник, руки за спину, а позади громыхали армейские ботинки со шнуровкой. Коридор был длинный, а пол, проплывающий у него под ногами, был застелен грязного цвета линолеумом с, кое-где, рваными проплешинами.
Всё это проплывало мимо, не задевая его сознания. В голове мелькали обрывки мыслей, казалось, что это калейдоскоп крутится у него в голове: мелькнула и тут же пропала мысль о работе – что подумают о нём сослуживцы, узнав о его неприятностях? И тут же – где его машина, которую он приобрёл совсем недавно? Говорят, в полиции частенько «банкуют» автомобили. А может, врут люди?
Обиделся какой-нибудь бедолага на «беспредел», вот и пустил слушок. А там, глядишь, пошло-поехало. Долго ли снежному кому превратиться в лавину? Кто-то добавил, кто-то убрал…
– Стоять! – словно удар в спину раздалось сзади, затем, последовала новая команда – «Лицом к стене!»
Николай послушно остановился и, приподняв голову, повернулся лицом к стене.
Перед его глазами находилась покрашенная грязно-зелёной масляной краской, облупленная, с нацарапанными вероятно каким-то металлическим предметом, скабрезными словами, стена.
В тишине коридора раздался звон ключей, затем, со скрежетом и каким-то душераздирающим визгом, как-будто пальцем провели по мокрому оконному стеклу, открылась железная дверь, которую Николай только вот сейчас заметил рядом.
– Входи! – опять приказал тот же голос.
Николай перешагнул через небольшой порог и, очутился в камере.
Сзади опять повторился тот же скрежет с визгом – дверь захлопнулась!
В полутёмной, небольшого размера, комнатушке, стояли две двухъярусные кровати, на одной из которых, внизу, сидел человек. Между кроватями стоял накрытый клеёнкой столик, а у самой двери, что-то похожее на унитаз. Из-за плохого освещения, Николай не очень-то хорошо всё это рассмотрел. Но он ясно увидел толстую металлическую решётку за окном, и наклонный деревянный козырёк за ним. Этот козырёк закрывал вид за окном, и даже встав на стол ничего нельзя было бы увидеть.
– Проходи, занимай коечку внизу – своё новое место горя и печали, – пригласил его сидящий человек, показав на противоположное место. Будь как дома, невесело пошутил он, привыкай.
Николай осторожно прошёл между кроватями и сел на табурет. Садиться на застеленную неопределённого цвета одеялом, с двумя парами поперечных, вроде бы сине-зелённых полос, кровать, он побрезговал.
– Давай знакомиться, мил человек, – предложил сидевший на кровати сокамерник. Меня зови попросту – дядя Юра. А тебя как звать-величать, попавший в юдоль скорби и слёз, сокол ты мой ясный?
Только сев на табурет, Николай смог рассмотреть говорившего с ним человека:
Кряжистый дедок лет под семьдесят-семьдесят пять, с бородой лопатой и весь обросший буйным седым волосом, он чем-то напоминал портрет, написанный художником А. А. Васильевым – его (портрет) Николай видел в музее В.А.Тропинина будучи проездом в Москве. И даже его взгляд чуть прищуренных, с хитринкой, глаз, был похож на тот, написанный художником, вероятнее всего с оригинала.
Такое сходство лица и. предположительно, речи, поражало. Так и хотелось спросить: «Вы, случайно, не близкий родственник того самого, который в музее …, на портрете?»
– Николай, – ответил он.
– Ну, вот и ладненько, – согласно покачал головой дедок, и продолжил, – человек не может быть без имени. Даже животные и птицы, которые рядом с человеком живут, имена свои имеют. Имена энти, правда, даёт им человек и, как сам понимашь…, не всегда правильные. В имени, данном при рождении, ежлив оно, скажем, дано конешно человеку, а не бессловесной скотине, заложона судьба человека. И, к примеру, вот, ежлив твоё имя…
Николай постепенно сообразил: по-видимому, его сосед по камере давно не имел возможности поговорить «с чувством, с толком, с расстановкой», или был из тех ещё говорунов, которых хлебом не корми, а дай высказаться «по поводу и без повода». Но поддерживать с ним разговор не было ни сил, ни желания. Поэтому, он просто сидел на табурете и, молчал, а мысли его были далеко-далеко.
Как сквозь вату пробивался говорок дяди Юры, который, кажется, всё развивал и развивал тему присвоения имени и, этот говорок, казалось, убаюкивая Николая, покачивал его на словах-волнах. Иногда в сознании появлялось небольшое просветление, казалось, форточка открывалась в наглухо закрытом окне. Тогда он улавливал некоторые слова: жизнь человеческая, божественная сила, или – Бог наш заступник и утешитель…. И ещё что-то в этом роде, но их смысл, смысл слов, не доходил до его сознания…
Слух и понимание происходящего вернулись к нему от звука вновь издавшей скрежет и визг, открывшейся металлической двери в камеру.
– Тризна! – раздался когда-то слышанный голос от двери. На выход! Да поживее, нечего копаться, как разомлевшая на солнцепёке курица!
– Чай, с вещами, мил человек? – поинтересовался дядя Юра. А то я уж засиделся тут, и баушка меня, чай, заждалась-от домой.
– Нет! Не сегодня, посидишь ещё немного. На допрос к следователю пригласили… персонально, – пошутил конвоир.
– Так я же был у него, – поднялся, расчёсывая пятернёй бороду, дед.
– Давай-давай, пошевеливайся! – построжел молодой конвоир, – и не забудь руки за спину заложить.
Вновь заскрежетала, завизжала, дверь – Николай остался один.
От сидения на жёстком деревянном табурете, да ещё и в неудобной позе, заболела спина. Он посмотрел на тюремную, теперь «свою», кровать, потрогал одеяло, матрас и, тяжело вздохнув, лёг поверх одеяла…. «Даа, это не у родной мамы на пуховой перине», подумалось ему, когда он начал приспосабливать под голову всю из ватных комков, небольшую подушку. У нас в детдоме, помнится, постель была намного лучше, с иронией подумал он о тюремной постели.
Как только тело немного расслабилось, тут же головой опять завладели мысли.
Странно, подумал он, неужели от положения тела в пространстве зависит мозговая деятельность человека? В таком случае, небезызвестный литературный Обломов должен быть великим умницей. Это ж надо, всю жизнь пролежать на диване…! Что-то верится с трудом. Может быть, присочинил писатель для большего эффекта?
От Обломова мысли повернулись опять на себя, на своё – такое незавидное, такое несуразное положение.
В сотый, тысячный раз он спрашивал неизвестно кого – кто взял его Фольксваген и, зачем? Может быть, какой-то пьяный решил прокатиться…? Но… в таком случае, почему не сработала противоугонная сигнализация? На кой чёрт, позвольте спросить, я отдал за неё такие бешеные деньги…? Брелок с ключами есть только у меня и у Светланки: мы их не теряли…. Светланка сказала бы мне обязательно, если бы она их потеряла…. А я-то точно не терял! Ничего не понимаю!
Перед его мысленным взором, словно морская дева из пучины морской, появилась его молодая, красавица жена…. Память Николая мгновенно перенесла его в прошлое, в тот первый Новогодний день, когда увидел её. На душе потеплело, словно рядом зажгли небольшой костерок, и этот костерок отогрел замерзающую душу.
«Снегурочка моя! Родная моя…, как ты там?» – прошептал он. «Ты же ещё ничего-ничего не знаешь. Не знаешь, какая огромная беда обрушилась на нас!»…
И мысли, словно прорвавший запруду весенний ручеёк, побежали, побежали, разматывая и разматывая виток за витком, клубок памяти…
* * *
…Она стояла у дверей приёмного покоя: тоненькая, в белой шубке и такой же белой шапочке, освещённая яркими лучами утреннего солнца – вся такая светлая-светлая, с огромными зелёными глазами, похожая на снегурочку. Он как-то сразу, даже не задумываясь, назвал её снегурочкой.
Подойдя к ней, он в первое мгновение даже как-то растерялся, хотя раньше…. Раньше он был смел и изобретателен при встречах и знакомстве с девушками – я не хуже других, говорил он себе, и добивался своего!
Перед его напором не могла устоять ни одна из них, но все они, эти знакомства, рано или поздно заканчивались тихо и мирно, переходя в бескорыстную дружбу. В них не было главного – любви! Да, именно любви, которую он искал, и ждал, и не мог найти, а была только страсть.
Он прекрасно понимал это, но… не евнух же он в конце-концов.
Ноо… чтобы вот так! Сразу и наповал из двух стволов…, дуплетом…! Из-ви-ни-те! Такого с ним ещё ни одна девушка не позволяла…. Да, но здесь…!
Здесь, наверное, был совершенно другой случай. Здесь он сам, как осаждённая крепость сдаётся на милость победителей, так и он, захотел пасть перед этой, неземной девушкой. Он сразу и бесповоротно утонул в её зелёных глазах-озёрах, раз и навсегда! Эта девушка, стоящая у дверей больницы…, такая…, вначале радостно-счастливая, а затем растерянно-взволнованная, была его судьбой.
Он, нечаянно встретясь с ней взглядом, почувствовал какую-то духовную, что ли, связь с ней, словно они много-много лет тому назад были связаны между собой родственными узами.
Он испугался этого чувства, и в то же время не мог уйти, не сказав ей ни слова. Промямлив что-то о своём госпитализированном заместителе, он быстро попрощался и, стараясь не оглянуться, чтобы не показаться смешным, быстро ушёл.
Не прошло и двух дней, а Николай совсем извёлся от желания видеть Светочку – Светлячка, как стал он называть её про себя. При вспоминании её образа, её голоса, журчащего весенним ручейком, лицо его принимало какое-то растерянно-ласковое выражение.
На второй день после встречи со Светланой Кирилловной, когда он появился на работе, Зиночка, увидев выражение его лица, удивлёно-обеспокоено спросила: «Николай Александрович, с Вами всё в порядке, Вы, случаем, не заболели?»
Не ответив на её вопрос, надев на себя, маску – маску строгого хозяина (если бы она знала, какого неимоверного труда стоило ему это перевоплощение) он, предупредив её, что поехал по делам, и неизвестно когда будет назад, помчался в больницу.

