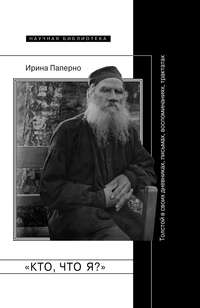
«Кто, что я?» Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах
Он пишет об отпадении от веры (в возрасте четырнадцати лет) и об открытии (на Кавказе, где он жил в 1851–1854 годах), «что есть бессмертие, что есть любовь и что жить надо для другого» (60: 293, апрель – май 1859). (В это время, как мы знаем из его дневника, Толстой читал «Исповедание веры савойского викария» даже за обедом[58].) Он пишет о своем отчаянье: «Жить незачем. Вчера пришли эти мысли с такой силой. <…> Кому я делаю добро? кого люблю? Никого!» И тут же добавляет: «Я пишу вам это не для того, чтобы вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы» (60: 294). От экзистенциального отчаянья он переходит к теме литературы: «Еще горе у меня. Моя Анна, как я приехал в деревню и перечел ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться от сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она уж напечатана <…>» (60: 295). Толстой имеет в виду повесть «Семейное счастие». В тот же день в письме к критику Василию Боткину он пишет о своей повести с тем же чувством отвращения и отчаянного стыда (используя идиоматику, уместную только при обращении к мужчине): «Василий Петрович! Василий Петрович! Что я наделал с своим „Семейным счастьем“. Только теперь здесь, на просторе, опомнившись и прочтя присланные корректуры <…> я увидал, какое постыдное гавно, пятно, не только авторское, но человеческое – это мерзкое сочинение» (60: 296). Остается неясным, почему Толстой называет книгу «моя Анна» – героиню «Семейного счастия» зовут Мария[59].
По жанровой принадлежности «Семейное счастие» (1859) можно считать традиционным романом (хотя и коротким): в отличие от «Детства», «Отрочества» и «Юности», здесь имеются и герои, и традиционный сюжет семейного романа, и динамика утраченных иллюзий и примирения с жизнью. «Семейное счастие» – как и «Детство», «Отрочество» и «Юность» – написано от первого лица, но в этом случае Толстой не оставляет читателю никаких сомнений в том, что повествователь – это не автор («я» – это не Лев Толстой): роман написан от лица женщины. (В 1863 году Толстой написал повесть от лица лошади, «Холстомер», опубликованную только в 1885 году.) Воспользовавшись этим искусственным приемом, Толстой решительно отделил собственное «я» от условного «я», показав таким образом, что пишет литературу, но когда прочел корректуры, то со стыдом почувствовал искусственность формы и неловкость языка. (В более поздние годы Толстой описал «чувство эстетического стыда», которое он в сильнейшей степени испытывал «при художественной лжи»[60].)
Вскоре Толстой не только сообщил друзьям, что он, «кажется», больше никогда не будет писать, но и объявил о своем «отречении от литературы». Он писал Афанасию Фету: «Стыдно, когда подумаешь: люди плачут, умирают, женятся, а я буду повести писать „как она его полюбила“. Глупо стыдно» (60: 307, октябрь 1859). Он писал Борису Чичерину: «Литературные занятия я, кажется, окончательно бросил. <…> Я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне» (60: 315, октябрь – ноябрь 1859). (В том же письме он упомянул: «Хотел я было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочих, но на этом месте 3-го дня помешали мне <…>» [60: 316].) Через несколько месяцев он вновь объяснял Чичерину: «Самообольщения же так называемых художников <…> есть мерзейшая подлость и ложь. Всю жизнь ничего не делать и эскплуатироать труд и лучшие блага чужие за то, чтобы потом воспроизвести их – скверно, ничтожно, может быть, есть уродство и пакость…» (60: 327, 1 марта 1860). Он также отказался от участия в только что созданной организации для помощи писателям, Литературном фонде.
Что же делать? Ответ казался ясным: пахать землю и учить детей. Толстой решил жить в деревне и заниматься хозяйством и школой для крестьянских детей. Он писал Василию Боткину: «Изящной литературе, положительно, нет места теперь для публики» (60: 247, 4 января 1857)[61]. (Теперь – то есть в период подготовки реформ.) Тем не менее в это письмо была вложена небольшая художественная вещь, написанная в форме сна, однако она так и осталась ненапечатанной[62].
В письме к приятелю, Егору Ковалевскому, брату министра просвещения, Толстой поставил свое отрицание литературы с ее институциями в широкий социальный контекст:
Дело вот в чем. Мудрость во всех житейских делах <…> состоит не в том, чтобы знать, что нужно делать, а в том, – чтобы знать, что делать прежде, а что после. В деле прогресса России, мне кажется, что, как ни полезны телеграфы, дороги, пароходы <…> литература (со всем своим фондом), театры, Академия художеств и т. д., а все это преждевременно и напрасно до тех пор, пока в России <…> учится 1/100 доля всего народонаселения (60: 328–329, 12 марта 1860).
С этими мыслями он решил посвятить себя делу народного образования.
После смерти брата Николая от чахотки, во время второго путешествия в Европу (в 1860–1861), кризис Толстого приобрел новый характер. Как он писал Фету, со смертью брата он узнал «жизнь, какова она есть» – «как самое отвратительное, пошлое и ложное состояние». Но что же делать?
Ну, разумеется, есть желание есть, ешь, есть бессознательное, глупое желание знать и говорить правду, стараешься узнать и говорить. Это одно из мира морального, что у меня осталось, выше чего я не мог стать. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь (60: 358, 17 октября 1860).
В течение своей жизни Толстой пережил несколько кризисов, во время которых мысли о смерти и вере соседствовали с острым чувством социальной несправедливости, и всякий раз он писал о своем разочаровании в искусстве и высказывал намерение окончательно бросить изящную литературу.
В качестве альтернативы в 1859–1860 годах Толстой принялся учить крестьянских детей читать и писать в школе, которую он завел в своем имении. Кроме того, он издавал журнал «Ясная Поляна», публикуя дневниковые хроники («Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», 1861) и педагогические статьи («О народном образовании», 1862; «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?», 1862).
В статье «Кому у кого учиться писать» Толстой предлагает принцип взаимного обучения. (В этой связи он утверждает как «великое слово, сказанное Руссо»: «Человек родится совершенным», 8: 322.) Он описывает шаг за шагом, как двое крестьянских детей из его школы, Семка и Федька, пишут художественное произведение. (Их повесть напоминает по жанру «народные рассказы», которые сам Толстой будет в 1880-е годы писать для крестьянского чтения.)
Наблюдая за творческим процессом, Толстой испытывает смешанные чувства. С одной стороны, ему кажется странным и оскорбительным, что он, «автор „Детства“, заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики», не только не мог помочь 11-летним полуграмотным мальчикам, но и «едва-едва мог следить за ними и понимать их» (8: 308). С другой – ему казалось, что, побудив крестьянских детей к литературному творчеству, он совершил преступление, сопоставимое с растлением малолетних:
…мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка. Я смутно чувствовал в себе раскаяние в каком-то святотатстве. Мне вспоминались дети, которых праздные и развратные старики заставляют ломаться и представлять сладострастные картины для разжигания своего усталого, истасканного воображения (8: 307).
Что касается Семки и Федьки, то, увлекшись, они ненароком сожгли свое художественное произведение в камине.
Деятельность Толстого в народном образовании, как он ее описывает, полна противоречий: он приступил к делу, хорошо понимая и вредность, и даже преступность приобщения «чистой, первобытной души» к чтению, письму и, более того, к литературе.
В 1862 году (вскоре после того, как он опубликовал свои педагогические статьи) Толстой женился и оставил яснополянскую школу. Через некоторое время он вернулся к литературе и в 1863–1869 годах работал над «Войной и миром».
«О проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (1870): Толстой снова и снова (1875) отказывается от литературы
В 1869–1870 годах, вскоре после окончания «Войны и мира», Толстой вновь решил уйти из литературы[63]. Он писал Фету: «Я, благодаря Бога, нынешнее лето глуп, как лошадь. Работаю, рублю, копаю, кошу, о проклятой лит-т-тературе и лит-т-тераторах, слава Богу, не думаю» (61: 236–237, 14 июня 1870). Писать он больше не будет, по крайней мере не будет писать так, как писал раньше: «я не пишу и писать дребедени многословной вроде Войны я больше никогда не стану» (61: 247, январь 1871).
Толстой вновь обратился к народному образованию – возобновил работу в яснополянской школе, снова вступил в педагогическую полемику и опубликовал составленную им «Азбуку» для крестьянского чтения (1872).
Однако в 1873 году он приступил к новому роману, «Анна Каренина». Следующий, решительный кризис в его жизни наступил в процессе работы над «Анной Карениной».
Весной и летом 1874 года Толстой писал своему новому другу, критику Николаю Страхову, что роман его стои´т и вовсе ему не нравится. Между тем он отвлекся на другую, педагогическую работу, «в виде своей педагогической profession de foi»[64]. Это была вторая статья под названием «О народном образовании», опубликованная в 1874 году. Неоконченный роман долго еще мучил Толстого, но другие интересы все сильнее требовали его внимания:
Берусь теперь за скучную, пошлую Анну Каренину и молю Бога только о том, чтобы Он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы опростать место – досуг мне очень нужный – не для педагогических, а для других, более забирающих меня занятий (1: 215, 25 августа 1875).
Напомню, что по странному совпадению во время кризиса 1859–1860 годов, описывая свою тогдашнюю повесть «Семейное счастие» как «постыдную гадость», он называл ее «моя Анна».
Сейчас, в середине 1870-х годов, он был разочарован и в роли писателя, подверженного авторскому тщеславию: «Мерзкая наша писательская должность – развращающая» (1: 259, 8–9 апреля 1876).
Осенью 1875 года Толстой перешел от педагогических занятий и (как он выразился) «педагогической profession de foi» к философским размышлениям о смысле своей жизни и смерти, к тому, чтобы определить свою религиозную веру, то есть к profession de foi в собственном смысле. Эта работа началась в переписке со Страховым, а затем последовала «Исповедь».
Вскоре после окончания «Исповеди» Толстой стал работать над статьей, которая (как он надеялся) окончательно определит его взгляд на искусство. Эта задача будет выполнена только через пятнадцать лет – в трактате «Что такое искусство?» (1897). В этом итоговом произведении по эстетическому вопросу Толстой объявит всю свою художественную продукцию «плохим искусством»[65].
Глава 2
«Сказать свою веру нельзя… Как сказать то, чем я живу <…> Я все-таки скажу»: Толстой в переписке с Н.Н. Страховым (1875–1879)
«Что есть моя жизнь, что я такое»: философский диалог между Толстым и Страховым – «Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее…» – В катехизической форме, в форме беседы – Расскажите, чем вы жили и живете – Экскурс: Руссо и его Profession de foi – Толстой пишет «Исповедь», Страхов продолжает исповедоваться Толстому
В огромном корпусе писем Толстого его переписка с Николаем Страховым в 1875–1879 годах занимает особое место[66]. Литературный критик и автор популярных трудов по философии Николай Николаевич Страхов (1828–1896) принимал заметное участие в интеллектуальных дебатах своего времени. В частной жизни ему не раз пришлось выступать в качестве собеседника, редактора и конфидента – проводника идей и посредника между различными мнениями и различными людьми. (Так, он был связующим звеном между Толстым и Достоевским, которые никогда не встречались[67].)
Страхов рад был содействовать Толстому своей обширной эрудицией в вопросах философии и богословия. (Используя свое служебное положение библиотекаря в санкт-петербургской Публичной библиотеке, он также снабжал Толстого книгами.) Более того, он рекомендовал себя как человека, обладающего особой способностью и потребностью искренне входить в интересы и мысли другого человека (П 1: 207)[68]. Страхов признался Толстому, что давно уже мучительно искал «дела» в жизни (П 1: 207, 22 апреля 1875). Толстой откликнулся: «Немножко мне открылось Ваше душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше» (П 1: 211, 5 мая 1875). Он подозревал, что оба они искали веры. (Оба давно хотели посетить Оптину пустынь и говорить со старцами.) В сентябре они встретились в Ясной Поляне, и Толстой почувствовал душевное родство между ними. Оба они не могли слиться ни с «верующими христианами», ни с «отрицающими материалистами». В письме от 26 октября 1875 года Толстой советовал Страхову «уяснить и изложить» его «религиозное мировоззрение», чтобы «помочь тем, которые в том же бедственном одиночном состоянии». Со своей стороны, Толстой чувствовал, что в этом состоял и его «долг», и его «влечение сердца» (П 1: 221–222). Страхов ответил, что последует совету и сделает, что сможет (П 1: 224, 4 ноября 1875). В ответном письме Толстой бросил своему собеседнику вызов: «вызываю на переписку». Он добавил: «Боже мой, если бы кто-нибудь за меня кончил А. Каренину!» (П 1: 226, 8–9 ноября 1875). (Работа над романом шла туго, с большими перерывами.)
«Что есть моя жизнь, что я такое»: философский диалог между Толстым и Страховым
По просьбе Толстого Страхов начал диалог. Опираясь на свое философское образование (что явно привлекало Толстого), он использовал три вопроса Канта, сформулированные в «Критике чистого разума»: что я могу узнать? что я должен делать? на что я могу надеяться? (A 805/B 833). Для Страхова главным вопросом был второй: «что делать», или, «в переводе на христианский язык: как спасти свою душу» (П 1: 228, 16 ноября 1875). Однако для него это был вопрос не о религиозном спасении, а о возможности активной деятельности.
Толстой ответил, что его всегда занимал один последний вопрос: «На что я могу надеяться?» Для него это был в первую очередь вопрос о будущей жизни, о бессмертии души. Он также полагал, что все три вопроса нераздельно связаны в один: «что такое моя жизнь, что я такое?» (П 1: 210, 30 ноября 1875).
За двадцать лет до этого в своем дневнике молодой Толстой спрашивал себя: «Что я такое? <…> Что такое моя личность». Тогда он отвечал на этот вопрос в биографических и психологических терминах («Один из четырех сыновей отставного Подполковника, оставшийся с 7-летнего возраста без родителей. <…> Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и светски необразован», 47: 9). Сейчас же это был вопрос не о его личности, то есть свойствах характера и положении в жизни, а о природе человека и его отношении к Богу, и он требовал не биографического, а философского или богословского ответа. Добавив, что может показаться странным и легкомысленным отвечать на этот вопрос «на двух почтовых листиках бумаги», Толстой заявил, что тем не менее может и должен это сделать и сделал бы, если бы писал не письмо «близкому человеку», но «свою profession de foi, зная, что меня слушает все человечество» (П 1: 230).
Затем он сделал длинное отступление о методе. Есть научный метод, убеждающий путем логического изложения результатов знания, но только одна философия – настоящая философия, имеющая задачей ответить на вопросы Канта, – действует не логическими выводами, а чем-то иным, и только гармоничность соединения в одно целое таких нелогических понятий может убедить, и при этом «убедительность достигается мгновенно, без выводов и доказательств». Толстой писал длинно, сумбурно, надеясь, что его собеседник поможет разобраться «в этом сумбуре» (П 1: 234–235, 30 ноября 1875). Как кажется, перед Толстым стояла задача не столько поисков веры, сколько поисков методов определения своей веры.
К этому письму был приложено (написанное рукой переписчика) предисловие к философскому сочинению, озаглавленное «Для чего я пишу?». Толстой начал от первого лица и в биографическом ключе: «Мне 47 лет. <…> я чувствую, что для меня наступила старость». Он писал аллегорическим языком духовной автобиографии: как путник, он поднимался выше и выше «на таинственную гору», но не нашел того, что искал, и начал спуск туда, откуда он вышел. Теперь он вступал в старость, и пред ним была смерть. Отвергнув мысль, что жизнь – это «пустая и глупая шутка» («то сознание, из которого Декарт пришел к доказательству существования Бога»), он стал отыскивать иной взгляд на жизнь, «при котором уничтожилась бы кажущаяся бессмыслица жизни». Итак, «рассказать о том, каким образом из состояния безнадежности и отчаянья я перешел к уяснению для себя смысла жизни – составляет цель и содержание того, что пишу» (П 1: 236–237, 30 ноября 1875). (Через несколько лет в «Исповеди» Толстой воспользуется тем же языком, теми же метафорами.)
Здесь рукопись прерывается. Толстой продолжал свое письмо: «Я не мог дать переписать всего». Он опасался, что «то, что следует, привело бы во искушение переписчика». В том, что следовало, он рассуждал, что удовлетворительный ответ на такие вопросы может дать только религия, но «нам невозможно с нашими знаниями верить в положения религий» (П 1: 237).
Толстой с нетерпением ждал ответа – он ждал от своего собеседника возражений, чтобы «вам и себе показать <…> гармоничность и законность сопоставления понятий моего религиозного (философского воззрения)» (П 1: 239, 30 ноября 1875).
Страхов ответил, что в своем отступлении о методе Толстой, как кажется, говорит, что наука использует «анализ» (деление целого на составные части), в то время как метод философии – «синтез» (П 1: 240–241, 25 декабря 1875). Толстой не согласился с подставлением слов «анализ» и «синтез» под то, что он хотел сказать. Он добавил, что эти «злодейские слова», вместе со словами «субъективный», «объективный», «индуктивный», «дедуктивный», «наделали много бед» (П 1: 243, 1–2 января 1876). В их философской переписке затем наступил перерыв (обмен обычными, «дружескими» письмами продолжался); Толстой вынужден был вернуться к корректуре «Анны Карениной».
Толстой отправил свое второе философское письмо только 15 февраля 1876 года, приложив к нему очерк «О душе и жизни ее вне известной и понятной нам жизни»[69]. Обратившись к другому способу изложения (не духовной автобиографии, а философскому рассуждению), он также начал со слова «я» в составе картезианской формулы (которую тут же зачеркнул): «Я существую» (17: 340). (Возможно, образцом послужили слова Руссо в «Исповедании веры савойского викария»: «Mais qui suis-je? <…> J’existe <…>»[70].) Зачеркнув написанное, Толстой попытался подойти к проблеме с точки зрения своих антагонистов, материалистов: «я живу и по опыту знаю, что и я умру» (17: 351–352). За этим следовало длинное рассуждение о различии между живыми существами и мертвым веществом (он заимствовал эту тему из книги Страхова «Мир как целое» [1872], написанной в форме писем[71]). Это рассуждение привело Толстого к необходимости определить понятие души. Но как определить душу в категориях мышления? В конце концов (после многих страниц) Толстой вернулся к начальной точке: «Не знаю, в какой степени точно выражение Декарта: я мыслю, потому я живу; но знаю, что, если я скажу: я знаю прежде всего себя: то, что я живу, – то это не может быть не точно» (17: 351, курсив Толстого). Толстой ждал подробного ответа от Страхова.
Страхову было нелегко вести философский диалог с человеком, которого он боготворил. После долгого промедления он ответил – поставив попытку Толстого в широкий контекст философского знания:
Ваше письмо есть новая попытка пойти по тому же пути, по которому шли Декарт, Фихте, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр. Они точно так же начинали из себя, от Cogito, ergo sum, от я, от сознания воли, – и отсюда выводили понятие об остальном существующем (П 1: 256).
Идя по этому пути, продолжал Страхов (пути посткартезианской философии), мы не сможем достичь того, чего оба желаем, – того, что лежит вне разума и вне субъекта. Таким образом, всегда окажется, что человек, от которого мы начали, или «сознательное я», и есть предел, до которого дошло все сущее. Страхов возлагал огромные надежды на Толстого и его поиски ответов на главные вопросы, но он начал сомневаться в действенности принятого Толстым философского способа рассуждения:
Ваши попытки меня и прельщают и пугают. Если Вы потерпите неудачи, если почувствуете сомнения, то для меня они будут страшнее собственных неудач и сомнений. Потому что в Вас я верю; я жду от Вас откровений, как те откровения, которые нашел у Вас в такой силе и множестве в Ваших поэтических произведениях. <…> Вы пытаетесь <…> привести Ваши взгляды в формулы обыкновенного знания. Я заранее уверен, что результаты, которые Вы получите, будут в сто раз беднее содержания Ваших поэтических созерцаний. Посудите, например, могу ли я взгляд на жизнь, разлитый в Ваших произведениях, не ставить бесконечно выше того, что толкует о жизни Шопенгауэр, или Гегель, или кто Вам угодно? (П 1: 257, 8 апреля 1876).
Высказав сомнения в способности собеседника найти откровения вне художественной формы, он перевел разговор на «Анну Каренину»: «Анна Каренина возбуждает такое восхищение и такое ожесточение, какого я не помню в литературе» (П 1: 258). (Главы 7–20 части пятой вышли в свет в журнале «Русский вестник» в апреле.)
Толстой давно уже просил Страхова перестать хвалить его роман. Что касается своих попыток философствовать, то Толстой понимал, что он выражается неясно, но надеялся, что его собеседник поймет «и дурно выраженное» (П 1: 261). Он сделал еще одну попытку определить тот принцип, который объемлет и живое и неживое, и «я» и «не-я»: «Бог живой и Бог любовь» (П 1: 262, 14 апреля 1876).
Страхов немедленно сел за ответ, но отправил свое «философское письмо» только 8 мая 1876 года (П 1: 271). Он вновь предпринял попытку поставить неясные мысли Толстого в контекст профессиональной философии:
Вы видите в мире Бога живого и чувствуете его любовь. Теперь мне ясна Ваша мысль, и сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие философские системы. Это будет пантеизм, основным понятием которого будет любовь, как у Шопенгауэра воля, как у Гегеля мышление (П 1: 263).
Толстой не ответил. Он вернется к философской переписке только шесть месяцев спустя (П 1: 291, 12–13 ноября 1876). Летом 1876 года Страхов дважды посетил Ясную Поляну, и они продолжали свое философствование с глазу на глаз.
Эпистолярный философский диалог зашел в тупик. Другая тема теперь заняла главное место в переписке Толстого и Страхова: «Анна Каренина».
«Чтобы вам, вместо того, чтобы читать Анну Каренину, кончить ее…»
В течение всего года Толстой был раздражен призывами Страхова вернуться к «Анне Карениной». Со своей стороны, он упрекал Страхова в том, что тот продолжал заниматься литературной критикой: «Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный и независимый ум, дань Петербургу и литтературе» (П 1: 244, 1–2 января 1876; курсив Толстого; по-видимому, от французского «littе́rature»). Он просил Страхова показать истинную дружбу: или не хвалить роман, или написать про все, что в нем дурно. В этом контексте Толстой заметил: «Мерзкая наша писательская должность – развращающая» (П 1: 259, 8–9 апреля 1876). Мимоходом он упомянул, что думает оставить роман без завершения (П 1: 259).
Это так взволновало Страхова, что он обратился к Толстому со страстным призывом:
Вы теряете Ваше обыкновенное хладнокровие и, кажется, желаете от меня совета – прекратить печатанье Анны Карениной и оставить в самом жестоком недоумении тысячи читателей, которые все ждут и все спрашивают, чем же это кончится? <…> Вы меня привели в такое волнение, как будто мне самому приходится писать конец романа (П 1: 264–265, апрель 1876).
Он также упрекнул Толстого за то, что тот не отвечал на высказанные им в письмах суждения об «Анне Карениной», спрашивая, правильно ли он понял «идею» романа (П 1: 264)[72]. Толстой решил наконец принять этот вызов: «ваше суждение о моем романе верно, но не все – т. е. все верно, но то, что высказали, выражает не все, что я хотел сказать» (П 1: 267).
Толстой затем сформулировал свое представление о том, что составляет смысл романа:
Если же бы я хотел сказать словами все то, что я имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман, тот самый, который я написал, сначала. <…> Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно – словами описывая образы, действия, положения (П 1: 267).

