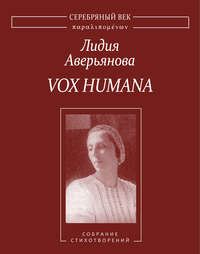
Vox Humana. Собрание стихотворений
8. Софья Алексеевна
Сестра в несчастьи, разве вместе с кровьюК тебе любовь изымут из меня!Стрелецкий бунт ревел в столбах огня.Но – Петр велик. И забывали Софью.Москва ль не соты черному злословью!Бразды правленья в нежный миг кляня.Литовский всадник к славе гнал коня:К Голицыну горела ты любовью.Разлуки русской необъятен снег.И монастырь тебе стал вдовий дом.И плачем выжжены глаза сухие.Могла б и я в тиши дожить свой век.Горюя о Голицыне моем:Но больше нет монастырей в России.1935
9. Ледяной дом
С прозрачных стен уют последний сполот.И гаснет факел в Доме Ледяном.Как первый снег, был смех царицы молодИ сух, над коченеющим шутом.Из всех дверей повеял смертный холод —И вздрогнули, входившие с царем…Со всей России лед былого сколот.Ипатьевых давно проветрен дом.Прости, Господь, и немощь Иоанна,И Софьи скорбь, и гордый ум Петра,И Анны блажь, и Павла крест бесовский —За семь венцов, той мукой осиянных,За росный дым июльского утра,За глушь подвала, за костер Свердловска.1935–1937
10. Сосед Господь
Du Nachbar Gott, wenn ich…
RilkeЧистейшие да узрят сердцем Бога.Господень взгляд – живому телу смерть.Весь мир – лишь глаз Господних поволока.Так как же мне в Его лицо смотреть?И как от Лика луч найду я впредьВ своих страстях – сухих травинках стога?Часы идут. Я подожду немного.Есть час, в который можно умереть.Тепло живых – в ковчег Господень двери.Вся наша кровь – цена за откровенье.Кратчайшую себе дав рифму: плоть.Прости меня, что неуч в детской вере,Проулком лжи, задворками мышленьяЯ обхожу Тебя, сосед Господь.1935
Дополнение к книге
«Серебряная Рака. Стихи о Петербурге
1925–1937»
Колокол св. Сампсония
Он был подобен темной сливеВ прозрачной зелени стены.Петровский зодчий мудро вывелПять арок с каждой стороны.И ветер слушать хор улегся.И дождь был, верно, вспрыснуть радБольшие вязы, плиты, флоксыИ церковь – Божий вертоград.Пусть спит Хрущев, еще не тронут —В честь современников моихУж сбита тяжкая корона,Смотри, с герба Еропкиных…Раскрыта в сад двойная рама:На площади (полулуной)Чугунный Петр – хранитель храма —Впервые пост оставил свой…За город свой, за это зданьеМолилась я, меж слов и дел,И, онемевший в ожиданьи,Не снятый колокол чернел.1937
У костюмерной мастерской
У костюмерной мастерской.Где куклы, маски, моль в витринах,За три квадрата от МорскойКанал идет, как черный инок.Он неопрятен, крив и сир,Ему бы вечно здесь трепаться,Где банк велик и кругл, как цирк —Арена сложных операций;Где, тени надломив едваВ осях чугунных полукругов,Четыре злых крылатых льваПлюют со скуки друг на друга.Где искони и навсегда —Так встала Кана в Божьем слове —Канала смешана водаС гранитным сгустком чермной крови.1937
Сонет
Люблю под шрифтом легшие леса.И реки вспять, в наследство поколеньям.И землю ту: что Божья ей роса? —Вся наша кровь ей будет удобреньем.Моим глазам седьмые небеса.Большая ниша всем моим моленьям.Тебя я пью – с каким сердцебиеньем! —С тех пор, как в узел собрана коса.Благословляю, русская земля,Кольцо границ, что нам с тобой – петля:Вся жизнь моя – одно с тобой свиданье.Казнь за тебя – невелика деньга,Но в смертный час, тащась издалека,Я не приму тебя, как подаянье.1937
Превыше всех меня любил
Превыше всех меня любилГосподь. Страна – мой зоркий Орлик.Мне голос дан, чтоб голос былДо самой смерти замкнут в горле.Элизиум теней чужих.Куда уходят дорогие? —Когда ты вспомнишь о своих.Странноприимица – Россия!Как на седьмом, живут, без слов,На сиром галилейском небе:На толпы делят пять хлебовИ об одеждах мечут жребий…Но тише, помыслы мои.Слепой, горбатой, сумасшедшейИль русской родилась – терпи:Всю жизнь ты будешь только вещью.1934–1937
Россия. Нет такого слова
Россия. Нет такого словаНа мертвом русском языке.И всё же в гроб я лечь готоваС комком земли ее в руке.Каких небес Мария-деваСудьбою ведает твоей?Как б…., спьяна качнувшись влево.Ты бьешь покорных сыновей.Не будет, не было покояТому кто смел тебя понять.Да, знаем мы, что ты такое:Сам черт с тобой,…..мать!1934–1937
Из стихотворений, посвященных Л.Л. Ракову
Ты Август мой! Тебя дала мне осень
Ты Август мой! Тебя дала мне осень.Как яблоко богине. Берегись!Сквозь всех снегов предательскую просиньВоспет был Рим и камень римских риз.Ты Цезарь мой! Но что тебе поэты!Неверен ритм любых любовных слов:Разбита жизнь уже второе летоЦезурою твоих больших шагов.И статуи с залегшей в тогах тенью.Безглазые, как вся моя любовь.Как в зеркале, в твоем отображеньеЖивой свой облик обретают вновь.Ручным ли зверем станет это имяДля губ моих, забывших все слова?Слепой Овидий – я пою о Риме,Моя звезда взошла в созвездьи Льва!<1935>
He услышу твой нежный смех
Л. Ракову
He услышу твой нежный смех —Не дана мне такая милость.Ты проходишь быстрее всех —Оттого я остановилась.Ты не думай, что это – я.Это горлинка в небе стонет…Высочайшая гибель моя.Отведут ли Тебя ладони?1935
Стой. В зеркале вижу Тебя
Стой. В зеркале вижу Тебя.До чего Ты, послушай, высокий…Тополя, тополя, тополяПроросли в мои дни и строки.Серной вспугнутой прочь несусь,Дома сутки лежу без движенья —И живу в корабельном лесуВысочайших твоих отражений.1935
К вискам приливает кровь
Л. Ракову
К вискам приливает кровь.Всего постигаю смысл.Кончается книга Руфь —Начинается книга Числ.Руки мне дай скорей.С Тобой говорю не зря:Кончается книга Царей.Начинается книга Царя.Какого вождя сломив.В какую вступаю ширь? —Кончается книга Юдифь.Начинается книга Эсфирь.Не помню, что было встарь.Рождаюсь. Владей. Твоя.Кончается книга Агарь —Начинается жизнь моя.<1935>
Тот неурочный зимний сад
Тот неурочный зимний садВ предсмертный час мне будет сниться…Четыре факела горятНа самой черной колеснице…<………………………..>Свет факелов, горящий между арок…Как близко ты решился стать ко мне.Я принимаю страшный твой подарок!<1935>
Твой голос? Не бойся: не вздумаю я
Твой голос? Не бойся: не вздумаю яС тобой разговаривать часто!Как будто я – Фигнер, а голос меняВзял и отвел в участок!Как будто – Рылеев. Стою. На плацу.Оплевана. Всем Петербургом.А если ударю. Тебя. По лицу.Как раб Преступленьем. Ликурга.Как будто с пристрастием начат допрос.(И дома, и в грохоте улицЯ слышу надменный и грубый вопрос:)Перовская? Гельфанд? Засулич?Пускай мне твой голос в горло удар,Пускай не рожу тебе сына —Вольноотпущенник! Трус! Жандарм!Предатель! Шпион! Мужчина!<1935>
Никогда не бывало. Не будет. Нет
Никогда не бывало. Не будет. Нет.Мы несказанного – не скажем.Керамический вымысел, черный бред.Черепок недошедшей чаши…Я скошена быстрой походкой Твоей.Как выстою, холодея, —Нежней апулийских двухцветных вещей,Мрачнее тарентских изделий.Пыталась с Тобой разговаривать я.О чем не посмела мечтать я! —Должно быть, не стоит любовь мояПростого рукопожатья…Так молния разбивает дом.Так падает тень на счастье.Помедли: с Тобой, на секунду – вдвоем,Тобой завоеванный мастер.2 февраля 1935
Всё в жизни – от будущего тень
Всё в жизни – от будущего тень.Под будущее – ссуда.В извилинах времени скрыт тот день.В который Тебя забуду.О, выхвачу, как из ножен – меч.Из жизни, с собой на пару,Не выброшусь в сажень косую плеч,Но выстою под ударом!О локоть Твой – о, рука на мече! —Обопрусь – пораженный вид ТвойЧерез жизнь понесу на своем плече,Как через поле битвы.На память заучивай каждый стих.Лентяй, не узнал спросонок,Верхом на пеонах – о, сколько их! —Скачущих амазонок.2 февраля 1935
Стихотворения из писем к А. И. Корсуну
Стриж
А. И. Корсуну
В косом полете, прям, отважен,Минуя скат дворцовых крыш,В большие залы ЭрмитажаВлетел ширококрылый стриж.Он наскоро проверил стены,Ворвался грудью в пейзажИ, по знакомству, у ПуссэнаЗаснул, кляня свой вояж.Его ловили неуклонно,Стремянкой бороздили пол, —И с Александровской колонныЕго хранитель не сошел…Но стриж, что куксился забавно,Медь крыльев чуя вдалеке,Вдруг полетел легко и плавноС твоей руки к его руке.16 сентября 1938
Сонет
Прекрасны камни Царского Села:В сих раковинах – славы отзвук гулкий, —Но если б вновь родиться я могла.Я родилась бы снова в Петербурге.Его оград чугунная трава.Гранитные перевивая чурки.Вросла мне в сердце, голубее шкуркиПесца та многократная Нева.Ораниенбаум с прогнившей балюстрадой,Протёрт газон еще Петрова сада…И Павловска эпическую медьПереживу, и Петергоф тяжелый,Где воды свежи и где зреет жолудь —Но в Гатчине хочу я умереть.16 сентября 1938
Стихотворения, не включенные в сборники
Простор стихающей Невы
Простор стихающей Невы.Я у руля, гребете – Вы.Слова о розовой звезде.Круги от лодки на воде.Сказало зеркало едва.Что под глазами синева.Туман молочный над рекой.Обратный путь – рука с рукой.От белой ночи на НевеОстались: тяжесть в голове.Платка измятого духиИ бред, сложившийся в стихи.1922
En automne
Осень. Вечерний ветер.Солнечный диск высок.Плачу, влюбленный в этиВздохи засохших осок.Листья в воде Зеленой.Мраморный водоем…Холод румянит клены.Холод и в сердце моем.Смех. Силуэт. Не ты ли?Лип шелестят верхи…В парке твои застыли.С прошлого года, духи.1922
Высокий звон и говор птичий
Высокий звон и говор птичий.Неустрашимый взлет копья.Светильником в руке ДевичьейДрожит и тает жизнь моя.Какая слава медью стынет.Каким огнем мы все горим? —Я знаю: правы те, кто нынеВозводит свой Четвертый Рим.Но есть плененные ошибкой:У тех – да минет их гроза! —С мистической полуулыбкойНа мир опущены глаза.1925
Мне легла не большая дорога
Мне легла не большая дорога,А глухая медвежья тропа.Старый друг, разве мир – не берлога,Где любовь от рожденья слепа? —В эту жизнь я вошла с колыбелиКак в несытую солнцем тайгу;Рыжей белкой качалась на ели.Волчьим выродком стыла в снегу.Новолунью сердилась спросонокИ мохнатой звериной судьбе.А теперь я – ручной медвежонокУ лесничего в теплой избе.1925
Зимой не бывает горлиц
Зимой не бывает горлиц.И солнечных зайчиков – тоже:Трудно им, ласковым, прыгатьВ запушенные снегом окнаСпален, где топятся печи…А я родилась зимою;Дрожащий солнечный зайчикПо комнате вдруг забегал —И лег на детское горло:С тех пор я стала поэтом.1925
Сестрам Запада
Взгляд – усталый, в лице – ни кровинки.Ей и голод и труд – нипочем:Вижу красные крылья косынкиЗа худым полудетским плечом.Вот такою – простой комсомолкой.Сквозь машинную, мерную песнь,Над докучным мельканьем иголки —Ваша жизнь мне привиделась здесь.Сестры Запада, трудная пряжаМногих медленных лет нам дана:Помним, знамя кровавое ляжетПод рукою прилежной у нас.Слыша четкую поступь событий,Знает – времени веретеноПриведет путеводною нитьюК дням свободы и к доле иной.Так ловите ж, сквозь годы глухие,В мастерских, наклонясь, не дыша,По следам окрыленной России —Революции пламенный шаг.<1927>
Песня о Джанкое
Порох и пламя.Ремень под рукой.Шомполом в памятьИ в сердце – Джанкой.Поднято дуло.Щелкнул затвор.Пули и буриВедут разговор.Станция взмылаОгнями из тьмы.Врангель – а с тылуУдарили мы.Время качнулосьВперед и назад.По эшелонамВдогонку – залп.Вспененных далейЦокот и топ…Мы ли их гналиПод Перекоп!Кровью цвететГолубеющий ленТихих, родимыхПриволжских сторон:Слушай, за горстьВиноградной землиДесять тысяч здесьГатью легли?Слушай, годам таким —Нечет иль чет,На перевес илиНа плечо?Ветру и солнцу,Рассыпчатый, наш,Щедрой солонкойРаскрылся Сиваш.В бурных знаменахМаковый дым —Ты, окаймленныйСлавою Крым!<1928>
Нефтепровод
Земля, какая только лучшим снится.Когда б могла перелистать и яТяжелые и рыхлые страницыТвои, моя советская земля.Чтоб этой кровью, с киноварью схожей(Эпохи росчерк) – вычертить пласты,Чтоб ты навстречу встала черной рожью —Дыханьем влажным, гуще темноты.Когда горят фонтаны, то теламиИх затыкают попросту, земля,Затем, что больше нефтяное пламя,Чем жизнь людей, совсем таких, как я.И я отдам покой мой, память, друга ль,Всю боль и кровь, и эти жилы все —За ту одну, в которой жидкий угольОт Грозного бежит до Туапсе:Артерией – пока с восточной леньюНе всплыл Батум, всех галек голубей;В узде Бакинского сердцебиеньяУж слышен грохот якорных цепей.И пусть в стихи, негаданный, как каменьВ глухой затон, сбивая рифмам счет,Павлиньими разводами, кругами.Как на воду пошел нефтепровод:На музыку времен – на голос горнамПоложен отзвук городов – сердец.Чтоб этот сказ о Красном и о ЧерномНам перебил Стендаля, наконец.Б. д.
Вернись, страна, в высокий город твой
– Вернись, страна, в высокий город твой,Под купола кремлевской бурной славы,На холм времен, на пласт береговой…Но поднят щит. Укреплены заставы.А там, в бреду, всем ветрам вручена,В замшелый крест вложив персты сухие,Забыв свой путь, скитается она —Слепая. Прокаженная Россия.1931
Приложения
Приложение 1
Запись о «вторнике» «неоклассиков», состоявшемся 16 ноября 1926 г., – единственная заметка о «Вечерах на Ждановке», сохранившаяся в архиве Л.Аверьяновой; вела ли она свои записи до того или позднее, мы не знаем. В ряду уже известных воспоминаний «неоклассиков» о Федоре Сологубе эта короткая заметка, несомненно, занимает свое место. В отличие от мемуаров В.В. Смиренского, М.В. Борисоглебского и Е.Я. Данько[1] (кого, во-первых и прежде всего, интересовала личность поэта – «последнее Федора Кузьмича»), запись Л. Аверьяновой не выделяется «сологубоцентричностью». Перед нами – своеобразный «стенографический отчет» об одном из «вторников», который показался юной поэтессе интересным и достойным запоминания. Она воспроизводит «программу» вечера без каких-либо оценок услышанного и увиденного, реплики присутствовавших и реакцию на них Сологуба, передает настроения членов кружка и их отношение к происходящему в Совдепии. Благодаря этой особенности изложения ей удается воссоздать подлинную атмосферу «вторников» – кружка независимой творческой интеллигенции, сгруппировавшегося вокруг Сологуба в 1924–1927 гг.
Текст печ. по: Л.И. Аверьянова-Дидерихс. Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 г. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 555–559.
Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 года
16 ноября 1926 <года>
Я глубоко сожалею, что недостаточно умна для словесного турнира с Ф.К. Сологубом.
Я вошла (сегодня очередной в этом «сезоне» – вторник «неоклассиков») в его тепло натопленную спальню-кабинет со старинной мебелью красного дерева и синим сукном на письменном столе. Спиной к двери, в жестковатом екатерининском кресле уже сидел М.В. Борисоглебский[2]. Разговор шел о Булгакове: перед моим приходом М<ихаил> В<асильевич> рассказывал о нашумевшей пьесе последнего «Дни Турбинных», которую М<ихаил> В<асильевич> видел в Москве и которая, по его словам, производит впечатление потрясающее[3]. Ф<едор> К<узьмич> слушал холодно и только заметил, что рассказы Булгакова он знает и они ему нравятся[4], но что пьесы, которые дают 40 аншлагов и «толпа на них валит», ему обычно уже по этому одному нравиться не могут.
Когда мы на минуту остались одни, Ф<едор> К<узьмич> вдруг круто спросил: «Стихи пишете?» – «Мало». – «Напрасно, – наставительно заметил он, – надо писать много». В этот вечер он не раз возвращался к этой теме и, между прочим, рассказал, как однажды спросил его Александр Александрович (Блок), сколько у него за последний год написано стихов. «50», – наобум ответил Сологуб, на что Блок решительно произнес: «Мало».
С приходом Н.Ф. Белявского и В.В. Смиренского разговор принял другое, несколько неожиданное направление: спорили Ф<едор> К<узьмич> и я о разнице между «учителем» и «педагогом». Ф<едор> К<узьмич>, многие годы своей жизни бывший школьным учителем[5] (я думаю, что для человека его склада и ума это должно было быть ужасно), упорно утверждал, что учителю педагогом быть незачем, для него важна методика, а не педагогика, я же уперлась на том, что «с современной точки зрения» учитель не педагогом быть не может, и даже высказала мнение, что, уже само по себе, накопление и передача знаний есть одновременно самовоспитание или воспитание человека. Последнее слово осталось, конечно, за Ф<едором> К<узьмичом>.
Е.Я. Данько, а за нею и В.П. Калицкая[6] перевели разговор на тему о пособиях членам Союза писателей. В<ера> П<авловна> рассказала, что снова посетила Чарскую – и нашла ее в положении ужасном[7]. У Чарской туберкулез в третьей степени, муж ее безработный и тоже туберкулезный, средств к существованию никаких. Она всё время лежит, оживляется редко, и оживление это нездоровое, нервное. Между прочим, она рассказала В<ере> П<авловне>, сколько ей платили в прежнее время – и это разом разрушило мои представления о ее «высоком авторском гонораре»: так, за «Княжну Джаваху», создавшую ей наибольшую популярность, Вольф[8] заплатил ей – и это при продаже рукописи в собственность! – 200 рублей. И только в самое последнее время, перед войной и революцией, она стала получать 1000 р. за книгу, опять-таки при ее продаже в собственность.
В<ера> П<авловна> защищала Чарскую, уверяя, что та «непрактична», на что Сологуб едко заметил, что «практичность» здесь ни при чем. И рассказал, как однажды пришел к нему Е.В. Аничков[9] и передал, что И.Д. Сытин дает (Ф<едору> К<узьмичу>) за «Мелкого беса»… в собственность!.. 500 рублей[10]. «Я, конечно, не сказал Е.В. Аничкову, что он дурак, потому что он был очень милый человек, – но при чем же здесь практичность?!»
За чаем Борисоглебский разразился совершенно необычной историей. В день праздника милиции (это было совсем на днях, кажется, числа 12-го) на углу Морской и Невского стоял важный, представительный милиционер – «тип старого городового» – и опрашивал облюбованных им прохожих – «русские они или евреи?». Человек, шедший перед поэтом Вольфом Эрлихом[11], оказался, к счастью своему, русским и на свой ответ услышал снисходительное: «Проходи». С Вольфом же дело приняло скверный оборот. На вопрос постового: «русский ты или жид», он ответил в первый раз: «А зачем это Вам?», во второй: «еврей». Тогда милиционер, по-видимому, вконец опьяненный своим милицейским праздником и «административным», а может быть, и «патриотическим» восторгом… дал Вольфу Эрлиху «в морду» – и при этом со всего размаха. Потом повел его в милицию, нещадно лупя всю дорогу, а приведя, обвинил Вольфа в нападении первым. Однако дело выяснилось, милиционер тут же был обезоружен и уведен, и говорят, что дело будет направлено в суд.
Другая сенсация, приготовленная нам Борисоглебским, оказалась еще кошмарнее: секретарь М<осковского> о<тделения> В<сероссийского> С<оюза> п<исателей>, беллетрист Вагин был неизвестно за что арестован и затем, также таинственно, расстрелян…[12] Ходят слухи, что он был убит во время допроса; версия такая: допрос сопровождался мордобитием, и Вагин, человек горячий, осмелился дать сдачи. За это его на месте.
Воцарилось молчание. Кто-то тихо произнес: «Страшные вещи творятся кругом». «Я знаю еще два случая», – выговорила я со сжимающимся горлом. Меня просили рассказать. И я рассказала о «двойной гибели» так, как слышала это от мужа[13].
В годы военного коммунизма был арестован известный теннисист Аленицын: в ЧК – теперь это называется иначе – он повесился на шнурках от сапог. Весть эта достигла А.Л. Рафаловича, также теннисиста. Рафалович был возмущен: «как мог совершить такой поступок молодой, здоровый человек, при этом спортсмен»… Рафалович был экономистом. Без всякой задней мысли давал он сведения экономического характера за границу. Полгода спустя после гибели Аленицына он также был арестован – и в той же тюрьме повесился на подтяжках[14].
«Повесили», – мрачно сказал Сологуб. Я подумала, что и у моего мужа была эта мысль…
Помню еще, как муж мой рассказывал об аресте теннисистки Натальи Алексеевны Сувориной: она служила в одном учреждении, где могла доставать белые газеты[15]. Однажды она дала их почитать Бруно Шпигелю – известному и сейчас теннисисту[16]. У того был обыск; нашли газеты; и он показал на Н.А. Суворину… Ее арестовали. Из тюрьмы она так и не вышла, умерла от дизентерии…
Е.Я. Данько поразила меня вестью о том, что еще в прошлом году сослан в Уральск Виталий Бианки[17]. Оказывается, он был когда-то эсером и даже в белой армии, но имел по возвращении сюда покровительство Лилиной[18] и ее честное слово, что с ним ничего не случится. Теперь, однако, Лилину «убрали», а с нею и старые грехи ее «протеже». В. Бианки находится в ужасных для интеллигентного человека условиях: без книг, без правильно доходящих писем. «Черта оседлости» оторвала его от природы, а ему, зоологу, писавшему из личной практики все «звериные» и «лесные» истории в отделе детских журналов, это невыносимо – тяжело. В<ера> Н<иколаевна> приехала сюда[19], чтобы иметь возможность посылать ему книги: никакие письменные ходатайства в учреждениях, с которыми он был связан, не действовали.
Во время чая вошел Ю.Н. Верховский[20]. Его пышная шевелюра и густая черная борода – сильно «поповская» внешность, и только не по-священнически умное лицо ее спасает – разом разрушили мое воображаемое представление об его облике. Перешли в кабинет. Доклада, в собственном смысле этого слова, не было; помню немногие мысли Верховского: «поэзия Ломоносова, параллельная Елисаветинскому стилю в архитектуре, раскрывается нам во всей полноте только тогда, когда мы ее мысленно свяжем со стилем этой эпохи». Это очень хорошо, очень верно.
Потом Борисоглебский вернулся к своему «коньку» – «Дням Турбиных». Он сказал пламенную речь, любопытным местом которой явился рассказ о том, как Блюм (из Главреперткома) ни за что не хотел разрешить эту пьесу[21] и, чтобы добиться своего, согнал на закрытый просмотр до 1000 коммунистов, из которых половина была – женщины-делегатки в красных платочках; и как, не успев просмотреть и трех картин, вся эта публика ревела и обтирала слезящиеся морды!.. Блюм был в отчаянии, но пьеса всё же была разрешена к постановке, хотя Совнарком ограничил ее существование только 1 сезоном и только в Московском Художественном театре[22], на всю Россию…
Верховский, разбирая формы современного искусства, заметил, что «большой формой» для драматургии явится мелодрама, к которой она сейчас приближается. Сологуб возразил, цитируя успех «Дней Турбинных», что «большой формой, пожалуй, явится историческая хроника, наподобие шекспировой». Он связывал свое предположение еще вот с чем: «придрался» к словам Борисоглебского, что «Дни Турбинных», безусловно, не смогут быть так же глубоко воспринятыми зрителями, не перенесшими нашей революции, как нами, ее перенесшими, и оттого произведение, могущее «устареть», не является высокохудожественным… по форме же и трактовке сюжета «Дни Турбинных» представляются ему именно исторической хроникой – и ничем иным. А если публику привлекает не историчность, а «общность переживаний» с рампой и только-то. грош ей, пьесе, цена.
На этом ставлю точку, оттого что всё переврала и спать хочу смертельно.
Приложение 2
Деятельность Л.И. Аверьяновой в качестве переводчицы Интуриста и Ленинградского отделения ВОКС'а – Всесоюзного Общества культурной связи с заграницей (основано в 1925 г.) до настоящего времени не изучена, хотя, несомненно, заслуживает пристального внимания. Работа с зарубежными гостями занимала в ее жизни важное место и продолжительное время – в общей сложности около десяти лет (1927–1936). Думается, что анализ документов как самого ВОКС'а, так и связанных с его деятельностью структур, за период занятости поэтессы в этой организации, помог бы прояснить неизвестные или всё еще остающиеся загадочными стороны ее биографии. Подобное исследование – задача будущего, и, тем не менее, мы сочли целесообразным воспользоваться несколькими документами архива ВОКС'а в качестве иллюстрации профессиональной жизни Л. Аверьяновой и характеристики круга ее общения. В частности, немалый интерес представляет циркуляр о посещаемых объектах и лицах, их курирующих. Приводим сведения из циркуляра, составленного уполномоченным ВОКС'а М.А. Орловым от 17 окт<ября> 1936 г. на имя Заведующей Секретной Частью ВОКС'а тов. Куресар: