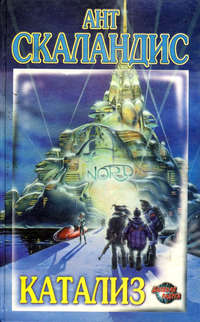
Катализ
– Но это же знаменитая концепция Сенклю, – хмыкнул Черный. – «Добровольная и принудительная селекция вида гомо сапиенс» – так, кажется, называлась эта статья?
– Да, – сказал оживившийся Станский, – но Любомир излагает по-своему. Так что я бы назвал это концепцией Цанева. А ты молодец, Рюша, помнишь еще наши дискуссии.
– Подумаешь, – ответил Черный, – продержать в памяти фамилию крупнейшего французского социолога и название его скандальной статьи в течение каких-то ста пятнадцати лет! Раз плюнуть.
И тут они вспомнили, что направлялись к лифту. В лифте тоже не обошлось без приключений. В кабину к ним вошла та самая девушка в кожаном с медью костюме. Любомиру она улыбнулась, как старому знакомому, но разговаривать была явно не намерена. Женька отметил про себя, что в глазах ее промелькнуло что-то необъяснимо странное, если не сказать, жуткое. Свой этаж девушка не назвала, и Черный растерянно произнес:
– Нам на двенадцатый.
После чего лифт бесшумно тронулся.
И вот тогда девушка, стоявшая в углу, закрыла глаза и стала медленно оседать на пол. Это было так неожиданно, что ни один из четверых даже не успел еще ничего сказать, когда лифт внезапно остановился, двери открылись, и вошли двое парней в джинсах и коротеньких курточках, точь-в-точь таких, какие носили сто пятнадцать лет назад. Парни перекрестились, потом очень грубо подняли девушку под мышки, с непонятной тщательностью изучили ее часы и, совершенно не обращая внимания на стоящих в лифте пришельцев, шагнули в дверной проем. Цанев первым вышел из оцепенения и, еще не придумав, что сказать, просто схватил одного из парней за рукав. Тот обернулся и произнес несколько слов на незнакомом языке.
– Что с ней? – спросил Цанев по-русски.
– Глупый вопрос, – по-русски ответил парень. – Она мертва.
– Вы что, врач?! – обозлился Цанев. – Может быть, ей просто стало плохо.
Парень выразительно постучал себя пальцем по голове, причем было ясно, что за сто пятнадцать лет смысл этого жеста изменился не слишком, а его спутник повернулся и, равнодушно двигая челюстями (он что-то жевал), коротко и непонятно выругался. После чего оба вышли на этаж и, не оглядываясь, поволокли недвижное тело по коридору. Двери лифта сомкнулись.
– Двенадцатый, – повторил Черный.
Кнопок в кабине не было, и он уже понял, что лифт воспринимает голос.
– Напьюсь, – сказал Любомир и в бессильной ярости сжал кулаки на лямках рюкзака.
– Все напьемся, – мрачно откликнулся Черный. – Только сначала я хочу избавиться от этой винтовки. Вы себе не представляете, как мне хотелось выстрелить! И не потому, что я собирался убить его. А просто, чтобы меня и мою винтовку, наконец, заметили, просто, чтобы расшевелить это болото!
– Ну, убил бы ты одного, – спокойно сказал Станский, – а второй поднял бы его и, не сказав ни слова, выволок бы из лифта два трупа.
– Сумасшедший дом, – сквозь зубы процедил Черный.
– Что-то вроде, – серьезно согласился Станский. – Думается, Норд – не совсем обычный город.
Дежурного на этаже не было. Не было и столика для дежурного. А у двери с номером 1233 они сразу поняли, как обращаться с ключами: вместо замочных скважин здесь были прорези для жетонов, как в метро. С противоположной стороны двери жетон падал в специальный карман.
– Подумаешь, «двадцать первый век»! – проворчал Цанев.
– Стиль «ретро» – предложил Женька.
– Именно, – подтвердил Станский. – Про что я и говорю, мужики. В концепции нашего эскулапа Цанева мне нравится то место, где он определяет Норд как резервацию для размороженной сволочи. Похоже на истину. Здесь слишком много примет нашего времени, а объяснение предельно просто: они и есть наши современники, и среди здешнего золота, хрусталя и мотоциклеток на воздушной подушке смотрятся идиотами. Ну, а на большой земле все иначе. Не верю, что весь мир такой.
– А я верю, – сказал Черный. – Все очень естественно. Катаклизм двинул вперед экономику, а нравственность, как водится, отбросил назад. И вот через сто лет у них всепланетное изобилие, в котором живут зажравшиеся свинки. Нет, хуже – жестокие, равнодушные моральные уроды. Уай нот? Как говорит Цанев.
– Чудовищный пессимизм, – заметил Женька, – дремучий пессимизм.
– И между прочим, тоже не ново, – сказал Станский. – В наше время такое будущее пророчил людям американец Стейнбридж.
– Слушайте, философы, сейчас я кого-нибудь пристукну, – Любомир стоял уже голый на пороге ванной в предвкушении горячего душа. – Давайте все делать быстро. Жрать хочу.
– Погоди, Цанев. А как ты думаешь, – спросил Женька, – эта девушка в лифте, она была мертвая?
– Я думаю, – раздельно и зло произнес Цанев, – что мы этой девушке ничем помочь не могли.
И хлопнул дверью.
– Не зли эскулапа, Евтушенский, – посоветовал Черный. – Думаешь, ему легко?
– А думаешь, мне легко?! – взорвался Женька.
– Всем трудно, мужики, – встрял Эдик. – Не надо ссориться.
Ссориться нам нельзя. Нас только четверо, и мы должны держаться вместе. А ты, Женька, вообще помалкивал бы. По законам двадцатого века ты – преступник. Не забывай об этом.
А Женька и впрямь уже забыл о своей выходке там, в далеком прошлом, о выходке, давшей начало всей этой страшненькой истории.
А, впрочем, такая ли уж она страшненькая? Так ли уж плохо, что они попали сюда, они – четверо несчастных детей больного века, которым нечего было терять. Еще спасибо скажут за экскурсию в будущее. А то – ишь, раскудахтался: преступник! преступник! Псих гениальный.
Но вслух Женька ничего не ответил Эдику, и тот не стал продолжать.
– Здесь есть второй душ, – поведал Черный. – Я пошел.
8
В ресторан они пришли как раз вовремя. Вот-вот должна была начаться вечерняя программа варьете. Об этом сообщил официант в белоснежном костюме с зелеными отворотами, который проводил их за свободный столик в центре зала почти у самой эстрады и очень скоро вернулся с меню в руках. В меню обнаружилось много знакомых названий, и настроение у четверки пришельцев из прошлого начало резко улучшаться. Ресторан «Полюс» вообще оказался удивительно симпатичным с его изысканным обслуживанием по высшему разряду, с его приятными белыми столиками и удобными мягкими темно-зелеными креслами и диванчиками, с его изумрудными коврами, похожими на поросшие травой дорожки, и большой зеркальной площадкой для танцев, с его радужно искрящимися люстрами, с его белыми и ноздреватыми, как весенний снег, стенами, с его роскошной, мощной, в три обхвата, уходящей в пол и потолок «земной осью», сияющей чистым золотом. Ось расположена была точно в центре зала, а вокруг оси ходили три белых медведя, старательно терлись об нее боками и то и дело норовили встать на задние лапы, словно хотели лечь спиной на золотую поверхность, и ось поворачивалась, как бы вращаемая ими, и звери были такие настоящие, что Черный даже пошутил:
– Эх, жаль винтовку в номере оставил!
А Женька смотрел на медведей и не мог отвести от них взгляда.
Внимание его друзей уже переключилось на меню, Любомир громко зачитывал наименования понятных и непонятных блюд, а Женька слушал вполуха и все смотрел и смотрел на ось и на медведей.
«Не может быть, я просто схожу с ума. Ну, при чем здесь песня шестидесятых годов. Вон ребята даже и не вспомнили. Ну, ось, ну, медведи, ну и что? Элементарное совпадение».
И тут зазвучала музыка. И Женьку бросило в дрожь. Волшебные ноты простой, но прекрасной мелодии Зацепина нельзя было спутать ни с чем.
Где-то на белом свете,Там, где всегда мороз,Трутся спиной медведиО земную ось.Мимо плывут столетья,Спят подо льдом моря,Трутся об ось медведи,Вертится земля…Черный, Станский и Цанев замерли и перестали говорить. Строки старой песенки били не в бровь, а в глаз, словно сочиненные только что. После припева вновь зазвучал первый куплет, но теперь уже на английском языке.
– Ты смотри-ка! – сказал Эдик. – И через сто лет живы песни нашей юности. Кто бы мог подумать!
– Женькина любимая, – вспомнил Черный. – Специально для него заводили. А помнишь, Евтушенский, как Светка под эту песенку отплясывала?
А песня звучала уже по-французски, потом по-испански. Потом – на каких-то восточных языках. И Женька понял, что здесь это нечто вроде позывных к началу программы, нечто вроде гимна отеля «Полюс», а может быть, и города Норда. Но почему? Ведь не для того же раскопали эту древнюю песню, чтобы теперь поиздеваться над ним, над Женькой, сбежавшим из настоящего в будущее, а оказавшимся в прошлом, в благословенных шестидесятых – с Крошкой Ли, так похожей на «кавказскую пленницу», с чудной песенкой, принадлежащей той эпохе… Необходимо было узнать, в чем тут дело.
Женька встал и подошел к соседнему столику.
– Простите, я впервые в Норде. Вы не смогли бы объяснить мне, почему здесь исполняется именно «Песенка о медведях»?
– Как, вы не знаете?! – воскликнул курчавый юноша в смокинге, явно рисуясь перед своей спутницей.
Он оказался из той породы людей, которым доставляет истинное удовольствие выдавать какому-нибудь простаку общеизвестные вещи за сногсшибательную новость. И Женька узнал, что по результатам компьютерного анализа еще в 2001 году «Песенка о медведях» 1966 года была признана лучшим шлягером всех времен и народов по разряду песен, имеющих отношение к полярной тематике. Женька воспользовался случаем и как бы невзначай спросил:
– А Норд-то в каком году построили? (Дескать, вечно я забываю эту дату).
Курчавый ответил обстоятельно:
– Начали еще в прошлом веке, а закончили в 2025-ом.
Потом он подманил Женьку пальцем и шепнул ему на ухо:
– Вы что, юный квазист?
– Нет, – сказал Женька и соврал. Он просто еще не знал тогда, что все они четверо по сути дела юные квазисты.
– Ну что, забавно? – спросил Женька, изложив весь свой разговор друзьям.
– Впечатляет, – сказал Черный. – Чем дальше в лес, тем больше дров.
Принесли водку и коньяк в графинчиках, две бутылки вина, закуски.
На круглой эстраде, охватившей кольцом ось с медведями, шло яркое эстрадное представление с песнями, танцами, трюками, полуобнаженными девочками, то и дело сбрасывающими еще какие-то предметы своего туалета. И было оно в общем достаточно заурядным. Гости из двадцатого века отметили, разумеется, достоинства аппетитных фигурок танцовщиц «Полюса» и их безусловное мастерство, но мастерство поваров произвело на них более сильное впечатление, и, когда на сцене происходили не совсем понятные вещи или на вполне понятные вещи в зале возникала странная реакция, они поначалу не придавали всему этому значения. Фантазия дельцов шоу-бизнеса всегда была неисчерпаемой, а люди с годами меняются.
Но потом отдельные моменты в выступлениях артистов стали навязчиво повторяться, и не заметить это было уже невозможно.
Например, фокусник-иллюзионист жонглировал оранжевыми, похожими на апельсины мячами, которые внезапно прямо в его руках стали превращаться в этакие ящички наподобие портативных магнитофонов, ящички в свою очередь незаметно подменялись серебристыми, размером со спортивное ядро шарами, и, наконец, те вновь становились оранжевыми. Их фокусник один за другим ронял в отверстие в полу, а последний шар, оставшийся в его руках, оказывался настоящим апельсином, и под восторженные крики публики артист чистил его и съедал несколько долек.
Конечно, фокусник работал красиво, но чувствовалось, что экзальтация толпы не пропорциональна мастерству артиста и связана с чем-то еще.
Самое интересное началось, когда под рев, топот и визг на сцену выбрался из люка (а именно так появились и все остальные выступавшие) худощавый парень в линялых джинсах, трепаных кроссовках «Арена» и майке с эмблемой Олимпиады-80. Была у него короткая стрижка, темная бородка клинышком под Иисуса Христа и большие карие глаза.
– Витька! – невольно вырвалось у Черного.
Конечно, это был не Витька, но, черт возьми, кривлявшийся на сцене артист, как две капли воды, походил на Витьку Брусилова.
– Брусника, – прошептал Женька.
– Помер наш Брусника, – отозвался Любомир.
И, не говоря больше ни слова, все четверо дружно опрокинули свои рюмки.
А меж тем лже-Брусилов отплясывал на сцене сумасшедший танец.
Изломанные движения были красивы и страшны одновременно. И чем больше Женька смотрел, тем лучше понимал, что никакой это, конечно, не Брусника, да и похож-то весьма относительно, так, наваждение одно, ностальгия, тоска по прошлому.
Внезапно сверху свалился огромный апельсин, и похожий на Витьку артист замер перед ним в нелепой позе. А кожура апельсина раскололась с треском на несколько долек, и вместо мякоти, как в старой итальянской сказке, внутри оказалась ослепительной красоты девушка в белоснежном купальнике. И она была страшно похожа на Светку, но это уж, конечно, с пьяных глаз, все они, красивые, на Светку похожи.
Вдруг все на сцене и в зале сделалось черно-белым.
Монохроматические лампы врубили, догадался Женька, но от догадки этой легче не стало. Разум захлестывало ощущение ирреальной жути.
Красавица из апельсина изламывалась еще ужаснее, чем лже-Брусилов, и медленно наступала на него, выбрасывая вперед скрюченные ноги и руки. И лже-Витька дергался, сгибался, корчился и, наконец, упал.
И тогда освещение стало ярко-оранжевым, а из раскрытого апельсина одна за другой начали выходить изящные девушки в легких платьицах, и каждая несла в руках давешний ящичек, точь-в-точь такой же, каким жонглировал фокусник. Они танцевали вокруг лежащего ничком артиста, а потом поставили на пол свои ящички и, не прекращая слаженных ритмичных движений, принялись срывать с себя одежду и заталкивать ее в эти самые ящички, и оттуда повалил густой дым и стал обволакивать оранжевыми клубами уже почти обнаженные тела девушек, и те начали задыхаться, хватаясь за горло, качаясь, скрючиваясь, падая, а лже-Брусилов вскочил и метался меж ними…
Потом на несколько секунд стало совсем темно, а когда сцена и зал вновь возникли во всем многоцветье, на эстраде порхали стройные девушки в зеленых пачках и с букетами цветов в руках.
– Вы что-нибудь поняли? – поинтересовался Черный, возвращаясь к тарелке.
– Я понял, что все это неспроста, – изрек Станский.
– Ты необычайно проницателен, – сказал Любомир.
Следующий номер начался под звуки бравурного марша, видимо, хорошо известного собравшимся в ресторане. Уже самые первые аккорды были встречены аплодисментами и одобрительным гулом. На сцену выбрался все тот же любимец публики, только теперь он был во фраке, белоснежной манишке и лаковых штиблетах. И размахивал дирижерской палочкой. Откуда-то с потолка, с преувеличенным свистом разрезая воздух, брякнулся на эстраду неизменный волшебный ящик – любимый атрибут здешних артистов. Лже-Брусилов взмахнул своей палочкой, и маленький ящичек, казавшийся до этого металлическим, начал раздуваться, словно резиновый. И чем сильнее он раздувался, тем лучше была заметна его хитрая конфигурация: он то терял форму параллелепипеда, то обретал ее вновь, и в итоге оказался открытым с двух боков, а сверху имел углубление круглой формы. Все углы сгладились, поверхность огромной теперь коробки сияла голубовато-серым металлическим блеском, а сечение черных провалов по бокам было достаточным, чтобы зайти в них, лишь слегка пригнувшись, что артист и делал время от времени в процессе своего дурашливого танца. И когда все зрители поняли, что он надувал ящик именно для того, чтобы в него залезть, лже-Брусилов поклонился и изящным жестом вызвал на сцену ослепительную красотку, ту же как будто, что появилась из апельсина, а может быть, просто все они были на одно лицо. Красотка в брюках, плаще и с сумкой через плечо, танцуя, приблизилась к лже-Брусилову, и тот, поцеловав ее в щеку, указал палочкой на черный проем, оказавшийся чем-то вроде шторок, за которыми она и исчезла. Музыка прекратилась. Артист взмахнул палочкой и замер, раскинув поднятые руки, как черные крылья. Под барабанную дробь, звучащую все громче и громче, резиновый ящик начал мелко дрожать, и девушка в плаще, вошедшая в него слева, выскочила теперь справа с несколько ошалелым видом.
Публика почему-то была в восторге, а для четверки путешественников суть этого фокуса стала ясна лишь через несколько секунд, когда из левой половины ящика вышла точно такая же красотка, очень похожая внешне и так же одетая. Было это в общем довольно глупо, но всем нравилось, и спектакль с успехом продолжался. На левую красотку, скромно вставшую возле входа в ящик, лже-Брусилов никакого внимания не обратил, правая же – повергла его в величайшее уныние.
Артист запрокинул голову, карикатурно, со стоном обхватил ее руками, и со звуком молота, бьющего по пустой цистерне, врезался лбом в стенку своего ящика. И это, пожалуй, было действительно смешно. Тут же, как по сигналу, левая девица вошла обратно сквозь шторки, а правая быстро и весьма изящно вскарабкалась наверх и скрылась в углублении, после чего послышалось бульканье и шипенье, вызвавшее взрыв смеха в зале. Лже-Брусилов сделал несколько отчаянных пассов руками, музыка опять смолкла, и под барабанную дробь снова затрясся серебристый ящик. Красавица, выскочившая справа, была теперь в джинсах, в футболке и босиком. А слева вышла со скучающим видом все та же, в плаще.
– Ну, братцы, – сказал Станский, – такого сверхоригинального стриптиза я еще ни разу не видел!
Женька обозлился: ишь, специалист по стриптизам! Можно подумать, что за две недели симпозиума в Дортмунде Станский обошел все тамошние ночные рестораны. Пижон! Почему-то Женьке очень не хотелось верить, что это просто стриптиз. Но события на сцене развивались бурно, спорить было некогда, хотелось побольше увидеть, услышать, прочувствовать. И хотелось побольше понять. Черт возьми, сквозь все низменные, свинские инстинкты пробилось-таки и это лишь человеку свойственное стремление – понять. И Женька смотрел во все глаза и думал, думал, думал.
В новом наряде лже-Брусилов принял свою красавицу спокойнее, но все-таки опять в отчаянии ударился лбом о стенку, и девице пришлось вновь исчезнуть в ящике, запрыгнув в него на этот раз рыбкой, и что-то вновь булькало и хлюпало, словно огромная раковина всасывала в себя воду.
На третий раз красотка оказалась в колготках и рубашке, завязанной на животе узлом, а в ящик прыгнула красивым, профессионально отработанным флопом. В четвертый – на ней был лишь бикини ярко-розового цвета, а скрытый в полу трамплин позволил сделать сальто, прежде чем упасть в ящик. В остальном все было так же. А вот пятое появление стало сюрпризом: красотка вышла в золотистом скафандре, таком, как был на Юхе, подруге Ли. И зал ответил на это шквалом аплодисментов, криками, пальбой из хлопушек, – словом, радостью небывалой. Женька растерялся, все мысли его спутались, и что-то говорил Станский, и Черный упрямо раскрыл рот, но ничего не было слышно.
А лже-Брусилов в ответ на скафандр изобразил гнев и ярость: подпрыгивал, топал ногами, рвал на себе волосы, клочьями бросая их на пол, а под занавес огреб в охапку прекрасное золотистое тело и собственноручно запихал его в ящик сверху.
От шестого же выхода Женьку бросило в жар.
Да, танцовщица была очаровательна даже в плаще, да, тело ее было само совершенство, да, в колготках и, тем более, в бикини она не могла не возбуждать, но все это были детские игрушки рядом с ее шестым выходом. Рядом с шестым выходом этой королевы секса казались смешными и несерьезными все самые блистательные танцы Светки, все когда-либо виденные Женькой эротические сцены в кино, наконец, все, что он успел увидеть и нафантазировать здесь, в Норде.
Наготу танцовщицы прикрывали теперь лишь две ярко-салатовых звездочки на сосках, да такого же цвета узкая полоска ткани между ног. Но не это было главным. Главным были ее движения, ее позы, жесты – невероятные, неподвластные уму, гипнотизирующие.
И лже-Брусилов упал на колени, издав вопль восторга, и на коленях пополз к ней. И вот тогда в шестой раз безропотно вышедшая из ящика слева девушка в плаще подошла к коленопреклоненному артисту и, подняв его за шиворот, под веселый смех публики подтащила к ящику и затолкала туда же, где исчезали все ее «двойняшки». И снова было бульканье, а обнаженная продолжала танцевать как ни в чем не бывало. Потом та, что в плаще, взяла и проткнула пальчиком пресловутый ящик, и он стал со свистом сдуваться, сморщиваться, а обнаженная все танцевала, и, наконец, волшебная конструкция легла грудой серебристого тряпья у ног девушек, и тогда в зале погас свет.
Вспыхнул он уже при пустой сцене. Только белые мохнатые звери все так же монотонно вращали ось, и тихо, будто откуда-то очень издалека, быть может, из прошлого века, доносилась мелодия «Песенки о медведях».
9
Любомир наполнил рюмки, и они выпили, молча и не чокаясь. Выпито было уже немало, но хмель не брал их. Или почти не брал.
– Никто не желает прогуляться в сортирное заведение? – спросил Женька.
– Пошли, – сказал Цанев.
Петляя между столиками, они прислушивались к разговорам. Здесь объяснялись на разных языках, в том числе и абсолютно незнакомых, но русский был все-таки очень популярен в Норде, и фразы на нем то и дело слышались отовсюду.
– Кротов сегодня будет здесь. Я тебе точно говорю. Кротов…
– … потрясающее впечатление. Она выходит из воды вся в грязи…
– Представляешь, он прямо так подваливает ко мне и говорит:
«Оранжисточка ты моя…»
– Куда ведет сценический прогресс, этого еще никто не знает…
– … разговаривать с человеком, который не может отличить зеротан-А от зеротана-Б…
– Действительно, – тихо сказал Любомир, – о чем можно говорить с таким человеком.
Женька грустно хмыкнул.
Они уже входили в сверкающий белизной и зеркалами туалет.
– … так что я не против грин-блэков в принципе, но методы!..
– Сибр твою мать, прости Господи, но это же бардак!..
– … эти антисеймерные шоу. Они, по сути, превращаются в антибрусиловские. Противно…
«Вот именно, – подумал Женька. – Антибрусиловское шоу».
И тут же: «Что?!!»
Он чуть не бросился догонять говорившего, но тот уже скрылся за дверью.
– Слышал? – спросил Женька у Любомира.
– Что? – не понял Любомир.
– Про Брусилова.
– Про Брусилова – только от тебя.
И Женька понял: Цанев ничего не слышал. Может быть, и не было ничего.
– А что такое? – спросил Любомир.
– Да так, зеротан-Б, зеротан-А, лабуда всякая.
«Схожу с ума, – думал Женька в панике. – Антибрусиловское шоу и артист, похожий на Витьку. Впрочем, Брусиловых на свете много.
Ведь так? Ну, а эта секс-бомба? Вылитая Светка. Может, Цанева спросить? И ведь еще не пьян. Антибрусиловское шоу… Зеротан-Б…
Сибр вас пересибр! Господи, какой еще сибр?! Схожу с ума».
И снова со всех сторон доносились русские слова:
– Пей до дна! Пей до дна!
– Апельсины только резиновые…
– … говорить по большому счету, Конрад, конечно, не дурак…
– Мамочка, куда же ты пресся?
– А вот и наши сортирные гуляки. Ну, как оно там?
Спрашивал Черный.
– Нормально. Все сделано под старину, – сказал Цанев. – Двадцатый век.
– А вообще очень чисто, – добавил Женька, – и свежайший воздух.
– Предлагаю тост за чистоту сортиров, – провозгласил Цанев.
И тут подошел официант.
– Господа желают чего-нибудь?
– Принесите, пожалуйста, сигарет, – попросил Женька.
– Марка? – спросил официант.
– «Чайка», – брякнул Женька, почему-то вдруг вспомнив детство, школьный двор, майский солнечный день и сигарету «Чайка», одну на троих, которую он тайком стянул у отца.
Официант записал. Потом наклонился над столом очень низко и шепотом спросил:
– Господа не зеленые?
– Нет, – решительно сказал Черный.
– Я так и подумал, – официант расплылся в улыбке. – Тогда могу вам предложить восхитительный деликатес, который есть сегодня в меню – девичьи соски, обжаренные в оливковом масле.
Женька поперхнулся. Цанев приоткрыл рот. Черный смешно хлопал глазами. Станский переспросил:
– Какие, простите, соски?
– Девичьи, – повторил официант все тем же шепотом. – Соски девушек шестнадцати–семнадцати лет. Это лучший возраст, – пояснил он. И видя странную реакцию гостей «Полюса», счел нужным добавить: – Господа пугливы. Я понимаю. В случае чего говорите, что это… ну, я не знаю… пикадульки, что ли, или горох. Хорошо? А вообще имейте ввиду, мы почти не нарушаем закона. Мы получаем соски в виде консервов. Мы не любим рассказывать об этом, но раз уж господа так пугливы… Так что же? Я слушаю вас.
– Давайте соски, – сказал Станский.
– Четыре порции? – поинтересовался официант.
– Три, – сказал Станский, поглядев на белого, почти как столик, Женьку.
– Я тоже не буду есть, – сквозь зубы процедил Черный, когда официант уже ушел.