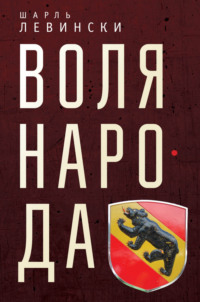
Воля народа
И вот…
Он был слишком тепло одет для летней погоды: под пиджаком ещё пуловер. Но Вайлеману не показалось, что капли пота на лбу Дерендингера выступили от жары. То был холодный пот на бледной коже. И глаза его метались из стороны в сторону, будто он хотел удостовериться, что никто за ним не наблюдает. Когда он, наконец, что-то сказал, всё ещё пялясь на шахматные фигуры, его слова вообще были лишены смысла.
– Интересная расстановка, а?
Как будто знатока корчил из себя человек, который без шпаргалки не помнил, как ходят фигуры. Нет, слово «чудак» было недостаточно для его характеристики. С Дерендингером стряслось, как видно, нечто худшее, и нетрудно было отгадать, что именно. В интернете – разумеется, на такие вещи поглядываешь, даже если не хочешь, – было достаточно описаний этого расстройства. «Неумолимый Алоиз», так они называли Альцгеймера тогда, когда диагноз был ещё в новинку.
– Напоминает мне ту партию в Цолликоне, – сказал Дерендингер, по-прежнему не глядя на него.
Вайлеман не мог припомнить, чтобы когда-нибудь был в Цолликоне. Полностью исключить это он не мог, ведь он отыграл множество местных турниров, а позже все они смешались в голове. Но если и бывал, то Дерендингера там точно не могло быть.
– Ну, ты помнишь. Та игра, чёрным был мат ещё до того, как белые сделали первый ход.
– Что-что?
– В шахматном клубе на Альте Ландштрассе. – Он подал ему знак, как заговорщик в плохом фильме, глазами и всем лицом, и повторил ещё дважды: – На Альте Ландштрассе, на красивой Альте Ландштрассе.
В голове у Вайлемана что-то шевельнулось, не прямое воспоминание, а лишь что-то схожее. Воображение, разумеется. Несколько лет назад он написал статью об этом механизме: достаточно спрашивать человека о чём-то довольно долго – и рано или поздно ему будет казаться, что он действительно это пережил. Иногда он может даже описать это, во всех подробностях. Но шахматная партия в Цолликоне? Нет, вот уж нет.
– О чём ты, вообще, говоришь?
Дерендингер не отвечал, всё ещё пялясь на игровое поле, где вот уже несколько минут не происходило ровно ничего. Белые не могли решить, то ли взять чёрного слона, то ли нет. Типичный дилетант, зачем он так играл, если не хотел размена слонов?
– Эй! Есть кто-нибудь дома?
Дерендингер вздрогнул. Он жестом подманил Вайлемана ближе к себе и пробормотал – так тихо, что тот еле слышал:
– Цолликон, Киловатт. Погугли, если не помнишь. Была тогда одна большая история. Во всех газетах.
Свихнулся, жаль. Как правило, Алоиз прокрадывается в мозги незаметно, но к Дерендингеру он, похоже, вломился с фомкой. Если человек вспоминает дела, никогда не происходившие, то не надо быть членом швейцарского объединения медиков, чтобы знать, что с ним стряслось. Дерендингер никогда не был ему особо симпатичен, но уж интеллект у него было не отнять. И вот он расфантазировался на всю мировую историю. Не противоречить, это самое лучшее в таких случаях. Кивать и улыбаться. И сматываться как можно быстрее.
– Ты должен провести расследование, – лопотал Дерендингер. – Проиграть всю партию ещё раз от начала до конца.
– Я сделаю, – сказал Вайлеман. – С первого хода до последнего.
Не возражать.
– Правильно. Поверь мне: получится очень интересная статья.
Ещё бы. Заметка о шахматной партии, которой никогда не было – да ради этого любая газета освободит тебе титульную страницу.
– Я позабочусь об этом, – сказал Вайлеман и сам заметил, насколько притворно звучит его голос. – Обещаю. Но сейчас мне уже пора, к сожалению. У меня ещё одна встреча.
Видимо, врал он не очень убедительно, взял неверный тон, поскольку Дерендингер с нарастающим волнением вцепился ему в рукав.
– Ты правда должен это сделать, – говорил он, и это опять звучало умоляюще, совсем как по телефону сегодня, – это важно. Нет вообще ничего более важного, поверь мне. Во всей Швейцарии нет ничего более важного. И поговори с Лойхли.
– Лойхли?
– Который тогда организовал турнир.
– Разумеется, – солгал Вайлеман. – Лойхли. Теперь я припоминаю.
– Хорошо, – сказал Дерендингер. – Вот и хорошо.
Белые, наконец, решились на размен слонов. В общей суматохе, пока оба игрока таскали свои фигуры, а зеваки отпускали свои комментарии, Дерендингер сунул руку в карман своего пиджака.
– Вот, – сказал он. – Чтобы ты не забыл.
Он вложил что-то в ладонь Вайлемана, что-то мелкое, остренькое, больно впившееся ему в кожу.
– Эй! Что это?
Но Дерендингера уже не было рядом. Как сквозь землю провалился, подумал Вайлеман и разозлился на себя за то, что его голова производит такие штампованные формулировки. В статье он бы вычеркнул эти слова и поискал бы более оригинальный образ. Ему пришлось довольно долго озираться, пока он не увидел Дерендингера уже на некотором отдалении – тот прокладывал себе путь сквозь толпу китайских – или японо-корейских – туристов, пока не скрылся из поля зрения за источником Хедвиги. Этот памятник недавно отреставрировали, о чём Вайлеман вспомнил только сейчас; фигура женщины в доспехах, свежеотполированная, блестела в предвечернем солнце. Всё, что было связано с патриотическими подвигами, рано или поздно реставрировалось.
Догонять Дерендингера не имело смысла, да Вайлеман и рад был избавиться от него. С такой-то кашей в башке… Он отошёл от шахматистов и заспешил к одной из парковых скамеек, которую только что освободила молодая парочка. Долгое стояние на ногах плохо сказывалось на его тазобедренном суставе.
Психи любят делать странные подарки. В одном интервью правительственный советник рассказывал, что одна женщина, совершенно незнакомая, каждую неделю посылала ему бумажный цветок, искусно вырезанный и склеенный из газетной бумаги. Колючий предмет, который Дерендингер сунул ему в ладонь, оказался одним из тех значков с гербом кантона, которые вошли в обиход пару лет назад, и теперь почти каждый носил на лацкане пиджака герб своего кантона, но сам Вайлеман – нет, он в принципе отвергал все явления моды. На эту тему он тоже в своё время поругался с Маркусом. Значок был с гербом Берна, и это означало, что значок не мог изначально принадлежать Дерендингеру, ведь носили значки своих родных кантонов, а Дерендингеры, как следовало из самой фамилии, происходили из Золотурна. Игла значка заржавела, то есть вещь была не новая. От эмали отломился маленький кусочек: у бернского медведя теперь отсутствовал красный язык. Должно быть, Дерендингер где-то подобрал значок и в своём безумии принял его за что-то ценное.
Вайлеман уже хотел выбросить подарок, но мимо как раз проходили двое этих голубых дружинников «допопо», а ему не хотелось платить штраф за «littering». Вообще-то даже странно, что они всё ещё используют эти английские выражения, притом что чураются всего иностранного. Но как бы ни называлось нарушение порядка, герб кантона нельзя было просто так швырнуть на землю, не то наживёшь неприятности. И он сунул значок в карман и закрыл глаза. Ещё минут десять погреюсь на солнце, подумал он. Время у него было.
4
Кровать была удобной, и Вайлеман её за это ненавидел. Это был недобрый знак, что тебе вдруг потребовалась такая удобная кровать; когда он был ещё молод, он спал в палатке на голом полу, ему и термическая подстилка не требовалась. А теперь ему пришлось заказывать эту больничную кровать, правда, они её так не называли, но в принципе это было ничто иное, как больничная кровать, кровать для дома престарелых, кровать модели «Следующая остановка – кладбище». Но удобная, это надо признать. Когда он устанавливал её в правильную позицию, он почти не чувствовал свои тазобедренные суставы, а если поднять верхнюю часть, кровать превращалась в удобное кресло для телевизора.
К сожалению, телевизионную программу не настроишь так, чтоб от нажатия кнопки всё становилось так, как тебе нравится; такого они ещё не изобрели. Можно было щёлкать по всем каналам хоть вверх, хоть вниз – и не найти ничего, что было бы тебе интересно, тем более по швейцарскому телевидению – или как оно теперь называлось – передавали всегда одно и то же, только названия меняли не реже, чем иной человек меняет носки. На одном канале готовили еду, заливаясь тирольским пением – или наоборот заливались тирольским пением, готовя еду, а по другому каналу гоняли какие-нибудь документальные фильмы по швейцарской истории, в Грандсоне благо, в Муртене отвага, а в Нанси бодяга. Иностранцы были ничем не лучше, если они вообще давали всю программу целиком, а не только трейлеры передач, которые будь любезен сам вылавливай потом из интернета.
Было бы разумнее прочитать хорошую книгу, но по вечерам его глаза уже отказывали. «В вашем возрасте приходится мириться с переутомлением», – сказали ему в университетской клинике, что на самом деле означало: «Для таких стариков, как вы, медицинская страховка уже не предусматривает дорогостоящего лечения». Поэтому всё-таки телевизор. На деревенской площади за длинными столами сидели люди под дождём, набросив поверх своих национальных нарядов прозрачные накидки, и раскачивались в такт деревенскому оркестру. Типичный повтор во время летнего отпускного застоя; про погоду сегодня нигде не сообщали. По второй программе…
Телефон, разумеется, звонит как раз тогда, когда ты только что удобно устроился. Если это опять окажется массовый обзвон, компьютерный голос, желающий что-то навязать ему и продать, страхование или членство в каком-нибудь клубе для пожилых, то завтра же утром он первым делом напишет едкую жалобу, солёную и перчёную. В конце концов, они взимают с него ежемесячную плату за то, что его номер избавлен от рекламы. Кровать имела дополнительную функцию подъёма, с лёгким принуждением опрокидывая тебя на ноги, а поскольку другая домашняя туфля куда-то запропастилась, он потащился к письменному столу полубосой.
– Вайлеман.
– Нам нужен некролог, – сказал молодой человек, судя по всему, лишь недавно переживший юношескую ломку голоса.
– С кем я говорю?
– А разве вы не видите это на вашем дисплее?
Разумеется, у его телефонного аппарата был дисплей, ведь он происходил не совсем уж из каменного века, но показывал он только номер звонившего, а не так, как современные аппараты – одновременно имя и адрес.
– Это Вельтвохе. – Таким тоном, как будто он говорил: «Это Белый дом». Или: «Это Ватикан». Притом что это была всего лишь газета, окей, самая крупная, но сам по себе тираж ещё не канонизирует издание в святые, а что касается традиций, которыми они так гордились – только из-за того, что они всё ещё носили в своём названии «вохе», неделю, хотя уже много лет выходили ежедневно, ещё не значило, что их основал сам Йоханнес Гутенберг. Но неважно, заказ есть заказ.
– Некролог, окей.
– Завтра к двенадцати дня. И, пожалуйста, с точным соблюдением объёма.
– Дюжина сотен знаков, объём известный.
– Максимум тысяча. Кажется, не такой уж важный был человек. Всё понятно?
– Ну, может быть вы будете так любезны и назовете мне фамилию этого человека.
Вообще-то использовать сарказм с такими людьми было сущим расточительством, у них ещё в школе журналистов выветривалось из мозгов всякое чувство юмора.
– Фамилию. Да, конечно. – Вайлеман слышал клацанье клавиатуры. Молодой господин помощник редактора вынужден был и впрямь наводить справки.
– Дерендингер, Феликс, – произнёс ломкий голос после паузы. – Вроде бы журналист. Но ведь вы еще знали его?
Кальвадос, который он держал в холодильнике на крайний случай, не был настоящим, хороший импортный продукт он давно уже не мог себе позволить. Произведён в Тургау, но дело сейчас было не в его происхождении. Ему неотложно требовался глоток от шока, и не один.
Дерендингер.
Ещё несколько часов тому назад он был еще жив, выглядел хотя и не очень здоровым, видит Бог, но и не смертельно больным. Он был не в себе, но от Алоиза не умирают, с ним доживают до преклонных лет, он знал случаи, когда уже следующее поколение попадало в дом престарелых, всё ещё неся ответственность за отца или мать, которые ничего не помнили и никого не узнавали. Нет, тут было что-то другое. Ведь они же беседовали, чёрт возьми, пусть это была не настоящая беседа, окей, Дерендингер подбивал его на какую-то глупость, но всё равно, а потом он ушёл, не простившись, через площадь. Что же могло после этого произойти? Почему этот тинейджер из Вельтвохе не сказал, что случилось с Дерендингером?
Его старый журналистский рефлекс всё ещё подсказывал ему тут же сесть за телефон и обзванивать – сначала семью Дерендингера, если у него ещё была семья, женат он, по его сведениям, не был никогда; или обзвонить больницы, одну за другой, не так уж их много в Цюрихе. Интернет всё ещё был последним, что пришло ему в голову, хотя он вполне управлялся с ним, но что поделаешь, сила привычки.
«Дерендингер, Феликс», – вбил он в поисковик и нажал на приоритет «за последние сутки».
Было даже фото, снятое на улочке Шипфе. Очертания тела, прикрытого парусиной, из-под которой вытекла кровь. Увеличив снимок, он даже смог различить надпись на искусственной ткани: «Лиммат-клуб Цюрих». Наверное, это было ближайшее место, где они смогли раздобыть кусок парусины. Дерендингер, должно быть, упал здесь внезапно, оступился и рухнул, или инфаркт, нет, не инфаркт, от него не истекают кровью, а просто оседают на землю.
Ни то, ни другое. Там было не одно, а несколько сообщений, от прохожих, которые случайно шли мимо и не упустили возможности тоже поиграть в репортёров. «Упал с Линденхофа», – в этом все они сходились. Один якобы даже видел падение своими глазами, воображала, такие всегда находятся при любом несчастном случае, но следы казались однозначными. Появилось уже и суждение городской полиции: «Предположительно самоубийство». Потерпевший, как считалось, поднялся на стену наверху, на Линденхофе, и спрыгнул оттуда вниз. О его мотивах ничего не известно.
Поднялся на стену так, что этого никто не заметил? Это не подходило к тому впечатлению, которое осталось у Вайлемана от вчерашнего посещения Линденхофа. Да, Дерендингер ушёл в ту сторону, мимо источника Святой Хедвиги, но там было полно народу, главным образом туристы, и все они непрерывно фотографировали. Сам Вайлеман со своей парковой скамьи не мог просматривать пространство до стены, но был уверен, что уж там-то то они тем более теснились; снимать панораму набережной Лиммата сверху, от Линденхофа, входило в обязательную программу любой городской экскурсии. И, несмотря на это, Дерендингеру якобы удалось сделать это, никем не замеченным? И даже если так: хотя бы на одном из этих туристических снимков его прыжок запечатлелся бы, да что там на одном, на дюжине, ведь эти люди начинали снимать уже за завтраком в отеле и отключали свои аппараты только ложась в постель. Не говоря уже о камерах видеонаблюдения, которые в городе охватывают каждый квадратный метр, поначалу были даже протесты против такой системы, но сопротивление потом как-то усыпили – может, потому, что камеры стали меньше и не так бросались в глаза, или просто потому, что люди увидели бесполезность сопротивления. Если на какой-нибудь отдалённой улочке кто-то бросит на землю окурок, на следующий же день по мейлу придёт уведомление о штрафе, а тут вдруг не оказалось ни одного снимка скандального самоубийства? «Полиция проводит следственные действия», это, конечно, было только колебание воздуха, Вайлеман за годы своей профессиональной работы начитался таких отчётов и больше не попадался на эту формулу. «Проводит следственные действия» означало: «Чего мы будем носиться сломя голову? Есть на свете дела и поважнее мёртвого старика».
Кальвадос из Тургау обжигал глотку, подделка была не очень удачной, но Вайлеман налил себе ещё один стакан. Было свинством, что полиция не восприняла этот случай всерьёз, для выписывания штрафов у них людей хватает, любой пьяница, не сумевший добраться до ближайшей туалетной кабинки, был им важен, важнее мёртвого Дерендингера. Если бы Вайлеман ещё работал в газете, он бы тут же сел и написал пламенную статью против такой дикой диспропорции, но написать такой же текст для интернета, где он стал бы одним из сотен тысяч склочников и придир, какие и без того уже плотно населяют его – на это у него не было охоты. Там нет читателей, по крайней мере настоящих; с тех пор, как достаточно нажатия кнопки, чтобы мигом опубликовать на весь мир любой мозговой пук, все они были слишком заняты тем, что пишут сами.
Ещё один стакан. Завтра он проснётся с головной болью, но плевать на это, такой некролог он при необходимости напишет и в коме. И без того было чистой наглостью заказать ему такое, тысяча знаков, этого хватило бы для собаки, раздавленной посреди дороги, но не для Дерендингера, который как-никак был кем-то вроде старшины журналистского цеха; точную биографию он бы выудил из сети. Дерендингер однажды несколько лет проработал в Германии, но Вайлеман хоть сдохни не мог вспомнить, то ли в Цайт, то ли в Вельт. Наверное, в Цайт, ему это больше подходило.
Неважно. Завтра.
Кухонный пол холодил его босую левую ступню, неудивительно, когда ходишь в одном тапке. В его прежней хорошей квартире при реновации встроили обогрев пола, кухню декорировали мрамором, а туалет, наверное, кристаллами Сваровски. Они прислали ему проект с подло-дружелюбным письмом, с ударением на «подло», мол, если он после перестройки снова хочет арендовать эту квартиру, то он, разумеется, будет приоритетным съёмщиком. При этом они точно знали, что он не мог себе это позволить. А где, собственно, жил Дерендингер? Вот так, знали друг друга целую вечность, а хватишься – не знаешь о человеке ничего, кроме того, что касалось профессии. Перечислить газеты, в которых работал Дерендингер – и всё, для большего места уже не хватит. Журналистскую премию он тоже один раз получал – или даже дважды? Это тоже надо перепроверить. Но личное? Ошибка индикации. «Ведь вы его ещё знали». Нет, на самом деле он его не знал, ведь не напишешь же, что Дерендингер был никудышный шахматист, а к старости ещё и свихнулся. Но ведь он был из старой гвардии, следующий на очереди, пожалуй, будешь ты сам, последний из могикан, и когда они будут искать кого-то, кто тебя ещё знал, они не найдут никого. Конец древка.
Не такой уж и отвратительный вкус у этого кальвадоса, когда к нему привыкнешь.
5
Такое ему ещё в детстве снилось, а потом не раз повторялось, некоторые вещи не меняются. Он мог летать, нет, парить – более точное слово, зависать на пару сантиметров над землёй таким человеком на воздушной подушке и летать по незнакомым улицам, а иногда – без всякого усилия – возноситься вверх по лестнице, это всегда было самое лучшее. Чувствовал себя при этом таким лёгким. И потом вдруг…
Он не знал, что именно его так внезапно вырвало из полёта.
Препятствие, да, это было препятствие, табличка с названием улицы, и как бы ему вспомнить, что на ней было написано…
Альте Ландштрассе.
Нет ничего удивительного в том, что событие дня преследует тебя и во сне. Сперва странное поведение Дерендингера, потом его смерть, а ему ещё и некролог писать, тысячу знаков. «Не очень важный человек», сказал тот нахалёнок. Притом что Дерендингер был как раз величина. Но обычный смертельный случай, не важно, как это произошло, не повод для броского заголовка, не то что рухнувший самолёт или смачное убийство.
Убийство.
Он не мог бы объяснить, какой механизм сработал в его голове, но внезапно все части сами собой встали на место. Всё это время мысль его шла по ложному следу, он рылся не в том ящичке; так бывает, когда встретишь на улице человека, про которого точно знаешь, что он тебе знаком, но не можешь вспомнить, откуда. Мысленно перебираешь картотеку коллег, а потом оказывается, что это школьный товарищ, с которым не виделись после выпуска, или аптекарь, у которого всегда покупаешь таблетки от головной боли, не важно, человек из совсем другого отделения твоей жизни. Но это произошло с ним только потому, что Дерендингер говорил о шахматной партии, а к шахматам это не имело отношения.
Цолликон, Альте Ландштрассе, это был адрес, где тогда совершилось убийство Моросани, с первого же дня историю так и называли, тут сочинителю заголовков не пришлось ломать голову, обозначение само напрашивалось из-за аллитерации Morosani-Mord. M & M. Когда же это было? Лет двадцать тому назад? Больше тридцати. Ты постарел. Столько всего изменилось с того времени.
В редакции тогда так и говорили: Мо-Мо. Момо, как у Михаэля Энде.
Если для Дерендингера в этом и заключалось всё дело, почему он не сказал напрямую? Старческое слабоумие? Или у него была причина говорить обиняками? Маскировка? Может, он говорил про шахматную партию, потому что в той обстановке это меньше бросалось в глаза? Но отчего Дерендингеру приходилось маскироваться? От кого?
«Сто вопросов не продвинут тебя вперёд, – гласит старое журналистское правило. – А единственный ответ продвинет».
Итак, по порядку. Если Дерендингер действительно имел в виду убийство Моросани, если просто принять это в качестве гипотезы, что ещё из этой истории он упомянул?
Самого Вернера Моросани, естественно. Президента-основателя партии конфедеративных демократов, государственного советника и успешного бизнесмена. Торговля сырьём. Мог себе позволить жить по одному из самых дорогих адресов страны, на одной из улиц золотого побережья, которые на первый взгляд даже не бросались в глаза, выглядели чуть ли не мелкобуржуазными, но лишь потому, что резиденции, которые прятались в обрамлении этих улиц, были повёрнуты к ним скромными боковыми флигелями, а роскошное основное здание и парк были деликатно скрыты за живой изгородью. Кто в Швейцарии показывает, чем он владеет, тот не настоящий богач. Моросани вывел на позднюю вечернюю прогулку свою собаку, далматинца, странно, что по прошествии стольких лет помнишь такие детали. Неподалёку от дома его сразил выстрел, всего один, прямо в грудь, и Моросани тотчас упал замертво. Никто не среагировал сразу, его соседи приняли выстрел за хлопок в зажигании двигателя, и только после того, как собачий лай никак не прекращался, кто-то вышел из своего дома с намерением поругаться из-за нарушения ночной тишины, он-то и обнаружил на тротуаре труп Моросани, труп и собаку, которая стояла над ним – над ним, а не рядом, тоже деталь, которая тогда впечаталась в память. История многократно пересказывалась, в газетах, по телевидению, а потом вслед за этим и в предвыборной пропаганде. Вайлеман даже помнил плакат с лужей крови, не оригинальное фото с места преступления, естественно, а постановочное, но своё действие оно возымело.
Убийца был эритреец, соискатель статуса беженца с уже полученным отказом, справедливым отказом, как потом оказалось, сугубо экономический беженец, которому на родине вообще ничто не угрожало. Уже было готово распоряжение о его выдворении из страны, в этом и предполагался мотив убийства: месть конфедеративным демократам, которые всегда выступали за ужесточение политики в отношении беженцев. То, что пострадал именно Моросани, было опять же почти иронией, поскольку внутри партии он в то время подвергался критике за свою чересчур либеральную позицию в вопросе иностранцев, ходили даже слухи о подготовке мятежа против него на очередном съезде. Как же звали того эритрейца? Вайлеман не мог вспомнить фамилию, помнил лишь, что имя носило какое-то смысловое значение, как, например, Феликс означает «счастливый», а сам он, Курт – «смелый».
Полиция явилась на место преступления большим нарядом, не то что вчера к Дерендингеру. Хотя в то время конфедеративные демократы ещё не имели такого веса, как сегодня, Моро-сани был важным человеком. Преступник пытался скрыться и на бегу открыл огонь по служивым и был тотчас застрелен. Поэтому судебного процесса не понадобилось, факты были ясны, в кармане преступника было найдено орудие убийства. Правда, другой соискатель статуса беженца позднее дал показания, что убийца якобы рассказывал ему: мол, какой-то незнакомец вызвал его в Цолликон – и он не знал, с какой целью. Может, речь шла о помощи с его заявкой на статус беженца, но в эту историю никто не верил, разумеется, слишком однозначным был отказ в ходатайстве и распоряжение о выдворении из страны. «Документально подтверждённый преступник», так это называлось у конфедеративных демократов, рекламно-технически правильно подобранное слово, потому что, с одной стороны, оно не было лживым, а с другой стороны, внушало, что у преступника длинный список судимостей, и он всегда был злонамеренным. Как же его звали, того эритрейца?
В каком-то из наносных слоёв газетных вырезок на его письменном столе наверняка отыскалась бы статья на эту тему, но когда ответ требовался срочно, интернет всё-таки был сподручнее.
Бисрат Хабеша его звали.
Вайлеман уже давно встал, повелев кроватному механизму катапультировать себя, и теперь сидел в пижаме за письменным столом.