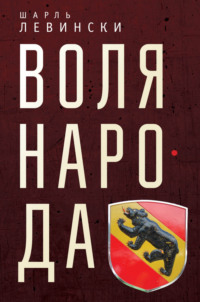
Воля народа
Один лист бумаги, шариковая ручка.
Во-первых, «что?». Старые добрые вопросы журналиста.
«Дерендингер», – написал он в самом верху листа, а под фамилией слово: «Убийство?» Немного подумав, он заменил вопросительный знак восклицательным: «Убийство!» Не надо притворяться перед самим собой. Если потом из его расследования получится статья или, почему нет, даже серия статей, как тогда в случае Ханджина, то ему, конечно, придётся формулировать осторожнее, в каждую вторую фразу встраивать «может быть» или «можно предположить». Теперешние шеф-редакторы уже не имели твёрдой задницы и из страха перед жалобами и обвинениями продолжали настаивать на фразе «у нас действует презумпция невиновности», когда даже редакционная кошка уже не верила в эту невиновность. Дерендингер умер не так, как было изображено официально, вот из чего надо исходить. Если полиция похоронила его под обложкой папки с пометкой «предположительно самоубийство», это означало только одно: мы не знаем, как это случилось. Или, может, даже: мы не хотим этого знать. Так или иначе, утверждение, что он упал вниз с Линденхофа, не может быть верным. Во-первых, потому что это падение нигде не было зафиксировано, и это в день, когда смотровая площадка с видом на Лиммат кишмя кишела туристами, и во-вторых, потому что сам Дерендингер только будучи суперменом смог бы пролететь от стены Линденхофа до начала мостовой Шипфе. Там даже в самом узком месте согласно Google Earth добрый десяток метров.
Значит, «Убийство!!» С двойным восклицательным знаком.
«Где?» было ясно, и в некоторой мере «Когда?» В половине третьего он сам встречался с Дерендингером по договорённости, больше четверти часа они не проговорили, или, вернее говоря, дольше Дерендингер его не уговаривал, а согласно данным полиции в половине четвёртого его труп уже был найден на Шипфе. В этом временном промежутке всё и произошло.
Сорок пять минут, не больше. В течение этих трёх четвертей часа кто-то получил над Дерендигнером власть, напал на него, заманил куда-то, типа того, и убил его. Нельзя принимать как допущение, что он был ещё жив, когда его тело выложили на Шипфе, это было бы слишком большим риском, он мог бы кричать или двигаться, это бросалось бы в глаза. Дорогу вдоль Лиммата они, должно быть, заблокировали, иначе как бы они его туда доставили, на несколько минут такое было вполне осуществимо, не привлекая внимания, сорри, перевозка опасных грузов или что-то в этом роде. И это опять же означало, что в акции должны были участвовать несколько преступников, целая группа. Дерендингер к тому моменту не так долго был мёртв, иначе из него не вытекло бы столько крови, сколько видно на фото.
Вайлеман поставил уже третий восклицательный знак после слова «Убийство» и тут понял, что ему чего-то не хватает – не в рассуждениях, а в чувствах. Ведь речь шла всё же не о каком-то случае Х или Y, не о безразличном тебе деле, на которое тебя поставило начальство, «и постарайся, Киловатт, чтобы из этого вышла интересная история», не о событии, которое тебя совсем не затрагивает и в котором – кровавое оно или нет – тебе можно судить лишь о количестве строк, которое из него можно выжать, речь шла не о каком-то незнакомом человеке, какими были для него, например, Ханджин и его жена, речь шла о Дерендингере, а он был не кто-нибудь, а коллега, с которым приходилось не раз иметь дело, что-то вроде друга, если угодно. Дерендингер, который попросил его о помощи. Который ему доверился. Который выбрал именно его для расследования и никого другого.
«Единственный, кого не пришлось бы лишать журналистского удостоверения за бездарность», – сказал он Элизе.
И тем не менее, Вайлеман не чувствовал себя лично задетым. В нём присутствовал лишь охотничий инстинкт, нет, если ещё точнее: радость охоты, обострение наблюдательности, которое приходило к нему перед каждым большим репортажем. Может, то был цинизм? Профессиональная деформация? Может, этого следовало стыдиться? Или то была лишь естественная реакция на происшествие, пусть и трагическое, но не касающееся его лично, о котором можно размышлять так же отвлечённо, как о далёкой войне, когда люди где-нибудь там, типа в Турции, убивают друг друга. Он вспомнил, что Штэдели в Тагес-Анцайгер постоянно вычёркивал у него цитаты из классики – на том основании, что в наши дни никто их не распознаёт, единственное общее культурное достояние, какое ещё можно ожидать от читателей, это рекламные слоганы – «квадратиш, практиш, гут».
Не отвлекаться! Задет ты лично или нет – если тебе удастся разузнать, что кроется за смертью Дерендингера, тем самым будет исполнена его последняя воля.
Итак, назад к списку.
Рубрика: «Как?»
«Организованно», – пометил он и добавил: «…и распланированно». Такая сложная инсценировка не могла возникнуть экспромтом, слишком много координации требовалось для этого – начиная от убийства Дерендингера и кончая размещением его трупа. Кто бы ни стоял за этим преступлением, он распланировал всё именно так, как и было исполнено; если бы дело заключалось только в устранении Дерендингера – по каким бы ни было причинам, – труп просто исчез бы без всяких следов, незаметно.
Итак, для чего понадобилась эта сложная, многозатратная и вместе с тем привлекающая внимание акция? Ещё один вопрос, на который надо найти ответ.
«Кто?»
«Люди с влиянием», – написал он. Иначе быть не могло. Броский смертельный случай, прежде всего, когда речь шла о таком более-менее известном человеке, как Дерендингер, на это ринулся бы любой криминалист, потому что – даже если бы дело не прояснилось – это послужило бы продвижению карьеры, можно было бы собирать пресс-конференции и со значительной миной смотреть в камеры. А здесь? Десять минут делали вид, будто ведут расследование, а потом поставили сверху печать «Самоубийство» и закрыли дело. Это могло означать только одно: кто-то отдал распоряжение томить это варево на медленном огне, и этот кто-то должен сидеть достаточно высоко, возможно, в самой полиции, иначе он не мог быть уверен, что его распоряжение будет исполнено.
Далее. «Почему?»
Дерендингер, он сам это говорил год назад, вышел на след какой-то крупной истории, и если Вайлеман правильно истолковал его скупые намёки – разумеется, он истолковал их правильно, иначе не сошлись бы те ключевые слова, которые сказал ему Дерендингер на Линденхофе, – тогда эта история как-то связана с убийством Вернера Моросани, то есть с тогдашней давней аферой, о которой, как считалось, всё было сказано, написано множество статей и опубликованы книги.
«Раздобыть книги по убийству Моросани», – пометил Вайлеман и заменил «раздобыть» на «скачать», он ведь был на уровне своего времени, не более дремуч, чем любой другой.
Убийство Моросани… Дерендингер, должно быть, вышел на след какого-то неизвестного аспекта той старой аферы, открыл какую-то деталь, которую кто-то непременно хотел сохранить в тайне. Или он эту деталь уже нашёл – и его смерть должна была воспрепятствовать опубликованию. В ходе своей карьеры Вайлеман сталкивался с несколькими случаями, участники которых всеми средствами старались не допустить выхода статьи в свет. Были попытки подкупа. Воздействия на издателя, а однажды даже ночные звонки с угрозами. Но чтобы убийство? Из-за какой-то газетной статьи? Спустя столько лет после события? Кто бы на это пошёл?
Чтобы ответить на это, был лишь один путь: выяснить, что это за тайна была, которую теперь кто-то так рьяно и насильственными способами оберегал. Если он хотел найти, «кто», он должен был сперва иметь «почему».
Трудно.
Помимо того факта, что всё связано с событиями давно минувших дней, ему не за что было ухватиться. Дерендингер дал ему только две зацепки, и с обеими он не знал, с чего начать. Но в список они непременно входили.
Одна была – фамилия, которая, насколько он знал, ни разу не всплывала в связи с убийством Моросани. «Поговори с Лойхли, – сказал Дерендингер, – он тогда организовал турнир». Если под турниром имелись в виду давние события на Альте Ландштрассе, это могло означать…
Не делать преждевременных выводов, напомнил он себе. Сперва просто собирать факты. У него была эта фамилия и был – если исходить из того, что его коллега не просто свихнулся, это тоже должно было иметь какое-то значение – ещё тот значок, который Дерендингер сунул ему в ладонь, вот буквально сунул. Ржавый значок с гербом кантона Берн.
Вайлеман уставился на лист бумаги, занеся над ним ручку. Но в голову ему больше не приходило ничего, что бы он мог записать под заголовком «Зацепки». Только эти два слова: «Лойхли» и «Бернский герб». Не так чтобы много.
Если он хотел продвинуться, он должен был как бы перенестись в Дерендингера и завершить его розыски, должен был выяснить, где тот рылся и кого расспрашивал. Но Дерендингер явно действовал всё это время в одиночку и никого не посвящал в свои расследования. И Элиза, с которой он даже близко взаимодействовал, ничего про это не знала.
Она знала лишь, что Дерендингер боялся.
Во время встречи на Линденхофе этот страх был виден по нему, по его беспокойно бегающим глазам и по холодному поту на лбу. Должно быть, Дерендингер знал, что он в опасности; возможно, где-то когда-то задал слишком опасный вопрос, действовал без необходимой осторожности. Наверное, думал: если со мной что случится, кто-то должен довести мои розыски до конца. Поэтому и обратился к своему старому конкуренту, для того и пустил его по следу, поэтому и…
Поэтому и сам он был теперь в опасности, сообразил Вайлеман. Если люди, которые убили Дерендингера, заметят, что он подхватил эту нить, они обойдутся с ним не менее безоглядно.
И тем не менее – было ли это осознание ответственности, мужество или просто упрямство? – тем не менее он в этот момент и не подумал о том, чтобы оставить это дело. Просто ему придётся действовать ещё осмотрительнее, ещё осторожней.
11
Объяснение, которое он придумал на самый крайний случай, было такое: они всегда дружили с Дерендингером, лучшие приятели не один десяток лет, регулярно посещали друг друга, чтобы поболтать о старых временах, два вышедших на пенсию журналиста, у которых было много времени и много общих воспоминаний. Разве это не убедительно? Они обменялись ключами от своих квартир, чтобы и это было понятно, в их возрасте ведь никогда не знаешь, вдруг понадобится помощь, достаточно споткнуться – и ты уже лежишь с переломом и даже до телефона не доберёшься. Или, если не думать сразу о худшем: другой может явиться в гости, когда ты только что удобно устроился на диване, и тут гораздо практичнее, если он может открыть дверь своим ключом, и тебе не придётся со скрипом подниматься с дивана – Вайлеману с его дурацким тазобедренным суставом, а Дерендингеру… Что там могло быть у Дерендингера? Не прихрамывал ли он или что-то в этом роде, но что не бросалось бы в глаза. Ага, приступы головокружения, это хорошо, в их возрасте это бывает у каждого второго.
Он пришёл, так он себе выдумал, чтобы взять книгу, которую давал Дерендингеру почитать, его собственность, и такой поиск определённой книги, пока ещё вся обстановка покойного не перекочевала в магазин подержанных товаров Брокенхаус, это ведь была подходящая причина, чтобы порыться в вещах Дерендингера. Ключ от квартиры он бы потом отослал домоуправлению. Если бы об этом кто-нибудь спросил.
Нет, сказала Элиза, не от каждого клиента у неё был ключ, собственно, она никогда не посещала их на дому, с Дерендингером было другое дело, он хотя и начинал как клиент, но со временем он стал другом, настоящим другом, тем, по которому скучаешь, когда его больше нет. И Элиза, эта суверенная, сдержанная Элиза вдруг расплакалась ни с того ни с сего, больно было смотреть. Как будто тот похоронщик с панихиды нажал не на ту кнопку – не «траурная музыка» или «гроб снизу», а «слёзы». Она так же быстро прекратила плач, можно было подумать, что всё это было наиграно, только вытерла глаза – и сразу спокойно сказала:
– От входной двери дома у меня нет ключа, но если нажмёшь на самую верхнюю кнопку, где написано «Почта», то дверь откроется.
Квартира Дерендингера была в Випкингене, в доме, из которого открывается вид на реку – если, конечно, квартира расположена на дорогой стороне. Чего Дерендингер, конечно, не мог себе позволить, его обеспечение в старости вряд ли было существенно лучше, чем у Вайлемана. Дешёвая сторона выходила на проезжую улицу с её нескончаемой автоколонной. Когда-то здесь был секретный объезд, известный только местным, которые срезали здесь дорогу от автобана в город, но с тех пор, как транспортный поток стал управляться централизованно, улица стала всего лишь ещё одной транспортной жилой среди прочих.
В подъезде воняло искусственным лимоном, одним из этих химических ароматизаторов, без которых нынче не обходится ни одно моющее средство, mundus vult decipi. Подъём по лестнице был убийственным для его бедра, но он заставил себя ни разу не остановиться до четвёртого этажа, иначе это могло выглядеть как неуверенность человека, впервые разыскивающего квартиру, а ведь у случайного наблюдателя должно было сложиться впечатление, что он бывал здесь часто. Он никого не встретил, но ведь у каждой двери есть глазок, а встроена ли где-нибудь камера, никогда не знаешь.
Должно быть, Дерендингер был легче на подъём, чем он. Без лифта на четвёртый этаж – это был уже почти альпинизм. Наконец-то табличка на двери: Феликс Дерендингер. Ключ подошёл.
Свет в крохотной прихожей, коридором это не назовёшь, за-жёгся сам. Вайлеман не любил эти датчики движения, хотя они экономили электричество, ему всегда казалось, будто кто-то непрерывно заглядывает ему через плечо.
Воздух был застойный, даже немного тухлый, как ему показалось, но это, наверное, только почудилось, потому что он находился в квартире покойника. Вайлеман открыл бы окно, но окна не открывались – из-за транспортного шума, а форточку для проветривания он нигде не нашёл. Ну и ладно.
Откуда начать поиск, когда не знаешь, что искать?
Гостиная, спальня, кухня, ванная. Всё очень маленькое, комнатки выгорожены из некогда просторной квартиры. «Компактное жильё в хорошей транспортной доступности», так это называется теперь на сайтах недвижимости.
Кухня сразу отпала: она была такая крошечная, что в ней не поместился даже столик; в такой завтракают стоя. По скудным запасам даже самый бездарный криминалист прочитал бы, что они принадлежали старому человеку: пресный хлеб для тостов – теперь он уже, конечно, закаменел, но по нему и так было видно, что он пресный – того сорта, который не имеет вкуса, но жуётся даже плохими зубами; маргарин с обещанием понизить уровень холестерина и упаковка соевого молока. Доктор Ребзамен тоже рекомендовал ему такую же здоровую еду, из-за её лёгкой усвояемости, но Вайлеман предпочитал засиживаться в туалете, чем переходить на такую старческую диету. У Дерендингера, похоже, были сходные проблемы; человек с хорошим пищеварением не покупает себе большую упаковку чернослива.
В ванной – полный срез всех обычных старческих болячек, две полки, полные лекарств; ими можно было бы оснастить среднюю аптеку. У Дерендингера, видимо, всё было так же, как у него самого: приходят какие-то хвори, всякий раз новые, организм ведь изобретателен, идёшь к врачу и просишь прописать тебе что-нибудь против того-то и того-то, принимаешь пару дней аккуратно, потом снова забываешь, сперва по нерадивости, потом из пессимизма и покорности судьбе, ведь здоровее не становишься. А вот и ещё одно сходство: Дерендингер тоже брился электрической бритвой.
Гостиная, одного взгляда достаточно, чтобы увидеть это, использовалась главным образом как кабинет. Полка, набитая аккуратно подписанными регистраторами; Вайлеман, значит, был не единственным, кто так и не собрался оцифровать свои бумаги.
Сперва быстренько осмотреть спальню. Превосходно всё прибрано. Кровать застелена – усилие, которое Вайлеман у себя в квартире уже давно экономил, а для кого? Пижама лежит на подушке, аккуратно свёрнутая. В армии Дерендингер был старшим лейтенантом. И в платяном шкафу всё аккуратно рассортировано, костюмы в ряд и рубашки сложены стопочкой. Выдвижной ящик с трусами Вайлеман тут же снова задвинул. В детективных романах там всегда были спрятаны самые секретные тайны, но рыться в личных вещах Дерендингера – это всё-таки слишком интимно.
На стене, прямо напротив кровати был прикреплён чертёжными кнопками старый выборный плакат конфедеративных демократов, тот знаменитый, со стервятниками, готовыми растерзать Швейцарию. Птицы с окровавленными клювами были, должно быть, первым, что бросалось Дерендингеру в глаза по пробуждении, и это было скорее странно, Дерендингер хотя и был всегда политизирован, но к сторонникам КД Вайлеман его никогда не причислял. Может, со временем он просто всё больше сползал вправо, он был бы не первым, кто с возрастом вступал в климакс и в политическом смысле. Других картинок в комнате не было.
На ночном столике очки для чтения с чертовски толстыми стёклами и одна-единственная книга, не то что у него дома: целая стопка. Юрий Львович Авербах: Учебник эндшпилей. Авербах был шахматным классиком, и в сто лет всё ещё при деле, но для такого «чайника», как Дерендингер, всё-таки высоковат на несколько этажей. Как если бы человек, умеющий сыграть на флейте Все мои уточки, взялся бы изучать партитуру Моцарта. Абсолютная мания величия Дерендингера – держать на ночном столике такую книгу для профи.
Между двух страниц было что-то заложено и выглядывало наружу: выцветший фотоснимок. Авербах, здесь он был много старше, чем на титульном листе своего учебника, за столом с шахматной доской. Слева и справа от него – как охрана – двое мужчин, оба с застывшими улыбками, с какими позируют многие. Одного из них фотограф застал в неподходящий момент: один глаз был закрыт, и это походило на то, будто он рассказывал неприличный анекдот и подмигнул. Второй мужчина показался Вайлеману знакомым, хотя он не мог вспомнить, откуда. На заднем плане – большой флаг Швейцарии. Ему сразу стало ясно, когда был сделан этот снимок: во время единственного приезда Авербаха в Швейцарию. Русский гроссмейстер был уже немолодым, приехал в Цюрих на сеанс одновременной игры, двадцать четыре партии разом, и двадцать две из них выиграл, а две сыграл вничью. Вайлеман сам тогда участвовал в этом сеансе, сыграл неплохо, староиндийской защитой, он помнил до сих пор, но после тридцати ходов его позиция была безвыходной, и он сдался. Это не было позорно – с таким-то противником. На снимке у Авербаха недовольный вид, но, возможно, такое впечатление складывалось лишь по контрасту с его улыбчивым окружением. К его лацкану был прикреплён один из этих гербов кантона, какие теперь носят все; видимо, кто-то ему подарил.
Вайлеман положил зачитанную книгу на место и выдвинул ящик ночного столика. Там – наряду с обычным хламом – находился единственный интересный предмет: маленькая фотография, может быть, сделанная в фотоавтомате, с изображением женщины.
Элиза.
Он быстро задвинул ящик, быстрее, чем было необходимо. Ему тяжело было представить, что Дерендингер и Элиза в этой совершенно не романтичной комнате, в этой постели…
Он не хотел это представлять. Его это и не касалось. Он снова выдвинул ящик, взял фото и сунул его в свой бумажник. Если бы его кто-нибудь спросил, зачем он это сделал, он не нашёл бы разумного объяснения.
И, наконец, кабинет. Поверхность письменного стола почти пуста, немногие предметы расставлены и разложены так упорядоченно, как будто в магазине офисной мебели заставили ученика-подмастерье красиво декорировать залежалый товар. Телефон современнее, чем у Вайлемана, но модель всё ещё отечественная, с привычным логотипом Swisscom из времён до продажи китайцам, а рядом продолговатое металлическое корытце с карандашами и шариковыми ручками, блок для заметок без заметок и статуэтка Оскара с латунной табличкой на цоколе и гравированной надписью Лучшему журналисту. Должно быть, прощальный подарок коллег, когда Дерендингер уходил на пенсию. Имитированная позолота Оскара во многих местах отшелушилась, обнажив белёсую пластмассу.
И больше – ничего. Абсолютно ничего. Прежде всего ни компьютера, ни коммуникатора, вообще ни одного электронного прибора. Не взял ли уже кто-то эти вещи из квартиры?
Идиотский вопрос. Разумеется, кто-то их забрал. Если Дерендингер был убит, и если причиной убийства были его розыски, это было логично.
Вайлеман повертел блок зля заметок в круге света настольной лампы туда и сюда. Это была попытка сыграть детектива, и он сам себе показался при этом смешным. И поиски ничего не дали: верхний лист блока не сохранил никаких продавленных следов предыдущих записей.
Перед тем как сесть в рабочее кресло Дерендингера, он немного помедлил. Но иначе ему было не добраться до выдвижных ящиков; нагибаться было уже не так просто, как раньше.
Он и там не нашёл ничего интересного; обычный мелкий хлам, который всегда сохраняешь пару лет, чтобы потом всё-таки выбросить; кабели для приборов с разьёмами, которые давно уже вышли из употребления, портмоне с надорванным отделом для монет, открытый пакетик жевательных мишек и тому подобная дрянь. В прозрачном файлике несколько гарантийных свидетельств. Единственной интересной была маленькая камера, такую же Вайлеман всегда брал с собой на репортажи, раньше это было последнее слово техники, теперь музейное старьё. Прибор включался, должно быть, Дерендингер его недавно использовал, но чип с записью кто-то уже удалил.
И это всё. Ничего такого, что навело бы Вайлемана на дальнейшие поиски.
12
Оставались ещё только регистраторы на стеллаже, каждый был датирован каким-то годом, надписи сделаны чётким чертёжным шрифтом, который использовался в те времена, когда строительные чертежи делали ещё вручную. Он вытянул наугад одну папку. Газетные статьи, все подписанные «Феликсом Дерендингером» или сокращением «Фед», каждая аккуратно вырезана, наклеена и подшита в строгом хронологическом порядке. Здесь не царил тот хаос воспоминаний, который громоздился горой на собственном столе Вайлемана, нет. Здесь был сохранён каждый текст, когда-либо написанный покойным, в том же порядке, как он был опубликован; по крайней мере, складывалось впечатление, что у этого собрания не могло быть лакун. Дерендингер был явно хорошо организованным человеком. «Нет ничего мертвее вчерашних крупных заголовков». Если это старое правило верно, то эта книжная полка была самым образцовым кладбищем, какое Вайлеман когда-либо видел.
Статья, на которой он случайно раскрыл папку, представляла собой обзор выборов в Федеральный совет какого-то незапамятного года, в этом обзоре Дерендингер предсказывал, что конфедеративные демократы употребят своё недавно завоёванное абсолютное большинство на то, чтобы впервые с 1891 года снова выбрать в Швейцарии однопартийное правительство. Хороший журналист – не всегда хороший прорицатель: в том году получилось иначе, КД выбрали в Федеральный совет только шестерых своих людей, а на седьмое место, чтобы доказать свои демократические убеждения, назначили социал-демократа, который, однако, не принял пост – Вайлеману оставалось лишь перевернуть лист, чтобы найти статью Дерендингера и на этот счёт, – как с тех пор и каждый выбранный социал-демократ отказывался играть роль алиби-петрушки в правительстве, где тотально доминировали конфедеративные демократы. С тех пор, и это уже стало традицией, так же, как раньше традицией была «магическая формула», только шесть членов правительства вступали в службу, а седьмое кресло в палате Федерального совета оставалось пустым, и на официальном фотоснимке Федерального совета всегда оставляли пробел в своём ряду, чтобы люди из КД могли сказать, что вовсе не их вина в неполном формировании правительства, это левые по непонятным причинам отвергли доброе швейцарское согласие. В первый раз это было ещё сенсацией или хотя бы событием, достойным упоминания, но теперь стало политической повседневностью.
Вайлеман поставил регистратор на место, подравняв его корешок под прямую линию других подписанных корешков; Дерендингеру бы это понравилось. Ожидал ли он, что полное собрание его статей когда-нибудь станет ценным наследием в архиве? Рисовал ли в своём воображении собственную библиотеку Дерендингера, куда юные журналисты совершали бы благоговейные паломничества? Или он был достаточным реалистом, чтобы знать, что работа всей его жизни после его смерти встретит горячий интерес в одном-единственном месте: в лесу Хагенхольц, на мусоросжигательном заводе.
Для последних лет Дерендингер использовал более тонкие регистраторы. В последнем регистраторе содержалась одна-единственная статья: юбилейная, к девяностому году Цезаря Лаукмана, не некролог, но почти что. «Недооценённый мастер популярной культуры». Странно, по закону парных случаев часто натыкаешься на одно и то же дважды. Статья была, может быть, его самым последним заданием; как это обычно бывает, редакционный компьютер выплюнул круглую дату, и они размышляли, кто бы мог ещё знать этого Лаукмана. У Вайлемана тоже всё обстояло приблизительно так же, и не было большой разницы, писать ли дюжину сотен знаков о полуживом или о мёртвом.