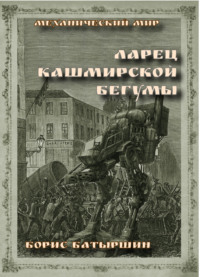
Ларец кашмирской бегумы
Похоже, собеседница уже записала его в го́норовые обитатели Речи Посполитой! И как теперь признаться, что он никакой не поляк, а совсем наоборот – соотечественник тех самых «terribles cosaques», душителей польских вольностей?
«Но позвольте, последнее польское восстание было лет пятьдесят лет назад! Сколько же лет её «близкому другу»?
Желая избавиться от чувства неловкости, он попробовал сменить тему:
– А ваш друг – он тоже здесь?
Девушка опустила глаза, плечи её сразу поникли.
– Нет, мсье, он погиб. Пьер был бланкистом, дружил с Курбе́, Эдом и Валлѐсом[9], даже заседал в ратуше. Когда в апреле начались стычки, он возглавил вооружённый отряд, попал вместе с Эдом в плен, и версальцы их расстреляли.
«Бланкисты? Версальцы?»
Повисло нел о вкое молчание. Они шли рядом, не замечая гомона толпы, затянувшей новую песню – о цветении вишен, о песнях соловьёв и дроздов-пересмешников, о ветреных красавицах, что дарят своим поклонникам муки любви.
– Простите, мадемуазель, не будете ли вы столь любезны… словом, какое сегодня число? – выпалил Коля, и сам испугался того, как неуместно и глупо прозвучал его вопрос. Спутница, видимо, подумала о том же. Она подняла на прапорщика глаза (бездонные, ярко-зелёные, чьё сияние способно свалить с ног!), полные недоумения.
Он притворно закашлялся, но, увы, отступать было поздно.
– Понимаю, это звучит странно, даже нелепо, но я…
Незнакомка лукаво улыбнулась:
– Видать, мсье крепко контузило! А вы не забыли заодно, где находитесь – в Париже, или, в вашей… Варшаве, да? Не надо насмехаться над бедной девушкой, это очень-очень дурно!
Версия с контузией показалась спасительной, и прапорщик забормотал что-то о рухнувшей крыше. Но насмешница уже смилостивилась:
– Всё-всё, мсье, довольно! А то скажут, что Николь досаждает расспросами пострадавшему герою – ведь вы герой? А я девушка воспитанная, это вам всякий скажет…
«Так её имя Николь?»
– Раз уж у вас отбило память – так и быть! Сегодня двадцать седьмое мая семьдесят первого года, и постарайтесь больше не забывать!
Если раньше у Коли не было никакой контузии, то сейчас у него на самом деле потемнело в глазах. Он поверил Николь сразу и безоговорочно, поскольку это разом объясняло все странности, приключившиеся за последние полчаса.
Париж. Двадцать седьмое мая. Тысяча восемьсот семьдесят первого года. Предпоследний из семидесяти двух дней…
Словно в ответ в голове колонны, где развевалось над штыками красное знамя, раздался клич, и его сразу подхватила вся толпа. И этот клич заглушил остальные звуки – гомон, стук сотен башмаков о булыжники мостовой, близкую канонаду:
«Да здравствует Коммуна!»
Глава IV
Как читатель уже знает, Коля Ильинский с детства зачитывался фантастическими романами, рассказами, повестями и прочей литературой подобного жанра. Больше всего его привлекали описания машин, механизмов, необычных транспортных средств. Сколько раз он представлял себя у рулей «Наутилуса» или штурвала «Альбатроса», в пушечном снаряде, летящем к Луне или у орудия, мечущего в недругов России диски, начинённые «фульгура́тором Ро́ка». Иные мечты уже стали явью: двадцатый век вступал в свои права, газеты наперебой сообщали о самых удивительных изобретениях. Субмарины давно числились в военных флотах многих держав, небо бороздили аэропланы и дирижабли, дальность полёта пушечного снаряда подбиралась к отметке в полсотни вёрст, а улицы европейских городов заполоняли автомобили. К чему далеко ходить за примерами – прапорщик Ильинский сам служил на военных воздушных кораблях, а ведь каких-то десять лет назад такое и вообразить-т о было невозможно! Как пишут в газетах: «прогресс властно постучался в дверь».
Но главная Колина мечта оставалась недостижимой. А мечтал он об устройстве, изобретённом англичанином Гербертом Уэллсом. Увы, только на бумаге – ничего подобного на горизонте пока не просматривалось. Разве что, мелькали время от времени сообщения, что американский изобретатель Никола Тесла вплотную подошёл к разгадке тайны времени, и вот-вот удивит мир – но всякий раз на поверку они оказывались сплетнями, и заветная мечта Коли Ильинского оставалась так же далека от воплощения, как в тот день, когда он впервые открыл книгу с завлекательным названием «Машина времени».
Что бы он ни отдал за то, чтобы оказаться в кресле такого устройства! Можно было бы своими глазами увидеть Землю, какой она станет через десятки тысяч, даже через миллионы лет. А можно отправиться в прошлое: посмотреть на пожар Рима, присутствовать при строительстве пирамид или, чем чёрт не шутит, при гибели таинственной Атлантиды! Или, отправиться, подобно ушлому янки, в средневековье, изобрести там револьвер, пулемёт, гаубицу, колючую проволоку, и вместе с тремя Мстиславами обратить вспять орды Чингизова тёмника Субэдэ́я. Правда, в книжке Марка Твена не было машины времени – но ведь важен результат?
И вот – свершилось! Нечто забросило Колю Ильинского в прошлое, самое настоящее, «всамделишнее» – пусть и не так далеко, как представлял он в своих фантазиях, всего-то лет на сорок. Но как это произошло? Был разряд, случившийся из-за неисправности в проводке; был и удар, как в случае с Хэнком Морганом[10]. А вот машины времени он не заметил – не могла же быть е ю забавная игрушка, найденная на чердаке букинистической лавки?
Или могла? Тесла, помнится, производил опыты с особо сильными электроразрядами. Значит, «механическое яйцо» – всё же машина времени, и разряд, произошедший вследствие замыкания, заставил её заработать? А что, вполне правдоподобно….
Значит, машина времени. Герой Герберта Уэллса сам выбирал, когда отправляться в будущее, а когда возвращаться, в отличие от персонажа Марка Твена которого кидало туда-сюда по не зависящим от него обстоятельствам. Да и обстоятельства хороши – ломом по черепу…
Но тогда можно, хотя бы в теории, заставить «механическое яйцо» вернуть его назад, в 1911-й год? Звучит разумно, но чтобы воплотить эту теорию в практику, нужен мощный источник электричества, а здесь таких нет, и появятся они не скоро. Построить самому? Не зря же он четыре года проучился в Московском Техническом Училище, кое-что знает и умеет. Но – поди, построй что-нибудь, когда вокруг палят из пушек!
И всё же, кое-что стало ясно. Оговорки Николь, ставившие его в тупик, наконец, получили объяснение: польское восстание случилось восемь лет назад, и её «близкий друг» вполне мог отправиться туда добровольцем, потом вернуться во Францию и в дни Парижской Коммуны стать «бланкистом», членом радикальной фракции, не останавливавшейся перед любым насилием. «Версальцы», расстрелявшие Пьера – сторонники национального собрания, обосновавшегося в Версале. А песенка о вишнях и ветреных красотках – это же «Время вишен», ставшее гимном парижских коммунистов[11], как «Марсельеза» стала гимном Великой Революции!
Заодно, прояснилась и загадка трансформации лавки букиниста: когда Коля Ильинский провалился в прошлое, то оказался в бакалее, которая была на этом месте в 1871-м. «Элмер Бут», помнится, сказал, что торговля прекратилась из-за голода, когда пруссаки осадили Париж…
Итак, на календаре – двадцать седьмое мая этого самого года. Парижская Коммуна, считай, пала, сопротивление продолжается только в отдельных местах – здесь, в квартале Бельвиль, возле кладбища Пер-Лаше́з, да держится ещё форт Венсе́н. А сам Коля, между прочим, сейчас в рядах тех, кого ждёт неминуемое поражение – и нет ни времени, ни возможности изготовить хотя бы завалящее ружьё-пулемёт «Мадсен», не говоря уж о «Максиме»! Да и помогут ли здесь пулемёты?
Получается, главное сейчас – уцелеть. «Механическое яйцо» в кармане аккуратно завёрнуто в тряпицу, а сумеет он заставить его работать или нет – выяснится потом. А пока, надо улучить момент, юркнуть в подворотню и дворами, крышами уходить из опасного района! Опыт имеется – недаром же Коля с приятелями ухитрялся удирать от полицейских облав в пятом году.
Но почему он шагает вместе с толпой, слушает щебетание Николь и пропустил уже две… нет, три незапертых подворотни? И ему вовсе не хочется бросать людей, которые идут умирать за безнадёжное, но справедливое дело?
Глава V
Прошли они немного – квартала два, не больше. На тесной площади, от которой отходили три улочки, был устроен сборный пункт. То и дело подбегали вестовые и громко выкрикивали: «Оставлена баррикада на Прадье́!», «Нужны люди на улицу Ребева́ль! «Враг на улице Пре!» В ответ звучали команды, от толпы отделялись группы вооружённых людей и следовали за посланцами.
Для Коли, почти не знавшего Парижа, эти названия звучали китайской грамотой. Он с трудом улавливал смысл происходящего, понимая лишь, что оплот коммунистов вот-вот падёт и счёт пошёл уже не на дни – на часы. Из книг он помнил, что к полудню двадцать седьмого мая защитники сохраняли за собой лишь маленький квадрат, образованный улицами Фобу́р дю Темпль, Труа Борне́, Труа Куронне́ и бульваром Бельвиль. Держались ещё две-три баррикады в двенадцатом округе, да улица Рампоно̀.
И что же дальше? Выбраться из западни, не зная города, скорее всего, не получится. К тому же, нельзя бросать Николь – он помнил, какой террор захлестнёт Париж после падения последней баррикады.
И тем удивительнее было то, что люди вокруг были исполнены воодушевления. Говорили, что версальцев несколько раз отбрасывали от баррикады на стыке улиц Фобур дю Темпль и Фонтэ́н о Руа, что там командует сам Варле́н, а баррикада неприступна с фронта. Наперебой твердили о каких-то «маршьёрах» – их прибытия ждали с минуты на минуту. Но сколько Коля ни расспрашивал, ему так и не удалось понять, что это такое – "маршьёр". В итоге он решил, что так называют самых отчаянных боевиков, наводящих на версальцев такой страх, что они, стоит маршьёрам появиться на поле боя, разбегаются, бросая ружья.
Отдохнуть получилось не более получаса. Подбежал очередной посланник, командир (тот самый юноша с саблей, воодушевлявший Колю) крикнул: «За мной, товарищи! Да здравствует Коммуна!», и отряд, к которому теперь принадлежали они с Николь, быстрым шагом направился в сторону бульвара Бельвиль.
Студент на ходу перестроил своё подразделение в боевой порядок. Вперед поставил людей, вооружённых винтовками с примкнутыми штыками, бойцы с охотничьими ружьями и карабинами составили второй эшелон. Тех же, у кого из оружия имелись только револьверы и прочие коротышки, отрядил защищать тыл.
В их число попал и Коля со своим «люгером». Поначалу он обрадовался – велика ли корысть лезть, очертя голову, под пули? Но поймав взгляд Николь, смутился, пристегнул к рукоятке кобуру и продемонстрировал оружие командиру. Тот не стал спорить и определил прапорщика в «карабинеры».
Баррикада, куда их направили в качестве подкрепления, запирала улицу, выходящую на бульвар. Оттуда доносился ружейный перестук, время от времени ухала пушка, ей вторили далёкие залпы версальской артиллерии. Студент выкрикнул команду, отряд перешёл на бег. Коля тоже побежал, удерживая в одной руке свой «карабин», а в другой – пачки патронов, кое-как завёрнутые в рваную бумагу. На бегу он клял себя за то, что не озаботился найти какую-нибудь сумку или заплечный мешок – бегать с увесистым свёртком под мышкой было до крайности неудобно.
Они едва не опоздали. Баррикада уже пала: единственное орудие валялось на боку с разбитым колесом, через бруствер лезли, уставив штыки, солдаты, а немногие уцелевшие защитники отошли в подворотни и огрызались оттуда редкими выстрелами.
Студент взмахнул саблей, первые ряды дали нестройный залп и бросились в штыки. За ними устремились остальные, забыв о порядке построения, потрясая оружием и яростно вопя «Vive la Commune!». Коля кинулся, было вслед, но вовремя сообразил, что лезть в рукопашную схватку без холодного оружия – чистой воды самоубийство. Расстреляешь магазин и всё, пиши пропало: приколют, как свинью!
Возле стены дома, шагах в десяти, валялась вверх тормашками повозка – не повозка даже, а артиллерийский зарядный ящик с сиденьями для расчёта. Коля примостился между колёсами, передёрнул затвор и вскинул «люгер» к плечу. До баррикады было на глаз шагов сорок: на таком расстоянии он не дал бы маху и с наганом, а уж из роскошной германской машинки можно бить, как в тире!
Бац! – приклад-кобура мягко толкается в плечо, промах!
Бац! Бац! – затвор выбрасывает одну за другой гильзы, двое версальцев валятся с баррикады.
Бац! – ещё один, ловит лбом девятимиллиметровый гостинец в мельхиоровой оболочке, едва показавшись над бруствером.
Бац! – огромный, поперёк себя шире, солдат, хватается за простреленную грудь и мешком оседает на мостовую.
Ответный залп, пули мерзко визжат над головой, что-то дёргает его за плечо. Быстро пошарить рукой… погон висит на одной нитке, но крови, слава богу, нет, да и боли, вроде, тоже… Ладно, потом, а сейчас надо воевать!
Бац! Бац! – первая пуля уходит «в молоко», зато вторая достаётся офицеру, размахивающему саблей не хуже давешнего студента. А где он, кстати? Да вот же – неумело отмахивается от наседающего пехотинца!
Бац! – все, больше не отмахивается. Всякому известно – командира в бою надо беречь…
Прапорщик выщелкнул пустой магазин, вставил новый, клацнул затвором и вскинул оружие, ища очередную цель. Но это было уже ни к чему: ворвавшиеся на баррикаду версальцы переколоты штыками, немногие уцелевшие перепрыгивают через бруствер, над которым снова развевается красное знамя, и драпают по бульвару, провожаемые свистом и улюлюканьем.
* * *Колин боевой запал улетучился, стоило только смолкнуть стрельбе. Ноги сделались ватными, в глазах потемнело и он сел, обессилено прислонившись к зарядному ящику. Он только что, своими руками лишил жизни четверых! Четыре человека, такие же, как он сам – ходили, говорили, смеялись, вспоминали о своих близких. Их, наверное, где-то вспоминают, молятся за них и ждут …
Но они не вернутся – а всё потому, что он, Коля Ильинский решил блеснуть меткой стрельбой. Да-да, конечно: справедливое восстание, борьба с угнетателями, Ярослав Домбровский с его бессмертным призывом «Za naszą i waszą wolność!»[12] … но как же страшно отлетает назад от удара девятимиллиметровой пули человек, как брызгают кровь и ошмётки мозга из лопнувшей, словно перезрелый арбуз, головы! Снаряжая магазины, Коля по ошибке вскрыл коробку с патронами «дум-дум» и заметил это только после боя. Рабочий-блузник, обшаривая труп, увидел последствия попадания разрывной пули и уважительно присвистнул: «А ваша фитюлька, мсье, бьёт не хуже митральезы, даром, что взглянуть не на что!»
Коля научился стрелять задолго до того, как попал в армию. Поначалу он упражнялся с детским ружьецом «монтекристо», стреляя по пустым бутылкам на пустыре, потом вместе с отцом, заядлым охотником – на стрельбище Московского общества ружейной охоты. Став офицером, он быстро завоевал репутацию первого в воздухоплавательной роте стрелка из карабина и «нагана», и даже собирался поучаствовать в гарнизонных соревнованиях – если бы не командировка в Париж…
Теперь вот довелось пострелять по живым мишеням – и, судя по всему, не в последний раз. Нет, нехорошо было Коле Ильинскому, совсем нехорошо…
Он снял китель. Пуля, скользнув по плечу, вырвала погон с мясом. В бытность свою нижним чином, Коля таскал в изнанке фуражки иголку с ниткой, но офицеру такая предусмотрительность не к лицу. Да и погоны – зачем они теперь? Только привлекают внимание, тем более что вензель на них с буквой «Н» а не «А», как полагалось бы офицеру, присягнувшему Самодержцу всея̀ Руси Александру Второму.
Он отстегнул оба погона, добавил к ним значок учебного воздухоплавательного парка, и, после недолгих колебаний, снятую с фуражки кокарду. Чёрт знает, как тут относятся к русским – вон, Николь вспомнила о «terribles cosaques»… И поди, докажи, что ты никакой не казак, а бывший студент и вообще, человек интеллигентный! И ладно, если доказывать придётся миловидной барышне – а ну, как оголтелому юнцу с саблей? Тот, кстати, уже успел себя показать – после боя велел расстрелять пленных версальцев и самолично руководил экзекуцией. Нет уж, ну их, этих революционеров – ещё поставят к стенке из солидарности с польскими инсургентами! Как там, у Карла Маркса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»?
– Мсье решил заняться своим туалетом?
Перед ним стояла Николь, такая же очаровательная, как и до боя. Правда, на переднике свежие пятна крови – ну да, она же добровольная милосердная сестра…
– Да, вот, зацепило. Надо бы починить…
Девушка просунула пальчик в дыру на кителе.
– Чепуха, работы на пять минут. А вы, мсье, перекусите, я принесла…
Прапорщик хотел, было, отказаться от угощения, но вдруг понял, что голоден, как волк. В последний раз он ел за завтраком, в Шале-Мёдоне, перед отъездом в Париж, а с тех пор прошло…. Ну, это смотря как считать: то ли «пять часов», то ли сорок лет. Но есть-то хочется сейчас, аж кишки слипаются!
Так, что у нас в корзинке? Королевское угощение: ломоть хлеба, кусок сыра и пара луковиц. Ого, и бутылка? Вино? Нет, яблочный сидр. Очень, очень вовремя – горло пересохло, язык как тёрка…
– А я думал, у вас здесь голод… – сказал он, сделав первый глоток.
– Ну что вы! Голод был зимой, когда пруссаки осадили Париж, а сейчас ничего, терпимо.
– Мне рассказывали, тогда съели слона? – прапорщик припомнил разговор с букинистом.
– Даже двух! – подтвердила Николь. – Одного звали Кастор, другого Поллукс. Я, когда узнала, долго плакала, ведь слоны были такие милые! А слонятину назавтра продавали по сорок франков за фунт. И волков из зоосада съели, и даже тигров, не говоря уж о мулах и скаковых лошадях с ипподрома. Только обезьян трогать не стали. Говорят, они наши родичи и есть их – всё равно, как людоедство. Зато кошек, собак и голубей в Париже не осталось, все попали в кастрюли!
Даже разговоры об особенностях французской кухни в условиях осады не смогли повредить молодому, здоровому аппетиту. Пока прапорщик расправлялся с содержимым корзинки, Николь устроилась рядом, извлекла из-под передника иголку с ниткой и потянулась за кителем.
– Зачем это, мадемуазель… – Коля чуть не подавился куском сыра. – Наверное, вы устали, занимаясь ранеными, отдохните, я и сам…
– Не говорите ерунды и ешьте! – девушка нахмурилась и решительно завладела предметом спора. – Вам ещё сражаться, набирайтесь сил, а женские дела ставьте женщинам. Вы же не хотите, чтобы мне пришлось стрелять?
Он помотал головой. Ну как с такой поспоришь? Хотя, вокруг хватает вооружённых женщин…
– Что до раненых, – продолжала Николь, – то их не так уж и много: те, кто может держать оружие, решили остаться в строю, я их только перевязала. А тяжелораненых уже увезли в тыл. Мне тоже предлагали ехать, только я отказалась…
Иголка порхала в её тонких пальчиках.
– Отказались? Это неразумно, мадемуазель, вам лучше уехать!
Она бросила на него взгляд – наклонив голову вбок, лукаво, со смешинкой в зелёных глазах:
– Мсье уже наскучило моё общество? Кстати, мой герой, вы до сих пор не назвали своё имя! Ну-ну, не смущайтесь, вы ведь, и правда, герой – мне рассказали, как вы перестреляли дюжину версальцев!
«Вот как? Дюжину? А он-то насчитал всего четверых…»
– Ко… простите, Николай Ильинский к вашим услугам!
Она очаровательно сморщила носик:
– Ну вот, а ещё говорят, что польские имена невозможно выговорить!
И стала пальчиком писать в воздухе буквы:
– Ни- к о – ля и Ни- коль – похоже, верно? И как чудесно звучит!
Прапорщик почувствовал, что у него вспыхнули уши.
– Нет, Николя, я никуда не уйду. – в её голосе уже не было прежней игривости. – Да и куда мне идти? Вы, верно, слышали: версальцы не щадят никого, если замечают человека – он обречён. Стоит просто взглянуть в их сторону и можно получить в ответ пулю. Это гиены, звери, жаждущие крови, а не солдаты, исполняющие долг! А ещё выдумали очередную гадость: будто бы в кварталах, захваченных армией, женщины бросают в подвалы домов бутылки с керосином и поджигают! Газеты охотно подхватили эту сплетню, и теперь над несчастными, которых в чем-то заподозрили, творятся немыслимые зверства. Тётушка Мадлен, наша соседка, говорила, что на её глазах растерзали женщину за пустой бидон из-под молока! Николя̀, бидон даже не пах керосином, но это их не остановило!
Повисло молчание. Николь наклонилось к работе, и прапорщик увидел, как слезинка упала на сукно – и впиталась, оставив едва заметное пятнышко.
– Ну вот, готово. – Она встряхнула китель. – Одевайтесь, Николя̀, и ступайте, у вас, наверное, много важных дел!
Он встал и затянул портупею. Кобура на боку, фуражка… тьфу, кокарды нет. Ну и вид у него – то ли дезертир, то ли ряженый…
– Благодарю вас, мадемуазель!
– Ну что вы, Николя, было бы за что! – тонкая ладошка скользнула по его щеке. – Вы, главное, постарайтесь не погибнуть…
Он кивнул, щёлкнул каблуками, подражая кавалерийским офицерам, и зашагал прочь, испытывая острое желание вернуться, схватить её в охапку и унести подальше. Только куда нести, чтобы не получить по дороге пулю или удар штыком? И, кстати, о штыках – не худо бы обзавестись хоть завалящим клинком, и раздобыть, наконец, сумку. Сколько можно ходить, как бедный студент, с узелком под мышкой…
Да, Николь права, у него полно дел!
Глава VI
Сумкой, а точнее, солдатским ранцем, Коля нашёл быстро. К нему прилагались жестяная фляга-манерка и зловещего вида сапёрный тесак с пилой по обуху. Можно было взять и винтовку, длиннющую пехотную «Шасспо», но по здравому размышлению прапорщик отказался: во-первых, его вполне устраивал «Парабеллум», а во-вторых, чёрный порох оставляет на лице и руках следы, по которым после падения Коммуны будут выявлять мятежников. С учётом того, что ему ещё предстоит выбираться из Парижа – риск неоправданный.
Вроде, всё? Ранец на спине, тесак на боку, кобура со всеми положенными причиндалами – на портупее. В манерке плещется кислое французское винцо, в ранце, в тряпице, остатки недавней трапезы – горбушка и кусок сыра. Там же пачки патронов, а глубже, старательно укутанное в сукно, прячется «механическое яйцо». Ну вот, теперь можно воевать с удобствами!
Правда, от большей части амуниции рано или поздн о придётся избавиться: пробираться в таком виде в обход полицейских кордонов и армейских патрулей опасно для жизни. На этот случай он раздобыл потрёпанный гражданский сюртук – когда придёт время, его можно накинуть поверх кителя. Бережёного, как известно, бог бережёт…
На баррикаде царила деловитая суета. Мёртвые тела унесли и сложили в подвале столярной мастерской, во дворе устроили перевязочный пункт. Защитники спешно приводили в порядок бруствер, исправляли кладку, заделывали бреши, пробитые снарядами, обустраивали места для стрельбы, каждый по своему вкусу. Один выкладывал из булыжников подобие амбразуры, другой, судя по виду, рабочий, уже в преклонных годах, приволок драный тюфяк и соорудил для себя уютное гнёздышко. Третий приладил над импровизированным ложементом обитую жестью дверь для защиты от осколков.
– Ах ты ж, в бога, в душу, через семь гробов, с прибором, к вашей парижской богоматери! Остолопы нерусские, пальцем деланные, чтоб вас бугай уестествил в задний проход, да со скипидаром! Прапорщик Ильинский подскочил, как ужаленный. В центре баррикады десяток блузников возились возле подбитой пушки. Командовал ими господин в пальто, перетянутом солдатским ремнем, и коротких кавалерийских сапожках. Хобот лафета придавил ему ступню: бедняга прыгал на одной ноге и, на чём свет стоит, костерил бестолковых подчинённых. По-русски, разумеется, поскольку язык Корне́ля, Расѝна и Вольтера не могут породить столь изысканные речевые обороты.
– Позвольте вам помочь, сударь?
Пострадавший удивлённо воззрился на Колю. На вид ему было лет двадцать пять – тридцать. Рослый, типично русское лицо, на переносице – след от пенсне.
– Никак, соотечественник? Буду признателен, а то, сами видите…
Кое-как они доковыляли до стоящих неподалёку бочонков. Внезапно обретённый соотечественник уселся и принялся, кривясь от боли, стаскивать сапог.
– Изволите видеть, каковы мерзавцы: русского… то есть, французского языка не разумеют! Сказано ведь болвану: подва̀живай, так нет же: колотит гандшпугом со всей дури, да ещё и ухмыляется! Башкой своей лучше б постучал о лафет!
– Вы, простите, артиллерист? – вежливо осведомился прапорщик.
– Я-то? Студент Центральной школы прикладных искусств, это на Руа де Сиси́ль[13]. Обучался на четвёртом курсе, а тут война – вот и застрял в Париже, чтоб ему ни дна, ни покрышки! Всю осаду здесь просидел, теперь помогаю инсургентам. Всё же будущий инженер, в машинах разбираюсь – а пушка тоже в некотором роде машина…

