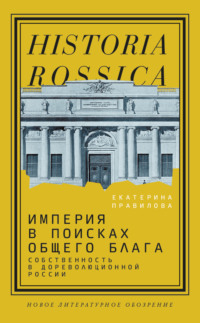
Империя в поисках общего блага. Собственность в дореволюционной России
На двадцатилетие своего правления, 28 июня 1782 года, императрица подписала манифест, провозгласивший право собственников распоряжаться по своему усмотрению водными ресурсами и полезными ископаемыми на своих землях. Екатерина пожелала отметить свой юбилей щедрым законодательным актом, который, как она заявляла, был кульминацией ее политики либерализации в области торговли и промышленности[65]. Манифест запрещал «инако осно<вы>вать заводы, как или на своей собственной земле, или же по добровольному условию с другим», тем самым отменяя «горную свободу» – один из наиболее ярких примеров прагматичного подхода Петра I к собственности своих подданных. В 1700 году Петр провозгласил свободу поиска полезных ископаемых и на частных, и на государственных землях и объявил преступлением сокрытие найденных залежей[66]. «Горная свобода» – право разведки и добычи полезных ископаемых вне зависимости от того, кому принадлежала земля, – обладала такой силой, что на самом деле заставляла землевладельцев, даже если они не хотели этого делать, разрабатывать недра на своих землях – для собственной выгоды и государственного блага. Закон предписывал землевладельцам выполнить желание царя, «дабы Божье благословение под землею втуне не осталось»[67]. Считается, что горное законодательство, наряду с другими протекционистскими, но в то же время волюнтаристскими мерами Петра, обеспечило промышленный рост; однако оно также породило недовольство. Екатерина решила, что свобода владения была лучшим стимулом экономической деятельности, чем свобода поиска полезных ископаемых на чужой земле.
Конечно, ни отказ Екатерины от петровской «горной свободы», ни последующая критика этой екатерининской реформы не были основаны на эмпирических данных об эффективности той или иной модели. Даже сейчас мы не можем судить об экономических последствиях петровской «свободы» и екатерининской приватизации, поскольку этот вопрос недостаточно изучен. Ясно только, что манифест Екатерины приобрел новое значение в следующем столетии, когда Россия стала отставать от более технологически развитых европейских стран и потеряла свои позиции крупнейшего европейского производителя железа. Хотя структура прав собственности вряд ли была среди основных причин этого отставания, именно так стало представляться дело несколько десятилетий спустя. В конце XIX века, когда вдохновлявшая Екатерину идея, что частная собственность является главным катализатором для экономической деятельности, была отброшена наряду с верой во внутренне присущую человеку экономическую рациональность, дворянская монополия на полезные ископаемые стала подвергаться резкой критике как предполагаемая причина отсталости российской тяжелой промышленности. После освобождения крепостных крестьян в 1861 году права собственности на недра были автоматически распространены на номинальных собственников земли – крестьянские общины, которые одним росчерком пера превратились в держателей скрытых богатств. Однако, как мы увидим далее, из‐за общинной структуры землевладения и плотного бюрократического контроля крестьяне не обладали реальной властью распоряжаться своей землей и ресурсами, и подземные богатства крестьянских земель были недоступны. На самом деле крестьяне часто продавали промышленникам свои права на разработку полезных ископаемых, но из‐за ограничений, наложенных на их право распоряжаться землей, формы и методы этих сделок были нерациональны. Таким образом, внедрение частной собственности в социальную систему, основанную на крепостничестве и общинном землевладении, с экономикой, в которой не было рынка труда и свободного обращения земель и товаров, дало результаты, противоположные тем, на которые рассчитывала Екатерина. Ее закон о праве собственности на землю и недра стал миной замедленного действия, которая взорвалась только через несколько десятилетий, когда Россия вступила в период ускоренной индустриализации.
Другим непредвиденным последствием екатерининского закона 1782 года о недрах было то, что в начале XIX века он был распространен на все объекты, находившиеся под землей, включая клады и археологические памятники. Практика применения закона по отношению к памятникам, находящимся под землей, берет начало в деле, рассмотренном в Сенате в 1803 году. Тверской губернатор Иван Михайлович Ухтомский был обвинен в том, что он приказал полиции искать «вымышленный клад» (сундук с «деньгами серебром семьдесят пять тысяч») в имении помещицы Карманалеевой[68]. Дело закончилось заключением под стражу человека, распространявшего слухи о кладе, наказанием полицейских чинов, мучивших пытками двух невинных крестьян помещицы, и выговором губернатору Ухтомскому за нарушение прав собственности Карманалеевой, согласно закону 1782 года о праве собственности на землю и ее недра. Характерно, что Сенат аргументировал свое решение ссылкой на относительно недавнее законодательство о собственности.
Пятьюдесятью годами ранее усилия Ухтомского были бы вознаграждены и высоко оценены: длившаяся столетиями административная практика, хотя и не нашедшая отражения в законодательстве, предполагала, что в сферу ответственности местных властей входило расследование всех слухов о кладах, вне зависимости от того, где они были обнаружены, в царских или частных владениях. В XVII–XVIII веках преследуемые по «сыскным делам по кладам» зачастую подвергались пыткам на дыбе, но, разумеется, не могли сообщить местонахождение сокровищ[69]. В отличие от средневековой и раннемодерной Европы, где юридическая практика постоянно подтверждала королевскую привилегию на обладание кладами (даже теми, что были найдены в частной земле), ни один российский закон открыто не утверждал царскую прерогативу на владение кладами. Тем не менее эта прерогатива осуществлялась. Но при этом не было установлено, что сокрытие клада является преступлением. Указ Петра I от 1723 года был первым законом, явно выразившим эту прерогативу. Согласно ему, человек, сообщивший властям «заблаговременно без всякой утайки» о местонахождении клада, «может быть» пожалован царем[70]. Любопытно, что в этом указе клады упоминались наряду с неизвестными правительству залежами руд, которые могли содержать ценные металлы.
Сенатское постановление по делу губернатора Ухтомского, признавая право частной собственности и на материальные, и на исторические сокровища, символизировало радикальное изменение прежней практики. Клады не упоминались в законах о правах собственности, но, как это видно из указа Петра о поощрении поиска руд и кладов, считались таким же даром земных недр. Поскольку клады обычно находятся под землей, Сенат в своем решении посчитал их частной собственностью, находящейся в недрах земли[71]. Позднее, со ссылкой на манифест Екатерины 1782 года, решение по делу о мнимых кладах в Тверской губернии, ставшее законом[72], было включено в Свод законов, в статью, запрещающую всем, в том числе и правительственным властям, искать клады на частных землях[73]. Сенатское решение 1803 года оставалось единственным законом о кладах в российском законодательстве имперского периода. Парадоксальным и, как думают многие эксперты, пагубным для развития археологии последствием этого решения стало его влияние на археологические раскопки: из‐за него государство практически лишилось возможности проводить исследования в частных владениях.
Еще более очевидно екатерининский закон повлиял на использование водных путей. Щедро раздавая земли с крестьянами, лесами и озерами, Екатерина также подарила своим фаворитам огромные поместья вдоль рек, что позволило затем одному из счастливых наследников заявить в 1900 году, что екатерининская «данная» предоставила его предкам в собственность Днепр[74] (это было заявлено, чтобы предотвратить строительство гидроэлектростанции на реке). В своей щедрости Екатерина также пошла против намерений Петра I, чья политика в отношении водных путей накладывала значительные ограничения на частных землевладельцев: они должны были удалять все препятствия, в том числе водяные мельницы, рыболовные запруды и другие сооружения, которые могли мешать проходу лодок и кораблей[75]. Свобода использования водных ресурсов, провозглашенная Екатериной II, противоречила не только петровской политике централизации, но и попыткам самой Екатерины ограничить приватизацию рек в целях поддержки торговли, для чего надо было обеспечить беспрепятственное плавание речных судов. Екатерина старалась оказать поддержку купцам, жаловавшимся на произвол частных землевладельцев, которые, как утверждали купцы, не позволяли бурлакам проходить вдоль речного берега, а в случае кораблекрушения или не давали купцам высадиться на берег со своим грузом, или захватывали товары с потерпевшего крушение судна и вымогали крупные суммы за их возврат[76]. Однако политика Екатерины в отношении дворянства и особенно манифест 1782 года, напротив, внесли большую путаницу. Двойственные меры Екатерины – централизация управления ресурсами при одновременной поддержке дворянских прав собственности – воплотили в себе противоречие между централизаторскими политическими целями монархии, с одной стороны, и ее желанием поддерживать экономическое развитие, регионализм и права личности, с другой. С этого времени правительство пыталось найти способ согласовать эти противоположные интересы и представления о реках как о частном или общем имуществе.
Возможно, самым большим был разрыв между петровской политикой государственного контроля над использованием лесных ресурсов и екатерининской всеобъемлющей приватизацией лесов. Для обеспечения лесом кораблестроительных задач Петра было издано множество указов, запрещавших рубку в «заповедных» местах вдоль речных берегов и использование определенных («заповедных») пород деревьев для частных нужд[77]. На самом деле, наиболее ценные породы древесины (такие, как дуб) были собственностью государства. Петр также поставил управление лесами страны под контроль Адмиралтейства, основного потребителя древесины в империи. Екатерина II решила отменить режим, регулировавший со времен Петра лесопользование: спустя три месяца после объявления о праве собственности дворян на поверхность земли (включая реки) и ее недра, манифест Екатерины 22 сентября 1782 года отменил все ограничения, которые, по словам этого закона, приносили больше убытков подданным, чем пользы Адмиралтейству. Екатерина предоставила землевладельцам «свободу пользоваться» лесами и запретила любые посягательства на их право собственности. Действуя таким образом, она надеялась удовлетворить экономические нужды государства посредством поощрения развития рынка древесины. Манифест также выражал веру Екатерины в разум ее подданных-дворян, которые, как ей представлялось, «приложат старание их о всевозможном охранении лесов своих от напрасного истребления и о размножении растений их в собственную свою и потомства их пользу»[78]. Как едко заметил столетие спустя анонимный чиновник Министерства государственных имуществ, «в этой надежде великая императрица жестоко ошиблась»[79]. В своей лесной политике Екатерина пренебрегла камералистскими принципами своего времени, которые предписывали правителям стараться тщательно контролировать лесные ресурсы[80]. Большинство экспертов в XIX веке сходились в том, что новая политика открыла двери для массового уничтожения лесов империи. (Эмпирические данные, собранные в 1950 году, показали, однако, что результаты реформы были не столь разрушительными – лесные пространства продолжали сокращаться теми же темпами, что и до реформы[81].)
Как же объяснить страстное желание Екатерины раздать природные богатства в частные руки? В первую очередь, эти реформы преследовали весьма прагматичную цель: приватизация рек, лесов и недр означала признание неспособности государства справиться с их управлением, которое требовало значительных финансовых и прочих ресурсов, и, таким образом, реформа освобождала правительство от этого бремени. В конечном итоге попытки Петра I централизовать управление водными путями и лесами, «национализировать» необходимые для строительства флота леса и регулировать частное пользование природными ресурсами закончились ничем. Государственная власть оставалась слабой, на местном уровне почти незаметной, и, кажется, в условиях господства сельского хозяйства в экономике мало кто разделял веру царя в первостепенную важность «общего блага». Водные мельницы и мосты, снесенные по царскому указу, строились заново и продолжали мешать прохождению речных судов, а владельцы судов по-прежнему страдали от притеснений со стороны местных чиновников, откупщиков, землевладельцев и даже крестьян[82]. Так же и петровскую политику в области лесопользования невозможно было поддерживать только силой (например, установлением смертной казни за незаконную рубку деревьев в заповедных лесах), без создания совершенно новой системы управления и контроля. В дискуссиях о праве собственности, развернувшихся в конце XIX века, петровский эксперимент часто представал идеальным примером государственного регулирования во имя общего блага. Однако участники этих дебатов не заметили, что многое из предписанного петровскими указами никогда не было исполнено. Государственная монополия на природные ресурсы требовала такого механизма управления и контроля, который значительно превышал возможности страны. Неспособность государства предотвратить стихийную приватизацию ресурсов подчеркивает утопический характер петровских планов: государство претендовало на роль, которую в реальности не могло исполнять.
Екатерининская приватизация являлась признанием существующего положения вещей и решала важную проблему: государство избавлялось от активов, которые оно не могло содержать. Таким же образом Екатерина раздавала земли на новых окраинах дворянам и иностранным поселенцам[83]. Как утверждает Роберт Джонс, знаменитая реформа Петра III – дарование «свободы» от службы дворянам – представляла собой не что иное, как попытку сократить затраты на выплату жалованья[84]. Схожим образом Екатерина пыталась представить как щедрый дар приватизацию, которая на самом деле была необходимостью. Надо сказать, что и впоследствии, в конце XIX века, правительство отказывалось взяться за управление природными ресурсами, ссылаясь на неприкосновенность частной собственности. На самом же деле одной из главных причин этого отказа было отсутствие необходимых средств управления: бюрократический аппарат с трудом справлялся с существующим казенным имуществом. Долгое существование крепостного права тоже, в сущности, во многом объяснялось недостатком административных и финансовых ресурсов: приватизация публичной власти позволяла государству возложить местную власть на помещиков, сокращая государственные расходы и обязательства.
И все же в прагматическом расчете Екатерины было одно упущение: приватизация требовала структурных трансформаций и нововведений. Чтобы эта система заработала, правительство пыталось создать соответствующее институциональное основание. Спустя три года после восшествия на престол, в 1765 году, Екатерина велела провести Генеральное межевание земель. Тысячи землемеров, вооруженные мерными цепями и астролябиями, отправились фиксировать границы дворянских владений (дач). Государственная опись частных имуществ представляла собой пример камералистской политики и, как предполагалось, благожелательного вмешательства государства в частные дела. Межевание вполне соответствовало екатерининской щедрой политике в отношении дворянства: многим дворянам удалось увеличить свою собственность за счет государства[85].
Недостатком межевания было то, что оно длилось десятилетиями и в реальности затруднило проведение реформ в области прав собственности. Например, Екатерина провозгласила лесную свободу в то время, когда межевание земель только начиналось, и в результате границы между частными и государственными лесами во многих случаях так и остались не установленными. Благодаря тому что в структуре российского землевладения накладывались друг на друга многие различные виды владения и пользования, земли и леса было очень трудно разделить, упорядочить и картографировать, поэтому одна пятая всех подлежащих межеванию территорий была оставлена в «общем», или спорном, владении, и вопрос о собственности на эти земли был отложен до проведения «специального» межевания, которое началось только в 1840‐е годы[86]. Эта неопределенность наиболее пагубно сказалась на лесах: деревья на этих «общих» землях первыми падали под ударами топоров конкурирующих собственников, дворян и крестьянских обществ: общее владение, утверждал И. Гершман, было важным фактором разрушения лесов России[87].
Государственные леса также стали жертвой неопределенности в сфере прав собственности, а местные власти не смогли защитить права государственной собственности. Петр Кох, член Вольного экономического общества, писал в 1809 году, что казенные леса «сделались как бы всем принадлежащими»[88]. Дворяне рубили деревья в казенных лесах как в своих собственных[89]. Отсутствие четких границ между землями разных собственников было лишь одной из многих особенностей российской реальности, которые затрудняли развитие прав собственности на практике. Снова следует отметить, что частная собственность была введена в экономическую систему, работавшую по старым правилам и обычаям. Законодательство о собственности (и идеология права собственности) шло вперед, а механизмы, обеспечивающие применение законов, отставали, что уменьшало способность государства эффективно управлять своими ресурсами.
Похоже, однако, что идеологические и политические основания для усиления дворянских прав собственности были едва ли не более важными, чем экономические мотивы. Этим объясняется настойчивость, с которой Екатерина пыталась укоренить идеи собственности в русском обществе. Россия необычна тем, что именно императрица стала первой, кто писал о праве собственности и старался развить его политически и интеллектуально. Однако императрица не была ни философом, ни юристом. Она интуитивно схватывала основные черты современных ей просветительских доктрин, при этом часто и, возможно, намеренно не обращая внимания на разницу интерпретаций. Заимствуя из разных источников, Екатерина создавала собственную модель права собственности, которая была совместима с самодержавием и полезна ему.
Какая же из существовавших в XVIII веке моделей собственности более всего подходила для целей Екатерины? Идея абсолютного, неограниченного характера собственности, выраженная в реформах 1780‐х годов, весьма схожа с «фанатичной»[90], по выражению Элизабет Фокс-Дженовезе, защитой собственнических свобод французскими физиократами, которые, провозгласив ценности экономического индивидуализма, вместе с тем отрицали связь между собственностью и политическими правами. Как подчеркивала Фокс-Дженовезе, физиократы пытались освободить собственность от всех политических атрибутов, представляя ее как идеальную основу для иерархического социального порядка. Это видение «собственнического индивидуализма» оставляло мало места для общего блага и в этом смысле противоречило другим теориям собственности, которые интерпретировали этот институт как основу общества[91].
В то же время частная собственность являлась ключевой концепцией для доктрины естественного права, которая составляла этическую основу раннего экономического либерализма. Иштван Хонт показал, что в ранних работах Адам Смит, продолжая линию своих предшественников, Гуго Гроция, Пуфендорфа и Локка, обличал атомистическое, асоциальное ви´дение собственности физиократами как негуманное, поскольку оно превращало частную собственность в орудие государства[92]. Основная предпосылка естественного права – «каждый ограничивает свою свободу так, чтобы не стеснять свободу других»[93] – подчеркивала сущностно ограниченный характер частной собственности. В отличие от трудов физиократов, ранние работы экономических либералов фокусировались именно на вопросах справедливости, морали и добродетели[94]. В тот момент дискуссии о собственности в основном касались проблем голода и бедности, которые ставили в трудное положение защитников неограниченной свободы собственности. В России проблема бедности не представлялась настолько важной, отчасти потому что крестьяне, как предполагалось, были защищены от превратностей природы или помещиками, или государством. Таким образом, моральный аспект в дискуссиях о собственности был значительно менее важным. Частная собственность, как, вероятно, представляла ее себе Екатерина, была даром, а не социальной ответственностью; она была данной государыней привилегией, а не естественным правом.
Иную, весьма отличную от естественного права интерпретацию собственности представляли доктрины раннего европейского консерватизма. Как пишет Джерри Мюллер, ранние консерваторы проповедовали те же ценности, что и философы Просвещения – разум, частную собственность, свободу[95]. Однако смысл этих понятий был различным. Юстус Мёзер, один из самых известных консервативных мыслителей Германии XVIII века, воспевал священную собственность как символ свободы личности и индивидуализма. Однако в его теории смысл индивидуализма, как и само значение собственности, проистекали из средневекового видения социального порядка, c четко разграниченными сословиями и рангами, разделенными не только уровнем благосостояния, но и наследственными правами. «Свобода» в интерпретации Мёзера идентична чести; собственность тоже оказывается в этом смысле связана с честью, политической свободой и патерналистской властью землевладельцев. Защищая собственность, Мёзер признавал гражданскую ответственность, присущую ей, но это была не ответственность любого собственника перед всем обществом, а долг и обязанность сеньора по отношению к своим слугам и крестьянам[96].
Теория Мёзера может показаться в чем-то весьма похожей на идеи его либеральных современников и предшественников. Он считал, что собственность является основой гражданственности и, как и сторонники доктрины естественного права, рассматривал ее как воплощение общественного договора. Существенная разница, однако, заключалась в деталях и риторике. Контракт, о котором писал Мёзер, связывал правителя и дворян-собственников. Работы Мёзера, как мы увидим, создавали весьма своеобразную консервативную концепцию собственности, пронизанную романтизированными понятиями чести и личности и идеализированной привязанностью к объектам владения. В отличие от более гибкой, универсальной и абстрактной либеральной модели, Мёзер утверждал абсолютный характер собственнических прав и выступал против их ограничений.
Этот краткий обзор дискуссий XVIII века о собственности не исчерпывает всего разнообразия значений, заключенных в понятиях «свобода» и «собственность», которые Екатерина использовала часто, но без объяснений. Императрица могла позаимствовать идеи из любого источника. Мы знаем, что в своем «Наказе» она использовала фразы Шарля Монтескьё для описания пользы частной собственности для экономики. В разработке «Наказа» участвовал Семен Ефимович Десницкий, один из двух российских учеников Адама Смита, посещавших его лекции в Глазго; он до конца жизни оставался пропагандистом идей Смита[97]. Н. С. Мордвинов – автор известной записки о реке Эмбе – также начал свою карьеру при Екатерине с поездки в Англию, вернувшись оттуда поклонником британской политэкономии. Императрица, как установил Марк Раев, читала «Комментарии» Уильяма Блэкстона, хотя, возможно, и пропустила раздел о собственности[98]. Политические работы Локка, запрещенные в России, могли дойти до нее в многочисленных интерпретациях, в том числе в теоретических работах о собственности. Реконструировать все источники влияний на взгляды Екатерины по этому вопросу сложно: интеллектуальный ландшафт Европы эпохи Просвещения был очень пестр, и вряд ли получится точно определить место императрицы на этой ментальной карте. Стремясь к достижению нескольких целей одновременно – создать имидж империи как «нормального» государства, заслужить поддержку дворян и решить проблемы экономического управления, – она совмещала противоречивые элементы из разных концепций. Провозглашение свободы частной собственности было заведомо выигрышным политическим и риторическим ходом. В то же время приватизация ресурсов не несла с собой социальных рисков по причине патриархального строя российской экономики, основанной на крепостном праве.
Каковы бы ни были источники вдохновения для императрицы, очень важно подчеркнуть, что провозглашение права частной собственности в России не являлось проявлением либерального мышления, поскольку в XVIII веке (так же как, впрочем, и в XIX) идея частной собственности представляла собой «общее достояние» и «либералов», и «консерваторов». Собственность могла быть истолкована и как наследственная вотчинная привилегия, и как индивидуальное естественное право; представлялось, что она проистекала из монаршей власти или была результатом контракта между членами общества. Хотя историки относят законы о собственности на счет влияния физиократов[99], похоже, что екатерининские представления о собственности и свободе были близки к идеям Мёзера, который суммировал немецкие теории в своих рассуждениях о связи гражданских свобод с властью государства. В рамках этой доктрины, как показал Леонард Кригер, «монархическое государство было… источником и свободы, и порядка»[100]. В России XVIII века как «свобода», так и «собственность» оказывались неотделимы от власти монарха[101].