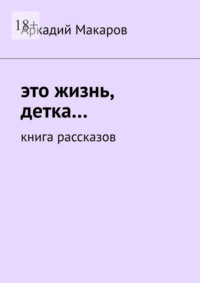
Это жизнь, детка… Книга рассказов
– Всё! Если бы не оголец капец нам! Сгорели бы. Торфяная крошка под навесом занялась. Ума не приложу, как это случилось?
Позже мы не раз вспоминали этот случай, вероятно, произошло самовозгорание. Такое бывает. В деревне к огню внимание всегда особое, искры в золе не могло быть, это точно.
Утром я рассказал матери о своем ночном видении. Мать несколько раз перекрестила меня и сказала, что это твой Ангел-хранитель был. Помолись, сынок, поблагодари Господа, что он беду от нас отвел. А говорят, – Бога нет…
Вот и теперь, сидя за стогом, не шевелясь, я во все глаза смотрел на дорогу, – как бы не прозевать мою сладкую парочку, провожатых моих.
Дорога была пуста, небо очистилась, над дорогой перемигивались звезды, и каждая звезда, почему-то, при этом тихо позванивала. Звон шёл отовсюду, нежный и мелодичный.
Мимо звезд, мимо дороги, босыми ногами касаясь снега, в белой просторной рубахе шла ко мне девочка, та, из ночного видения, спасшая нас от огня. Она опять внимательно и пристально смотрела мне в глаза, ее требовательный взгляд проходил в самый мозг, в самую его сердцевину. Она что-то от меня хотела, а что, я и понять не мог.
Было странно, что я не удивился девочке босой и в одной ночной рубашке посреди зимы на снежном поле.
Все так же мигали звезды, испуская небесный звон. Все так же светилась под луной пустынная белая дорога…
– Ах, мать-перемать! Чуть мальчонка вилами не запорол! – раздалось у меня за спиной.
Но я все сидел, не оглядываясь, все смотрел и смотрел на дорогу, на звезды, на девочку, которая стада пятиться и пятиться назад, и растворилась в белом просторе под хрустальные перезвоны звезд. Где-то там, вдали колыхалась ее газовая рубашка. Мне было хорошо. Так хорошо еще никогда не было. Тепло и уютно. Не надо меня трогать. Я никуда не хочу…
Мужик, пришедший воровать сено, чуть не проткнул меня вилами. Откинув вилы, он наклонился надо мной, тёр мои уши, лицо, тряс изо всех сил, матерился, потом опять тёр уши. Я ненавидел его. Зачем он пришел сюда? Зачем он меня трогает, не даёт смотреть на звезды? Ч то я ему сделал?..
Но слова так примерзли к языку, что и не оторвешь. Получалось глухое мычание.
Звезды стали срываться с неба, падать в снег и гаснуть. Месяц, как быстрые саночки, соскользнув с неба, скрылся за сугробом. Стало темно-темно.
Мужик поднял меня на руки, уложил на большие, как дровни, салазки с которыми он пришел за колхозным сеном, и куда-то повез. Потом был слышен чей-то плач, и, – голоса, голоса…
Очнулся я в избе от острой, боли в ногах.
Жарко топилась печь. Стоял резкий самогонный запах. Я лежал без штанов, в одной рубахе на широком лохматом тулупе. Перед собой на коленях я увидел Валентину, уже без берета, в шелковом с золотыми цветами платьице.
Валентина большой жесткой варежкой растирала и растирала мне ноги. Васятка сидел рядом на стуле, непослушными руками, просыпая махорку на свой фартовый реглан, набивал козью ножку. «Наверное, папиросы кончились» – промелькнуло у меня в голове. Мой двоюродный брат, скривив в горькой улыбке губы, все смотрел и смотрел на меня, и все сыпал и сыпал махорку.
Валентина кому-то сказала, чтобы мне дали теперь выпить самогонки. «Ему теперь внутрь надо, сказала она. – Грамм пятьдесят, не более». И весело на меня посмотрела.
Самогон был противный, отдавал дымом и свекольной горечью, но я, подавив отвращение, выпил все до капли. Где-то внутри, под самым сердцем стал разгораться костер. Ноги отошли от мороза и уже больше не болели, только кое-где покалывали иголочки. Валентина заставила меня пошевелить пальцами, что я с охотой и сделал.
Трусы в то время мальчишки моего возраста не носили, и мне было стыдно лежать, вот так, секульком наружу, перед такой красавицей и ловкой девушкой, как Валентина. Я быстро вскочил, схватил с лавки свои парты, и, путаясь в них, стал натягивать на себя. Все сразу засмеялись. Хозяин избы, где мы находились, хлопнул меня широкой ладонью по тощему заду и сунул мне в руки мягкий горячий блин, смазанный маслом,
– Ну, и напугал ты меня, паршивец! Ну, напугал. Как я тебя вилами не поддел – ума не приложу? Считай, ты заново родился. Накось, выпей еще!
Но Валентина отвела его руку:
– Успеет еще он к этой гадости привыкнуть! А, с медицинской целью, – ему достаточно.
– Иван, – обратился мой брат к мужику. По всем, видимости,
они были раньше знакомы» – Одолжи мне до-завтра санки. Я парня
на них домой отвезу, намучался он. А за то, что ты мальчишку
спас и от меня беду отвел, я тебе завтра сам воз сена привезу.
Дай салазки. Во, ведь как, – говорил он растеряно, – воз сена за мной! Ну, по рукам! Я этого бойца, как барина, домой доставлю. Ну, поедем или ты здесь заночуешь? – теперь обратился он ко мне.
Я с радостью закивал головой – конечно поеду! Это не ногами топать. И предано посмотрел на Валентину. Та молча погладила меня по голове.
Я быстро накинул пальто, застегнул на все пуговицы, надвинул шапку:
– Идем! – и цвиркнул по-мужски сквозь зубы.
Валентина закутала меня своим пушистым шарфом, и мы вышли на улицу.
Санки катились. Снег похрустывал. Звезды лучились и весело подмигивали мне, мол, ничего! – жив, будешь – не умрешь! И там, в сверкающей и мглистой вышине, среди ярких россыпей, расправив пушистые крылья, а может, это была накидка из газовой ткани, парил мои Ангел-Хранитель, которого я и потом, много-много раз искушал. Прости меня, Божий Посланец! И не держи на меня сердце. Аз – человек…
А. Васятка так и не женился на Валентине. Не глянулась она его родителям. Не ко двору пришлась.
ДЕТСКИЕ МОЛИТВЫ
Солнце пушистой белкой резвилось в густой листве, разбрасывало под ноги золотые денежки, но, сколько бы я не ловил их, в ладонях оставались лишь невесомые пятнышки света. Лес я увидел впервые. После бондарских степных просторов с выжженными, цвета верблюжьей шерсти, холмами, которые горбатились за обрывистым берегом Большого Ломовиса, присутствие такого количества деревьев меня ошеломило. Похожее чувство я испытал еще раз в жизни только при виде моря
Но это было много-много лет позже.
В самих Бондарях сады начали вырубать сразу же после установления Советской власти. А в военные годы порубили последние деревья – платить налог за каждый корень, не было мочи, да и лютые морозы того времени, требовали негасимого огня в жадных до поленьев в усадистых русских печах. В топку шло все: и хворост, и ботва с огорода и, когда уже было совсем плохо, то приходилось рубить и яблони, и груши, и даже горячо любимую русским народом рябину. «Как же той рябине к дубу перебраться, знать ей сиротине век одной качаться» – помните?
Не пришлось бондарской рябине долго жаловаться, – повалил ее топор. Мне же досталось помнить лысые, продутые насквозь пыльные улицы нашего села и – никакой зелени, чтобы зацепиться глазу. Может быть, поэтому я был так счастлив в тот день в лесу…
Дядя Федя, теперь уже покойный, райисполкомовский конюх взял меня в длинную и полную впечатлений дорогу. А, как не взять?! Соседское дело!
Мать быстро собрала меня, сунула узелок в руки и перекрестила: «А в городе у него крестный да крестная, да еще одна тетка есть, так, что ситный ему будет за каждый день, да и ума пусть за лето наберется – Тамбов, все-таки. Там и кино, и театры всякие, да и люди почище, никак здесь – в навозе. Пусть посмотрит, попривыкнет, небось, повезет после школы где-нибудь на заводе к хорошему делу прислониться, гладишь, и свой кусок завсегда будет. Не в Бондарях же всю жизнь за трудодни горбиться!»
Я весело завалился в телегу с сеном, и мы тронулись в путь. А путь мне предстоял длиной в полный летний день и мою мальчишескую жизнь.
Утро было зябким и долгим. Солнце все никак не хотело вставать и я, разворошив свежее, еще не совсем высохшее, а только подвянувшее сено, залез в него по шейку и, крутя головой в разные стороны, озирал окрестности. Лошадь шла мелкой рысью, влажноватая пыль, лениво поднявшись, тут же ложилась на землю. От травы исходило еще вчерашнее тепло и запах парного молока. Хорошо сидеть! Лошадь только – цок-цок-цок! Бряк-бряк-бряк! Как будто ее кто похлопывает широкой ладонью по животу:
– Селезенкой екает! – на мои вопрос ответил Дядя Федя, бросив вожжи. Он улегся рядом со мной на живот, покуривая свою вечную самокрутку, которую он никогда не выпускал изо рта. Как только огонь доберется под самые губы, так сразу – новую крутить. Я его и до сих пор с козьей ножкой вижу. Только курил он почему-то все не в себя, а так – дым пускал, небо коптил.
– Привычка такая с войны привязалась, дым в себя не глотаю, а в зубах цигарку до смерти держать охота. Вот, поди, ж ты! – сокрушался он, заметив мой пристальный взгляд.
Дорога уходила вверх по центральной улице с характерным названием «Тамбовская». Улица эта выводила на старинный ямщицкий тракт, соединяющий Тамбов с городами: Кирсановом, Пензой, и через Пичаево – с Моршанском и Рязанью, а через Уварово-Мучкап – с Саратовом и далее – с Астраханью. Такая вот столбовая дорога.
Наш сосед ехал в Тамбов по каким-то своим делам, и я, с благословения матери, увязался с ним. Человек он был смешливый, всегда с подначкой, пить и дебоширить, тем более, материться, как большинство бондарцев, он не любил, потому, не всегда пользовался уважением у наших мужиков.
У него была обидная и презрительная слава бабьего угодника, примака, проживающего с тёщей и не проронившей о ней ни единого худого слова, хотя теща его была баба сварливая и скандальная, корила его за неумение жить, за его работу, грязную и неблагодарную. Мне часто слышался ее голос хозяйки и распорядительницы.
Жена же его, наоборот, была тиха и спокойна, ссор с бабами не затевала, ходила чисто и опрятно, правда, всегда в черном платочке. То ли за этот чёрный платок, то ли за то, что она пела в нашем церковном хоре, бабы называли ее монашкой, и тихонько подхихикивали над ней, как будто быть монашкой – предосудительно. Детей у наших соседей не было, может быть, поэтому дядя Федя при встречах приветливо шутил с нами, пацанами, в большинстве своем – безотцовщиной. Война прошлась и по нашим детским судьбам жестоко и без разбору…
Под тихое поскрипывание телеги я задремал согретый привянувшим сеном и близостью большого, пахнувшего табаком и лошадьми, крепкого мужского тела. Проснулся, когда солнце уже припекало вовсю, и становилось жарко. Разгребая руками сено, я выпростался из своего гнезда, и снял рубашку. Дядя Федя все так же лежал на животе, прижав локтем вожжи и посасывая самокрутку. Бондари остались далеко позади, только церковь размытая знойным маревом еще покачивалась на самом горизонте, оседая и меняя свои очертания. Так далеко от дома я еще никогда не был. Щемящее чувство оторванности от родного гнезда, заставляло меня все время поворачивать голову туда, где вместе с белым облачком уплывала за край земли наша церковь. По большим праздникам, а на Рождество и на Пасху мать меня не без труда, заставляла идти с ней туда, в сумеречную прохладу храма и молиться за своих близких, чтобы, не приведи Господи, беда не наследила в нашем доме, чтобы картошка уродилась, чтобы я хорошо учился и был хорошим сыном и хорошим человеком.
Не знаю, сбылись ли мои детские молитвы? Теперь нет в живых ни отца, ни матери, а судить о себе, как о человеке, я не имею права. Но, судя по всему, видимо, не были столь усердными мои мальчишеские молитвы…
Лошадь, разомлевшая то ли от жары, то ли от нашего попустительства, шла тихим шагом, лениво кивая головой. По обе стороны дороги наливала колос еще до поры до времени зеленая рожь, и там же, во ржи, где пронзительно голубели васильки, какая-то любопытная птица все спрашивала и спрашивала нас: «Чьи вы? Чьи вы?».
– Бондарские, вот чьи? – весело сказал дядя Федя и, встав на колени, огрел нерадивую лошадь длинным плетеным цыганским кнутом так, что она от неожиданности, потеряв чувство меры, сразу же перешла на галоп, телегу начало трясти, и я тоже, встав на колени, ухватился за жердину окаймлявшую телегу, и, чтобы не оказаться на дороге, то и дело привставал в такт прыгающей телеге.
– Ах, мать твою ети! Жизнь по воздуху лети! – дядя Федя огрел лошадь еще раз, и она почему-то с галопа перешла на рысь, но крупную и размеренную.
Надо сказать, что наш сосед никогда не ругался матом, и в подходящих случаях: или говорил о каком-то «японском городовом» или о «елках-палках», но, теперь видимо почувствовав свободу и волю, решил осквернить свой язык, таким вот приближением к веселому русскому матерку. Было видно, что у него, то есть у моего соседа, нынче озорное настроение. Он, наверное, как и я был возбуждён простором и безлюдьем поля, длинной дорогой и предполагаемой встречей с городом, не знаю, но лицо его, нынче гладко выбритое, светилось какой-то затаенной радостью, предвкушением чего-то необычного. Глаза с озорной усмешкой посматривали на меня, и весь их вид говорил, что, мол, вот мы какие! Перезимовали и еще перезимуем! А сегодня наша воля!
Я тоже заразился этой бесшабашной радостью: нырнул несколько раз в сено, потом опрокинулся на лопатки с намерением посмотреть – куда это идет-плывет вон то белое облачко? А вдруг из него покажется бородатое лицо Бога? Вот ужас, что тогда будет!
Но мою голову начало колотить так, что я тут же, вмиг растерял все свои фантазии.
Лошадь с размашистой рыси перешла просто на короткий бег, быстро-быстро переступая ногами, и так она бежала без понуканий долго и ровно. Впереди высоким забором из частых штакетников вставая лес темный и таинственный. Лес вырос как-то сразу и неоткуда, И я с удивлением рассматривал его сказочную сущность, о которой читал до того только в книжках. Дорога песчаная и рыхлая, в которой со скрипом увязали колеса, заставила лошадь идти шагом. Мы въехали в звонкую и сумеречную прохладу леса. То ли это птицы, то ли сам воздух ликовал от избытка бытия, – клубилось зеленое и синее, желтое и голубое. Под каждым кустом, веткой и деревом ворочалась, скрипела, трещала и свистела жизнь во всех ее проявлениях. Дышалось легко и свободно.
Дядя Федя, глубоко вздохнув грудью, повертел кругом головой и выбросил недокуренную цигарку. Потом я это вспомнил, читая у Николая Клюева: «В чистый ладан дохнул папироской, и плевком незабудку ожег». Все мое тело омывала легкая прохлада, как будто я после пылкого зноя окунулся в хрустальную струйную воду.
Свернув с дороги и вихляя меж стволов, мы заехали далеко в глубь леса. Сам ли дядя Федя то хотел, или только меня потешить, зная, что я отродясь не видел леса, но заехали мы в такие дебри, из которых я не знал, как будем выбираться. Деревья обступили нас со всех сторон, с любопытством поглядывая на незваных гостей и тихо о чем-то перешептываясь на своем древесном, одним им понятном, языке. Они всё говорили и говорили, вероятно, осуждая нас за то, что мы помяли траву, а вон там задели телегой за куст черемухи и обломили несколько веток, с которых вяло, свисали бесчисленные кисточки маленьких черных ягод.
Дядя Федя распряг лошадь, которая, видимо еще не понимая в чем дело, оставалась стоять между двумя упавшими оглоблями. Тогда дядя Федя, по-свойски, для порядка, огрел нерасторопную кобылу концами вожжей, и она тоже без зла легонько брыкнула задними ногами, и, не спешно переступая, пошла к ближайшим кустам, где в небольшой низине были: и трава погуще, и тени побольше. Лениво прихватив мягкими губами, разок-другой лесного разнотравья, она повалилась на бок, потом опрокинулась на спину, и начала кататься по лужайке то ли ради озорства, а то ли, отгоняя тем самым вечных своих врагов и постоянных спутников – слепней.
Дядя Федя пошарил в телеге и вытащил оттуда узелок. В батистовом в горошек головном платке был завязан обед, состоящий из увесистой ковриги ржаного хлеба свойской выпечки, одной луковицы и куска сдобренного крупинками соли домашнего сала.
Мой сотоварищ хитро подмигнул мне и, нырнув рукой в привязанное под телегой ведро с остатками овса, вытащил четвертинку водки. Все было готово к обеду.
– Ну, что, заморим червячка? – обратился ко мне дядя Федя. Я тоже потянулся за своим узелком, который собрала мне мать. Да и что она могла собрать, когда в доме пять голодных ртов мал-мала-меньше, а десяток кур, которые в этом году хорошо перезимовали у нас под печкой, сельсовет описал за невыплату налога по самообложению, – два куска чёрного хлеба с отрубями сложенными друг с другом и пересыпанными реденьким песочком – сахарок! ох, как вкусно! да бутылка квасу уже спитого, но еще не утратившего свою кислинку. Дядя Федя так, краешком глаза посмотрел на это богатство и положил мне сверху на хлеб, розовый на свежем срезе, пласт сала, отмахнув ровно половину от своего куска. Как можно отказаться! Оно так хорошо слоилось, было таким сочным и мягким, что я даже и сам не заметил, как кусок юркнул в желудок. Вытащив газетную пробку, дядя Федя посмотрел еще раз на меня, о чем-то подумал и тут же опрокинул к себе в рот содержимое четвертинки. Он, наверное, тоже не заметил, как булькнула в его желудок эта самая четвертинка, потому что, мотнув головой, он задумчиво понюхал хлеб, потом положил на него сало и стал жевать, прикусывая свой бутерброд, белой большой и брызгающей соком, как яблоко, луковицей. Лес, по всей видимости, уже перестал нами интересоваться, и теперь деревья, где-то там вверху пошумливали, решая свои извечные вопросы. Я поднял голову, там в самой сини раскачивались верхушки деревьев, словно подметали и без того чистое небо.
Дядя Федя выпростав из пыльных кирзовых сапог ноги, размотал и повесил на телегу в тёмных подтеках портянки, от которых сразу же потянуло баней и вчерашними щами. Прислонившись спиной к колесу телеги, он закрыл глаза и тут же захрапел. Красные, с толстыми ногтями пальцы ног торчали из травы, как желторотые птенцы какой-то совершенно странной птицы.
Мне спать вовсе не хотелось, и я, чтобы не разбудить своего благодетеля, спотыкаясь босыми ногами о жестяные сосновые шишки, разбросанные там и здесь, подался к черемухе, чтобы обобрать со сломанных веток ягоды. Сдаивая в горсть черемуху, я высыпал ягоды в рот, смело похрустывая косточками. Через несколько минут рот, как будто кто набил шерстью. Язык стал жёстким, и его пощипывало. Повернув обратно к телеге, я лег навзничь и стал пристально смотреть в небо. Деревья, взявшись, друг друга за руки, закружились вокруг меня, и я поплыл в зеленой колыбели к неизвестной пристани. Проснулся я от легкого толчка ногой в бок. Дядя Федя стоял передо мной, застегивая, видимо, после легкой нужды военного покроя брюки-галифе. Рядом со мной лежал почти полный картуз лесных ягод.
– На-ка, побалуйся, пока я лошадь запрягу, до вечера, гляди,
– успеем. А твой дядька в Тамбове, на какой улице живет, знаешь?
– А чего не знать-то! В самом центре. На Коммунальной улице, прямо возле базара.
– А-а! Ну, это ничего. Мне, как раз мимо ехать, там я тебя и оброню.
Дядя Федя, конечно, знал, где живут мои родственники, а спрашивал, вероятно, так, для порядка. Моя мать заранее ему весь путь обговорила. Я-то знал…
Лошадь топталась в сторонке, лениво постегивая себя хвостом по бокам, захватывая траву, она, почему-то мотала головой и недовольно фыркала.
Дядя Федя, легонько похлопывая кобылу по гладкой шелковой шее, подталкивал её к телеге.
В картузе, вместе с красной в пупырышках земляникой, голубела мягкими присосками ягода-черника. Пока мой сопровожатый возился с упряжью и ладил оглобли, я, захватывая полными горстями ягоду, сыпал ее в рот, и захлебывался сладостным соком. Столько ягоды я никогда в жизни до этого, не то чтобы не ел, а даже не видел. В степном продутом и пропыленном родном селе кроме пышных, густых кустов лозняка по берегам теперь уже оскудевшего Большого Ломовиса, как я уже говорил, ничего не росло. Даже палисадников возле домов, и тех не было, – за время войны пожгли все…
Вытряхнув последние ягоды из картуза себе в ладонь, я кинул его в телегу, и тут же перемахнул в неё сам. Дядя Федя, подняв картуз, похлопал им себе по колену и натянул на голову. Мы снова тронулись в путь.
После короткого сна, такого же короткого обеда и сладкого десерта было гораздо веселее в том плане, что веселее жить. Вот подъедем мы к большому красного кирпича старинному двухэтажному дому с парадным подъездом, поднимусь я по широкой деревянной желтой выскобленной ножом лестнице, вот отсчитаю по коридору пятую налево дверь, вот постучусь согнутым пальцем в дверной косяк, а мне скажут: Входите!», вот войду я, и присядет тетка передо мной на корточки, вот ухватит меня теплыми мягкими ладонями за щеки и скажет: – «Ай, кто приехал!»
А дядя будет сидеть в углу в своей вечной гимнастерке, и легонько похохатывать: – Макарыч на харчи прибыл! Ну, давай, давай садись за стол. Как не хочу – не захвачу. А-садись! Как раз и захватишь!» И будут меня угощать ситной булкой, белой, ну, как вот руки у моей тети-крестной Прасковьи Федоровне. И будет чай из блюдца, и будет с печатями и двуглавыми орлами свистеть веселый самовар, А дядя Егор – крестный мой, будет опять похохатывать, щелкать маленькими плоскими кусачками крепкий, как теткины зубы, сахар-рафинад, и буду я, не спеша, легонько по-городскому, двумя пальчиками брать этот сахарок, класть его в рот и схлебывать шумно, со вкусом коричневый, пахнущий, угольками фруктовый чай, и буду тоже запрокидывать голову и улыбаться. А потом дядя Егор будет расспрашивать про отца – они с ним братья, вздыхать, вспоминая старое время, и потихоньку материть Советскую Власть. Но я об этом ни-ни! Молчок! Никому не скалу. На что вон Филиппович, человек грамотный, наш колхозный бухгалтер, тоже ругал Советскую власть, и его, не сжалились, забрали. До сих пор не вернулся, говорят, на Колыме свинец добывает…
Вдруг меня толкнуло с такой силой, что я вывалился из телеги. Какая-то коряга так ухватилась за колесо, что спицы – хры-хры-хры» посыпались, как гнилые зубы. Телега завалилась на бок, и ехать дальше не представлялось возможным.
Дядя Федя стоял у телеги и скреб пальцами под картузом. Потом, взяв лошадь за мундштук узды, повернул ее снова на полянку. Выпростав кобылу из упряжи и связав ей передние ноги, дядя Федя вынул чеку и снял колесо с оси,
– Ты пока тут ягод пошарь, а я с колесом до мастерской схожу. Километра два всего-то тут до Козывани, там колесо и починю. Ничего, доедем до твоего Тамбова, смеркается теперь поздно.
Он надел полупустое колесо на плечо, как вешают коромысло, и пошёл искать дорогу.
Я удивился его недогадливости, ведь он мог сесть верхом на лошадь и мигом добраться бы до этой самой деревни, как ее… Козывань.
– Дядя Федя, а на лошади быстрее! – крикнул я ему вслед. Он только махнул рукой, как бы отряхнув себя сзади.
Теперь-то я, наверняка, знаю, что у моего сопровожатого был застарелый геморрой, а то бы не вышло так, как вышло…
Я улегся у телеги и стал смотреть на старую сосну с облупившимся стволом. Оттуда, из-за редкой хвои, слышалась частая дробь, будто кто-то быстро-быстро вколачивал в сосну гвозди. Там, вверху, примостившись, как наш монтер Пашка на телеграфном столбе, орудовал усердный дятел. Опираясь жестким распушенным хвостом в ствол дерева, он, как припадочным, колотил и колотил головой, о сучок. Мне было интересно смотреть, когда он отшибет себе мозги и свалится наземь. Но он все молотил и молотил без устали, прерываясь только на короткий срок. И в этом промежутке сразу становилось тихо: то ли жара сморила всю лесную живность, кроме этого молотильщика, а то ли это вся живность тоже принялась ждать, когда у него отвалиться голова. Но голова у дятла оставалась на месте, а к моим ногам сыпались и сыпались мелкие опилки, так сказать, отходы производства.
Скучая, я подобрал один из обломков тележного колеса, и вооруженный этой палицей, пошел рубить головки лопухам с листьями похожими на елочки, это был папертник, но я тогда не знал его названия – лопух и лопух, только листья резные. Под этими листьями я увидел тут и там желтые смазанные маслом оладышки, которые росли прямо из земли. Весь их вид, вызывая у меня непреодолимое желание, попробовать их на вкус. Я сорвал один оладышек, снял с него прилипшую хвоинку и стал жевать. Вопреки моим ожиданиям, оладышек оказался безвкусным и отдавая сыростью. Есть его, сразу же расхотелось. Выплюнув крошево, я отправился дальше. Лошадь паслась неподалеку, перебирая передними ногами мелко-мелко, как балерина на носочках. Травы было достаточно – ешь, – не хочу, но наша кобыла была, вероятно, привередлива и ощипывала не всю траву подряд, а выбирала, какие-то одной ей известные виды, и поэтому она постоянно находилась в движении.
Пройдя несколько шагов, я остановился – впереди меня зашевелилась трава, и я с ужасом увидел, как передо мной, почти у самых ног извиваясь, скользила, сама по себе, толстая черно-зеленая веревка. Змея! Сработал инстинкт опасности, и я закоченело замер с поднятой палкой в руке, завороженный ее зигзагами. Веревка прошелестела мимо, не обращая на меня никакого внимания, и только концы травинок обозначали ее извилистый путь. Идти дальше мне сразу расхотелось, и я снова повернул к своему спасительному редуту – телеге.

