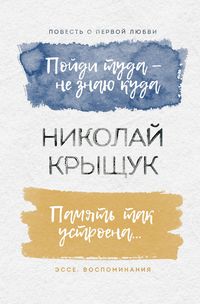
Пойди туда – не знаю куда. Повесть о первой любви. Память так устроена… Эссе, воспоминания
Гиппонакт
Эта античная строфа неизвестного ей Гиппонакта заставила Сашу тихонько засмеяться. Вопль о помощи, переписанный, быть может, в период экзаменационной сессии, еще больше расположил ее к хозяину секретера. Путешествие продолжалось.
Под плексигласом, на откинутой крышке секретера, ее внимание привлекла программка студенческой конференции, где среди прочих стояло и его имя. Слово «оксюморон» было незнакомым, и Саша повторила его про себя, чтобы запомнить. Здесь же хранилось множество фотографий. Некоторых из тех, кто был на них снят, Саша знала. Молодой Есенин, Цветаева. Газетная фотография Вана Клиберна. Паустовский у заросшей цветами веранды. Андрей Вознесенский на эстраде с вдохновенно поднятым кулаком. Между сервантом и окном на стене – большая фотография улыбающегося Хемингуэя, с аккуратной седой бородой, в крупновязаном свитере, который с его легкой руки вошел в моду и назывался хемингуэевским.
Однако другие лица были Саше незнакомы.
Собственно, реликвии секретера больше говорили об увлечениях времени, но Саше именно это и нравилось. Сама она была только понятливой дилетанткой в этом мире литературы, а здесь, казалось ей, было оно само. Например, Саша совершенно не знала, где другие добывают столь редкие фотографии, и человек, обладающий ими, уже казался ей посланцем другой жизни.
Его первенство Саша признала молчаливо и сразу. Ей показалось, что именно у таких секретеров рождается то серьезное, что потом до остальных (до нее) долетает искаженным звуком моды. Во всем взгляд ее улавливал черты, которые чем больше напоминали общие для всего их поколения, тем больше казались Саше родными и не похожими ни на кого.
– Ну как? – спросил он, входя в комнату.
– Это кто? – Саша указала на одну из фотографий.
– Андрей Платонов, – сказал он. – Ты не читала?
– А это?
– Юрий Тынянов.
– «Кюхля». Я читала. Это?
– Макс Волошин.
– Знакомый?
– Нет, что ты. Художник. Поэт. Критик. Вообще личность серьезная.
Он стал показывать ей книги. Доставал с полок, вытаскивал из стопок на полу, скороговоркой упоминал авторов, читал наизусть стихи. Ему казалось, что все, что он сейчас говорит, он говорит именно ей, Саше, хотя в действительности его общение с книгами обладало свойством самовоспламеняемости, и он мог бы с таким же успехом говорить сейчас то же самое кому угодно.
Саша уловила происшедшее в нем преображение, и оно невольно передалось ей. Она не успевала следить за ходом мысли, но видела только, как, словно у ребенка, улыбка довольства вползала на его лицо, и он, как ребенок, прогонял ее, напружинивая губы и нервно стягивая брови к переносице.
Она поняла вдруг, чего так хотелось ей тогда, девчонкой, и чего так остро захотелось теперь – ей хотелось пожалеть его. Да, именно сейчас, когда она восторгалась им и чувствовала его силу, ей неизвестно почему хотелось его жалеть. А он продолжал упиваться потоком своей речи, не подозревая, что не в тех, о ком он говорил как о своих хороших знакомых и к которым Саша даже не испытывала сейчас ревности, а в ней, в ее жалости источник его силы и, быть может, спасения.
Андрею, видимо, передалось как-то Сашино состояние. Он узнал этот ее взгляд. Нет, он ошибался, полагая, что теперь этот взгляд будет по силам ему, осекся, сказав что-то вроде: «Ну, в общем вот так…» – и отошел к окну.
Окно выходило в яблоневый сад, по их северным темпам только еще зацветавший. Солнце пропитало его розовым теплом, но за железной дорогой в районе парка Победы уже собиралась новая гроза. «День гроз и зноя, гроз и зноя», – произнес он про себя.
– Мне кажется, мы с вами где-то встречались, – сказал вдруг Андрей и почувствовал необыкновенное волнение, будто признался в любви. Страшно было повернуться от окна и взглянуть на Сашу.
Он повернулся.
Саша сидела, обхватив колени, и смотрела перед собой. Он присел на корточки, пытаясь заглянуть ей в глаза.
– Да? – спросил он.
– Нет, – сказала Саша, коротко засмеявшись своим «верхним» смехом. – Нет, вы меня с кем-то путаете. – В глазах ее выступили слезы.
– Саша, – позвал Андрей и взял ее за руки. – Эй!
– Нет, нет, – замотала головой Саша. – Говорю же!.. – Она смахнула пальцами слезы и улыбнулась. Ее большие веки подрагивали. Андрей поцеловал Сашины руки и торопливо заходил по комнате, как будто разминая тело после сна. Потом остановился и спросил намеренно бодро:
– Еще ложечку кофе?
– И покрепче, – ответила Саша.
После третьей за сегодняшний день грозы зелень пахла по-банному душно. В траве шевелились прибитые дождем бабочки. По лужам мальчишки гнали крючками кольца. Схватив Сашу за плечи, Андрей оттащил ее подальше от лужи, и водяной веер покорно лег у ее ног. Уже совсем не грозные облака пенились на горизонте и оседали, превращаясь в янтарный закат. Казалось, там шло большое пиршество. А может быть, боги заметили их и подняли кубок за их счастье.
Когда они порядочно отошли от его дома, Саша, усмехнувшись, сказала:
– Что-то сегодня день какой – снова есть хочется.
– Давай зайдем в кафе, – сказал он. – Тебе чего хочется?
– Мяса! – сказала, как отрубила, Сашенька.
– Сырого?
– О, нет! – засмеялась она. – Сырое ест только ваш барс.
Проводив Сашу до дома, он вышел на улицу, вычислил ее окно на первом этаже и увидел, как Саша включила свет и задернула шторы. То, что она не выглянула в окно, вызвало в нем досаду – его уже не было с ней. Ему захотелось вернуться и навсегда забрать Сашу, но он только еще раз взглянул на слабо освещенное в белом сумраке окно и медленно пошел домой.
Андрей перебирал в памяти события дня, и во всем, что сегодня произошло, виделся ему прекрасный умысел и таинственное обещание чего-то необыкновенного.
Он привык верить своим предчувствиям. Ему казалось, что если относиться к жизни с серьезно, то можно подстеречь судьбу, увидеть, как природа и обстоятельства плетут нить твоей жизни. И вот ты уже вовлечен в игру и мчишься неизвестно куда, и главное, что от этого влечения к тому, что ждет тебя за поворотом, уже никуда не деться, – в этом-то и состоит главная упоительность всего. Наконец приходит момент, когда вступает в силу голая неизбежность, происходит внезапное отключение воли, и человеком овладевает пугающее и прекрасное чувство неумолимости жизни.
Этот миг, когда уже невозможно уклониться, быть может, и наступил теперь.
Тут же он попытался осадить себя и дал слово ироничному Тараблину. «Романтический предрассудок – атавизм – милое наследие золотого, что уж говорить, века русской литературы!..» – «Предрассудок, – отвечал он Тараблину, – разумеется. Но ведь факт!»
Андрей вдруг подумал, что они в СНО, анатомируя текст, рассуждая о композиции, детали и прочее и прочее, слишком мало говорят да и думают о том, что как раз и есть главное: счастье, смерть, любовь… Выходит так, будто все, над чем бились те, кого холодновато называют классиками, теперь уже разрешилось и давно выяснено, и главный интерес представляет не «что», а «как». Играют с классиками в «классики». Всякий боится всерьез подойти к главному, всякому кажется, что он ростом не вышел. Тут надобна личная смелость. Да, личная!..
Таким представлялось ему сейчас все это простым и ясным, и, казалось, уж оттого, что он это понял, он в миг перерос на голову своих коллег и вступил на тропинку самостоятельной мысли.
«Вот, например, хоть я сейчас, – думал Андрей. – Счастлив? Пожалуй. С другой стороны – что такое счастье? Прыгающий в груди щенок? И может быть, собачья радость – имя этому восторгу. Что я знаю про счастье? Что все про него знают?»
Но, что же тогда делать, снова подумал он. Как сказано в сказке: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».
Когда он впервые прочитал эту сказку, его поразило, что и сам царь не знает ведь, куда нужно идти и что добыть. А в то же время непреклонность его воли говорила, что он как бы и знает то, чего не знает, и нужно Ивану Царевичу идти не просто, куда глаза глядят, а именно в то заповедное место, о котором никто не имеет представления.
Вот что оно такое – счастье.
А почему Мефистофель отнял у Фауста жизнь именно тогда, когда тот захотел остановить мгновение? Да, если счастье – это блаженство, то погружение в него всегда влечет за собой гибель. Однако вот же я иду и – никакой потусторонней силы за плечами. И завтра снова, если захочу, могу увидеть Сашу. И вот же – мозоль на ноге чувствую, и правый ботинок промок, и хочется спать… Какое уж тут блаженство.
А может быть, счастье – это чуть-чуть, малая малость, тополиная пушинка, которая нарушает мертвое равновесие весов? Стоит ли о ней думать, когда она есть, а когда ее нет – и тем более.
Но, что же это я рассуждаю? Или мне чего-то еще недостает?
Ему стало досадно, что он столько рассуждал о каком-то счастье вместо того, чтобы думать о Саше. «Сколько времени потерял даром, дурак», – сказал он вслух и принялся думать о Саше. И все, что он ни вспоминал о ней, все ему нравилось. Он находил ее и остроумной, и деликатной, и умной, и красивой. «Зачем вы держите этого людоеда?» Он рассмеялся, но тут же сам себе зажал рот и оглянулся – не напугал ли кого из прохожих.
«Нет, друзья, это судьба, что мы с ней встретились, – одержимо бормотал он. – Это, уж извините, не ваших рук дело. Не обижайтесь, но вы бы так не сумели. Тут, видите ли, замысел просматривается, который нам с вами не понять. Пенять. Шпынять… Судьба, господа, судьба, а она, как известно… Да-с. Два-с. Ай, хорошо, ай, хорошо», – напевал он, подпрыгивая и поднимая колени.
И вдруг ему вспомнилось, как совсем еще несмышленышами встретились они с Сашей у куста и она просила его отдать бабочку, и вспомнилась бабочка, нервно подрагивающая сдвоенным крылом, и то чувство стыда, которое он испытал, увидев Сашу в бане. Он впервые вспомнил об этом, и полузабытые эпизоды выстроились сейчас в ряд, и ряд этот поразил его своим пугающе ясным смыслом. Как же он не вспомнил об этом сразу. Надо завтра же, завтра же рассказать об этом Саше.
Но он тут же понял, что они далеко еще не перешли на тот язык, которому было бы это подвластно, слишком много условностей стояло между ними, и то, что он чувствовал к Саше, ему еще необходимо до времени таить. Но эта затяжка была принята им с юмором и ничуть не поколебала оптимизма.
Дома он сразу прошел на кухню и, не зажигая света, долго смотрел на букет оставленных Сашей гвоздик. Дотронулся до стеблей, будто тронул Сашины пальцы. Вдруг ему вообразилось, что что-то помешает им встретиться с Сашей. Втайне он сознавал, что это вздор и что он зря мучит себя, но ему хотелось себя мучить.
Едва положив голову на подушку, он явственно услышал, что в подушке звенит гроздь маленьких колокольчиков. Поднял голову – звон исчез. Лег – звенят. Он потряс подушкой, покачал тахту, вынес на кухню вазу с вставленными в нее ветками сухого проса. Но как только снова приложил голову к подушке, тут же не ухом даже, а виском снова услышал колокольчики. Андрей успел еще подумать, что это слышится, наверное, струение крови по сосудам, успел с улыбкой усомниться и в этом, и в таком зыбком равновесии явственности и догадки исчез из мира.
«ТАРАБЛИН, ДРУГ ТЫ МОЙ ЛЮБЕЗНЫЙ! Как же забыл ты сдать мои книги в библиотеку? Мне из-за этого хотели придержать стипендию – едва упросил. Не друг ты после этого, а свинья. Я свинья по гороскопу, а это совсем другое дело. Мы – гороскопические (гороскопские?) свиньи – как раз отличаемся большой верностью в дружбе. Потому и пишу тебе, видимо, как обещал, хотя надо бы через бюро добрых услуг послать тебе дубинку и попросить, чтобы ею отколотили тебя.
Что тебе сказать – я в Тарусе, в этой подмосковной Мекке. И не один. А с кем, ты уж, верно, догадываешься. Мы с Сашей сняли веранду у милой женщины Ольги Осиповны.
Не буду прибавлять к классическим описаниям свой рассказ о Тарусе. Скажу только – здесь лучше, чем можно было ожидать, прочитав того же Паустовского. Кстати, он, говорят, в Ялте и сильно болен, но его дом на Пролетарской показали нам мальчишки. Здесь все его знают и любят, фамилию произносят на свой манер – Пустовский.
Дом загорожен мрачным сплошным красным забором, и к нему не подступиться. Это немного огорчило нас. Гения красит демократизм и открытость. Хотя, думаю я, не писатели – слава воздвигает заборы, это ее и только ее забота. Будем же, Тараблин, наслаждаться пока своим бесславием. Кто знает, что ждет нас впереди, может быть, тоже забор – то-то скучно будет.
Были на могиле Борисова-Мусатова со „Спящим мальчиком“ Матвеева. Она заросла шиповником. Ездили в Поленово – там замечательно.
Что еще? Хожу пить пиво и слушать разговоры в шалмане на берегу Оки. Пиво, сказать правду, припахивает водой, но зато пейзаж удивительный. И люди и разговоры… Не могу сказать, чтобы все это, „превозмогая обожанье, я наблюдал боготворя“. Нет, этой умильности во мне нет ни на грош, я и в Б. Л. ее не люблю. Но скажи-ка, когда мы с тобой впервые подумали обо всех этих людях „они“ вместо „мы“? Дело не в том – лучше-хуже… Но разрыв этот вреден и нам и им (вот опять!). А главное, „они“ – это ведь и родители наши.
Таруса расположена на высоком берегу, и гулять по ней – удовольствие. Лодки на Оке с высоты кажутся поплавками, а невидимые лески от них уходят в небо.
Я подумал: приедь я сюда лет на десять раньше, один из этих рыбаков мог оказаться Заболоцким. Помнишь ты у Заболоцкого:
И я, живой, скитался над полями,Входил без страха в лес,И мысли мертвецов прозрачными столбамиВокруг меня вставали до небес.И дальше там что-то о „птицах Хлебникова“ и о том, что в камне проступал „лик Сковороды“.
Если и хочется чего мне в это лето (потому что полное отсутствие желаний и мыслей о том, что находится за пределами нашей тарусской жизни, – вот особенность моего состояния), так это…
Впрочем, я, пожалуй, возвышенно завираюсь. А сказать серьезно – боюсь умереть, больше ничего. Умереть сейчас было бы нелепостью и свинством (куда большим, чем твое). А потому этого и не будет.
Опять завираюсь, потому что философствовать совсем не хочется. А мысль какая-то зреет внутри, помудрее, может быть, чем у философов. Только это и не мысль, вот в чем дело, и мне ее тебе никогда не передать.
Ты уж, я чувствую, потираешь руки и из простодушия моих невежественных разглагольствований вывел то, что только и можешь вывести: влюблен.
Да, друг мой Тараблин, влюблен. Я спокойно произношу это слово, потому что оно ничего не в силах объяснить и потому совсем не затрагивает ту область моей жизни, которая не твоего едкого ума дело. „Пища, полезная одному, не годится другому“. Это из старинной книжицы, которой мы развлекаемся вечерами, если не играем с хозяевами в карты. Называется она „Карманная книга французско-немецко-русского разговора по Эдуарду Курзье“, а вышла в Санкт-Петербурге на следующий год после смерти Пушкина. Саша готовится к поступлению на французское отделение к нам в университет, обложилась учебниками. А Курзье, конечно, больше для развлечения.
Ну, прощай, Тараблин. Как твоя экспедиция? Следующий год, может быть, поедем в Архангельск вместе. А уж встретимся по осени, и тут бы я с тобой „побился кое о чем“ (Курзье!).
Пока живи. Андрей.
P.S. Конверт со штемпелем тарусским сохрани. Ты, я знаю, без сантиментов, ну так мне подаришь».
ПОЧЕМУ С ТАКОЙ ЖАДНОСТЬЮ ЛЮДИ ЧИТАЮТ ВСЕ, ЧТО ПИШЕТСЯ О ЛЮБВИ? Ведь никто еще не сумел воспользоваться простосердечием чужих исповедей. Ни один не встретил собственное отражение в зеркале чужой любви. Может быть, даже так, что, занимая ум какой-нибудь историей, мы только и ждем момента, чтобы воскликнуть: это не про меня. И чем больше узнаем себя в другом, тем отраднее для нас пусть одно, но решительное несовпадение.
Тут угадывается подобие закономерности. Подозреваю, что никто из нас не хочет ясности в любви. Быть может, потому тайне этой, чтобы остаться тайной, не требуются обеты молчания. Все только и делают, что говорят о любви, но никто, как ни старается, не может проговориться.
Однако так же, как упорно мы отказываемся что-либо понимать в этой прекраснейшей из катастроф, так же по-птичьи улавливаем малейшие ее признаки в себе самих или в ком-нибудь рядом. Если возникает между двумя любовь, то ощущают это каким-то образом все вокруг. Такое силовое поле, что ли, возникает, которое, пусть краем, но задевает каждого.
САША И АНДРЕЙ ВИДЕЛИ, что многие из тех, с кем им приходилось сказать хоть слово, менялись на глазах: как будто людям доставляло удовольствие отвечать на их вопросы, уступать, шутить, советовать, помогать, и каждый с удивлением обнаруживал, что он остроумен, и каждому хотелось подольше задержаться возле них, чтобы продлить это состояние. Они догадывались, что причиной подобных перемен были они сами, и быстро и беззаботно к этому к этому привыкли.
Веранда, в которой они жили, широкой своей стороной выходила в хозяйские вишни, а боковой – на тихую, заросшую травой улочку. По стеклам ее спускались листья дикого винограда, почти на метр от земли ощипанные козой.
Вставали они поздно, просыпая обычно утренний рынок. Мылись в саду. Саша выливала из умывальника нагретую солнцем воду, и Андрей приносил из колодца свежей. Иногда сразу шли на речку. Особенно хорошо было купаться после ночного дождя. Раздевшись, они проходили к реке под кустами ольшаника, и листья морозно оглаживали их спины и роняли на теплую кожу электрические капли. Смеясь и вздрагивая всем телом, Саша и Андрей словно только теперь пробуждались. Ступая в витые русла ночных ручьев, они ощущали голыми подошвами теплую корочку песка, проламывая которую пятка погружалась во влажный холод.
Саша первая бросалась в воду и устремлялась наперерез течению к другому берегу. Плавала она прекрасно. Он же влезал в воду боязливо, осваивался, нырял, яростно боролся с течением, намечая себе цель в виде какого-нибудь поваленного дерева или мыса, потом отдыхал, раскинув руки, но на другой берег не плавал. Саша махала ему с далекого пригорка, а он вдруг начинал волноваться, осознав пространство реки как разлуку, и смотрел на Сашу, вызывая ее молчаливым криком, и, как будто почувствовав его зов, Саша ловко сбегала в своем синем купальнике к воде и плыла к нему.
Иногда после завтрака они переправлялись паромом на другой берег и там загорали или просто сидели у парома. А то, исходив пешком всю Тарусу, садились отдыхать в сквере у гостиницы.
Над головами отцветали поржавевшие уже кое-где гроздья мелкой сирени. За Таруской в карьерах ухали взрывы, поднимая в небо черные вороньи тучи.
Им было легко молчать друг с другом. Казалось, что каждый видел и чувствовал то же и так же, что и как видел и чувствовал другой. И оба думали, что дело вовсе не в их внезапном согласии, а в том, что именно теперь они видят мир таким, каков он есть на самом деле. Если Андрей, например, показывая солнечные блики на реке, говорил: «Смотри, как будто мальчик с золотыми пятками бежит», то Саше казалось, что Андрей прямо-таки сорвал у нее с языка эту самую фразу.
Бывало, посреди разговора кто-нибудь из них замолкал, и они смотрели друг на друга, словно птицы, попавшие во встречный поток ветра. «Ну же», – говорили ему Сашины глаза. «Да?» – переспрашивал он. «Да, да!..» – отчаянно говорила Саша. Как бежали они к своей веранде, резвые и бесстыдные.
Солнце копошилось в листьях винограда, безуспешно пытаясь отыскать зрелую ягоду. Хозяйская Светка проверяла, приложив ухо, звонок новенького велосипеда. Стекла веранды напитывались предвечерней лиловостью.
Им обоим казалось, что они совершают сейчас что-то такое же обычное, как цвета, звуки и запахи этого дня, но только самое лучшее. Все вокруг пропадало на мгновение и снова плавно входило в сознание, потом опять для самого главного, самого лучшего им нужно было пропасть, чтобы появиться вновь… Распущенные волосы Саши пахли речкой, голова была откинута назад и набок, а глаза спали…
– …А из чего огонь? – спрашивала Саша, вызывая его из полудремы.
– Из апельсина, – отвечал он. – Из охры. Из поцелуя.
– Андрюша, – говорила она, – а кто будет после людей?
«Кто-то уже об этом спрашивал, вот так же, – думал он. – Но вот каков был ответ?»
– Не помню, – отвечал он. – Что-то не припомню.
Дни шли однообразно счастливые, словно давно кем-то загаданные, тем, видимо, кто распорядительно менял дождь на зной, вливал молодую кровь в поспевающие вишни и задаривал их обоих причудливыми великолепными снами.
Чуть ли не каждый день Саша что-нибудь изменяла в своей одежде, и эти внезапные тесемочки, ремни и кофты волновали его, как метаморфозы знакомого пейзажа, как неожиданный поворот в разговоре. Он, однако, считал нужным отмечать это сдержанно и с долей иронии.
– Серая кофточка на обед тебе очень удалась, – говорил он, например.
– Не обольщайтесь, сударь, – отвечала Сашенька. – Это я не для вас, а для ветра.
Никогда еще не казалось им таким легким и обычным делом проникновение в чужую жизнь. Случалось, из одного взгляда или слова в голове рождались целые повести.
– Он не был там, в своей деревне под Киевом, двадцать лет. С тех пор, как продал дом. У него же в войну всех родственников немцы убили. Там, конечно, уже большой поселок, ничего нельзя узнать. И вот, представляешь, в первом же доме, едва он открыл калитку, его узнали: «Надюша!». А он уже и забыл, что его так звали в детстве.
Это из разговора двух женщин, которые в халатах прогуливались с ними в одном направлении. Они уже обогнали этих женщин и никогда, видимо, не узнают ни начала, ни окончания разговора.
– Как это, наверное, трудно вот так возвращаться, – сказал он. – К доминошному столику, воздвигнутому, быть может, над безымянной могилой.
– Не говори так, – сказала Саша.
– Это, знаешь, это все равно что проснуться однажды в будущем, – продолжал Андрей. – Лет так через пятьсот. Помнишь, об этом как-то много писали. Будто в жидком гелии, что ли, можно заморозить человека.
– Глупость, – отозвалась Саша. – Похоронить себя в будущее. – И, содрогнувшись то ли от холода, то ли от этой мысли, добавила: – Нам это не нужно.
– Главное, я подумал, если даже предоставят тебе возможность кого-нибудь воскресить, то ведь сам же и откажешься.
– Фу, как ты ужасно говоришь, – сказала Саша и жалобно прижалась к нему.
– Ну все, все – что ты? – спохватился он и поцеловал ее.
Они шли некоторое время молча. Еще было светло, но уже чуть резче, чем днем, пахла трава, и в домах стали зажигать свет.
– Повернем? – предложил Андрей.
Саша отрицательно покачала головой.
– Ну… О чем молчишь? – позвал он ласково.
Такие вопросы у них были в ходу.
– Нагнал тоску, а теперь спрашивает, – сказала Саша.
– Смотри, белая кошка дорогу перебежала, – показал Андрей.
– Это бы еще к чему? – засмеялась Сашенька.
– К дождю, Марья Васильевна, – зачем-то заокал он. – Определенно вам говорю.
Они повернули к дому. Облака, влажные и рыхлые, ярко светились на горизонте. Хотелось не домой, хотелось из дома – в тамбур поезда, в тарантас, на крыло самолета – лишь бы движение, лишь бы путь…
– Сейчас бы на юг, – сказала Саша.
– В Мелитополь, в Симферополь, в Севастополь…
– Тополиные названия…
«Как хорошо, – почему-то подумал Андрей. – Нет, это не может кончиться просто жизнью. Нет-нет, нас ждет что-то лучше жизни».
Середину пути отмечала куча угля, уже истощившаяся, разобранная за годы ветром и людьми. Сквозь нее даже начала прорастать пучками трава и чахлые цветочки.
– А вот я вас, вот я вас, – услышали они еще издали. Девочка лет семи с ядовитым пушистым букетом крапивы, стебли которого она предусмотрительно завернула в газету, бегала за парнем и девушкой. Те легко убегали от нее, пользуясь случаем нежно столкнуться друг с другом, жаждая этих как бы ненарочных объятий и прикосновений.
– Ох, Маришка!.. – кричала девушка, вздергивая голыми ногами, а парень держал ее за талию, придерживая легко и изгибисто вырывающееся ее тело перед надвижением неумолимого ядовитого букета и говорил:
– Ату ее, Маришка… – Но вдруг в последний момент ласково и сильно переносил девушку в сторону и убегал сам.
Девочка всегда запаздывала с решительным ударом. Может быть, тоже играла в поддавки.
– Ой, я уже не могу, – закричала девушка. Парень наклонился к ее уху, и вдруг они побежали в разные стороны. Маленькая агрессия с кошачьей проворностью побежала сначала за парнем. Однако он ножницами перемахнул через низкий забор и скрылся в кустах. Еще не расставшись с весельем, девочка повернулась, но второй преследуемой и след простыл.
– Хотела прогнать и прогнала – вот дуреха, – сказал Андрей.
– Это они дураки, – сказала Саша.