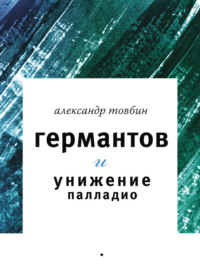
Германтов и унижение Палладио
Остановилась, переводя дух.
– Если договаривать, я ещё сказала тогда, что все будто б нарочно рисовать разучились, а я должна аплодировать за откровенное неумение? Надеюсь, мы с тобой заодно? Правда, в этом есть что-то детское: не умею, но рисую, а вы, взрослые, попробуйте только не похвалить?
Слякоть, лужи… накрапывал дождь.
– А летом, – вздохнула, – пыль.
Пошли.
– И мало того что дремучая, так я ещё ужасно привередливая в мыслях своих, ужасно, и из-за привередливости своей в открытую дверь ломлюсь, напыжившись, все корневые связи жизни и искусства хочу вмиг выявить и понять, все. Ко всему я, что твой Фома неверующий, даже тогда, когда, безусловно, красивую и понятную картину рассматриваю, когда разжёвано в картине всё и в рот положено, и то в увиденном сомневаюсь. Ты видел «Последний день Помпеи»? И скажи, Юра, положа руку на сердце, если видел, скажи, так это было на самом деле или не так?
Неожиданна, но точна была в постановке вечных вопросов своих Анюта! Германтов не переставал дивиться её наивному – при всей её пёстрой эрудиции – и потому, наверное, точному такому уму.
Как было?
Висит в Русском музее роскошное, пир для глаз, академическое полотно, а в натуре – пепельно-желтоватые, оплавленные камни, осыпающиеся мутные фрески и – фоном – голубоватый Везувий, как кажется теперь, непричастный к случившемуся. Искусство – фантом, жизнь, разрушенная временем и превращённая в немой артефакт, – тоже фантом, вот и сравнивай фантом с фантомом.
Как было – не узнать уже, глядя на то, что стало. Чему же верить, живописным фантазиям? Но изображение – ложь, как и изречённая мысль…
Или всё-таки – прочь сомнения-подозрения, сначала стоит на слово поверить Плинию Младшему?
И потом всё равно солгать, переводя свидетельское слово в изображение?
– А если не понять, как было, ибо несторов-летописцев не напасёшься на каждый исторический чих, и уж тем более не понять – как будет, если будущее во все времена смеётся над предсказателями, зачем заменять вдохновение, сладкие звуки, молитвы всей этой устрашающей, всей этой путано-перепутанной и отталкивающей чепухой? Что за капризы? А если это действительно капризы, натужные розыгрыши себялюбцев, дразнилки для недоумков таких, как я, то почему они мне такой страх внушают? – вопросительно повернулась к нему. – Всё, думаю, хватит, хочу нюхать розы. Но мне до сих пор невмочь, из крайности в крайность меня мотает. Я, обычно строгая в своих мыслях, запуталась и, боюсь, не выпутаюсь уже, но вернусь всё же к тому, с чего начинала, к тому, что смущает меня, даже настораживает. Я, как ты заметил, храбрюсь, отругиваюсь, непростительно бравирую даже непониманием, но, может быть, я чересчур рациональна и что-то подлинно ужасное и потому заведомо сложное и глубокое хочу упростить, сделать плоским, чтобы подогнать к спокойным своим привычкам, может быть, мне самой недостаёт чуткости особой и дальнозоркости, чтобы канун Армагеддона не проворонить? Я, Юрочка, храбрюсь, но ощущаю свою ущербность, – она пугливо доставала из тёмного уголка своего позитивистского сознания реестр грядущих, пока неясных, но так раззадоривших воображение художников бед.
– Тебе не надоело? Ты хоть понял, какая у меня сумятица в голове? Вот и валю с больной своей головы на твою головку, здоровую. И извини великодушно за маниакальность, от проклятых вопросов своих я не могу отвязаться. Поэтому и язык никак мне не приструнить, рассусоливаю и рассусоливаю. И что мне с собой поделать? Мне симпатичен Паскаль, боявшийся ясности, а сама я хочу что-то понять окончательно, непременно – ясно и окончательно, что-то хочу доказать себе и тебе, но не могу.
Помолчала, пожала плечиками.
– У тебя так бывает? Вдруг чувствую, что мысли, которые волна за волной накатывали, в пену суждения обратились, я ничего умного не в силах больше из себя выдавить. Юрочка, ты понимаешь меня? Правда, понимаешь?
Благодарно помолчала, вздохнула.
– Я не шучу, не хочу просто так под занавес, перед тем как на небеса упорхнуть, красным ли блеснуть, крепким припечатать словцом. Я, напротив, смущена тем, что многие трубят о несказанно прекрасной, но доступной лишь избранным ценителям новизне, вместо того чтобы попытаться уразуметь, что нам всем эта безобразная, на мой вкус, и уж точно озадачивающая не меня одну новизна сулит. Вот я и попыталась вникнуть, и мысль одна меня поразила-сразила так, что я даже подпрыгнула бы от радости и вытянутые стрункой – или шпагатом? – ноги в полёте раскинула бы, как балерина, если бы с божьей помощью смогла земное тяготение одолеть и подпрыгнуть. Не будешь надо мною смеяться? Правда? Тогда не сносить мне буйной моей головушки, не стану скромничать и, надеюсь, удивлю тебя, да, от заурядного балетного прыжка-полёта, такого, какие из лож своих равнодушные великосветские хлыщи лорнируют век за веком, отказываюсь, я лучше крутану для одного тебя прямо сейчас сальто-мортале под куполом цирка! Я ведь на любую эксцентрику готова, лишь бы оттянуть своё неминуемое фиаско. А ты готов мне рукоплескать? Бог свидетель, я тебя одного, пытливого, доверчивого и непредвзятого, только решаюсь спросить об этом с глазу на глаз, только тебя – другие бы тухлыми яйцами меня закидали. Итак, цирковые фанфары оттрубили, ковёрные красные носы задрали задорно, ты затаил дыхание: может быть, Липа – он, кстати, как знаешь, с земным тяготением, в отличие от меня, на «ты», – поджала губы, – посылает на далёкие планеты своих сигнальных зайчиков, а нам оттуда, с далёких-далёких тех планет, отвечают так странно, так страшно, так мутно и иносказательно, но со сверхъестественной убедительностью… Отвечают через непонятно таинственные безутешные картины художников, которых душит экспрессия: картины, где прекрасные некогда классические тела смяты и перепачканы, скрипки, божественно отзвучавшие, разломаны… Картины такие предупреждают нас, слепцов в розовых очках, что сами мы, бездумно рождающие и убивающие себе подобных, – заклятые враги свои, что в дальнейшем, если мы не исправимся, утонем во мраке и хаосе?
«Как, как надо нам исправляться?» – успел подумать.
– Трюк удался? Пощекотала нервы? Но не принимай слишком близко к сердцу мою мечтательную экстравагантность, – она и ладошкой сразу будто бы небрежненько помахала, чуть приподняв с усилием руку, мол, мало ли что могло ей, пока мысли сами с собой боролись, взбрести на ум.
– И пошли, пошли, хватит ворон считать.
Но как же хотелось ей повнимательнее, на свету божьем, рассмотреть-понять и болезненное нутро, и двуликий лик добровольных разрушителей гармонии.
Она их демонизировала.
– Когда Максим Дмитриевич надевает пиджак, собирается в Академию художеств на занятия и начищает в коридоре ваксой ботинки, – потянула потешно носиком, – нормальный человек, ничего не скажешь, у него шляпа есть, зонт. А когда в закупорке своей управляется со своими пахучими картинами? Перемазанный красками, какой-то перевозбуждённый, как при лихорадке, вспотевший, будто бы тайной запретной ворожбой занимался, а его вспугнули и испариной он покрылся. Я ещё, когда из неприличного любопытства в дверь к нему заглянула, догадалась сразу, что не в себе он, не в себе, и всё тут. И он сам это вскоре подтвердил, сам. Обычно такой вежливый, обходительный, недавно он чуть с ног меня не сшиб в коридоре и не извинился, дёрнулся, отшатнулся от меня, быстрее и опасливее, думаю, отшатнулся, чем чёрт от ладана, и зло заворчал что-то нечленораздельное, словно он вмиг свихнулся; мне, если б умела, впору было б перекреститься. Можно ли поверить, что там, в коридоре, Максима Дмитриевича коснулось… – что-то по-французски прошептала, повторила по-русски: – Можно ли поверить, что его коснулось, «овеяв холодом, безумия крыло»? Это – бред, ни в какие ворота. Не понимаю, как Елизавета Ивановна может нормально себя чувствовать среди огненного мрака, так и не разобравшись окончательно, что к чему? Как может спокойно читать, проверять тетради, кушать, ложиться спать? Знаешь, меня обескураживают самые простые вещи, самые простые. Бог с ними, с непонятыми картинами. Но тебя разве не смущало само поведение Максима Дмитриевича, его раздвоенный modus vivendi? Два разных человека, оба – Маховы, но, клянусь, в разных мирах обитающие. И один нормальный, а другой – ненормальный.
«Вот бы ей тогда словами Фуко ответить…» – заворочался Германтов.
Ей-то, когда и муж, и сын её были такими же ненормальными, сетовать на бредовую одержимость Махова?
По потолку скользили мягкие тени.
Мягкие-мягкие, будто карандашная растушовка.
Только что высказала смелую догадку о предостережении, пересланном нам в красочном слое непонятно страшных картин с далёких планет – действительно, эффектно крутанула сальто-мортале, но потом опять соблазнилась облегчением мысли, принялась искать объяснения всего того, что никак не могла уразуметь в новой живописи, в психическом травматизме художников?
– Неудивительно, – скажет через много лет Штример, когда Германтову к слову придёт поведать ему о простодушно мучительных исканиях Анюты, о её болезненных сомнениях, – неудивительно, в искусстве внезапно сам его объект подменился, не так ли, Юра? И как же любомудрой старушке, получившейся из восторженной гимназистки, было не растеряться, во все тяжкие не пуститься? – Штример размышлял вслух. – Раньше, мой дорогой ЮМ, изображалась-выражалась красота того, что мы с рождения видели окрест себя, в природе, во внешнем мире людей и рукотворных вещей, не правда ли? И вдруг на тебе: художнику понадобилось выразить, а нам – воспринять красоту самого творческого порыва, красоту, которой не указ привычные эстетические законы.
И вдруг опять зазвучал голосок Анюты:
– Хорошие манеры не помешают. Но я хочу… Держу пари, не угадаешь, чего ещё я от тебя, почти замученного мною, такой речистой, хочу! Вокруг разгул безвкусицы, оскверняющей всё и вся, пожирающей бедную и беззащитную красоту, едва она промелькнёт, и поэтому прежде всего я хочу, чтобы у тебя был вкус, хороший вкус.
Вкус?
А был ли вкус у неё, судя по всему, ценившей модерн в архитектуре, но разбиравшейся в новой живописи, как свинья в апельсинах? Был ли вкус у неё, ослицы, не желавшей заражаться мрачной музыкой Вагнера?
Как ненавязчиво делилась своими знаниями, сомнениями, как артистично бравировала своим невежеством.
И какой разброс предпочтений!
Данте как Бог, Бог-Поэт, творец словесной вселенной. И, по её мнению, он, Данте, гениален не только как поэт, но и как проектировщик.
– Побывал ли он в натуральном Аду, в душу ли свою, где обосновался Ад, заглянул, кто знает? Кажется, однако, когда читаешь его поэму, непостижимую в волшебстве своём, что им не просто где-то что-то ужасающее подсмотрено, – кажется, что им самим гениально спроектированы Ад и Чистилище, эти страшные конусы-горы, опоясанные кругами-тропами; понимаешь, образы Ада будто бы растворены в словах, но неожиданно кристаллизируются: зримо проступают при чтении силуэты, контуры, и доходит до тебя, что все они сначала осмыслены и спроектированы, а лишь затем – выписаны. Ты когда-нибудь его, Данте, дерзновенно невероятное в конкретностях своих проектное искусство непременно оценишь… – И тут же, за Данте, через запятую – Надсон, первая поэтическая любовь, и – мимоходом – строка из «Цветов зла», прочтённая по-французски, а до этого – «На правую руку надела перчатку с левой руки», да, Ахматова, и, кажется, Брюсов? «С помадой алой сажа смешана…» Правда, самому Брюсову вряд ли пришлись бы по душе маховские холсты; и – вдруг – карамазовский чёрт в клетчатых брючках, и криминальные роскошества, жестокие страсти немого кино; «Алиса в стране чудес» и – «В шесть часов вечера после войны»; неизгладимые впечатления, такие пёстрые… Мурашки, пробегающие по телу; воспоминания как прощания – заведомо неразборчивы?
Был, однако, вкус, был, думал Германтов, а как её терпимый и нетерпимый вкус определить – не знал; думал и – подумал почему-то, что разнородные вкусовые пристрастия прощавшейся с миром Анюты в памяти его чудесно слил воедино именно Витебский вокзал.
* * *Германтов чуть позже, когда освободится из-под опеки Анюты, высвободится из словесных её пелён – освобождение вполне естественно совпадёт со смертью Анюты, – будет нередко приходить сюда сам: магнит не ослабевал, притягивал.
Он с детства чувствовал себя одиноким, он был один в суетливом, опасном, прекрасном огромном мире, образ которого как-никак сформировался в полижанровых монологах Анюты, – совсем один; и чем больше он узнавал людей, включая уличных и школьных, а затем и институтских друзей-приятелей, тем более одиноким становился, один – в точном соответствии с прогнозом Анюты – против целого мира… Не в плане открытой борьбы с ним, многоликим, опасным, утесняющим всякого индивида миром, а лишь в плане внутреннего, защищающего своё «я» сопротивления. – О, он не был отшельником, нет-нет, он мог играть, сближаться, даже дружить, его, такого влюбчивого, влекли женщины, о, в детстве он влюблялся в Олю, Галю, Бебу, Аню, всех из потенциального донжуанского списка не перечесть… В отрочестве… О, достаточно сказать, что месяца три, не меньше, нашему отроку терзала сердце юная прима-балерина Заботкина, всласть с ним потанцевавшая на сцене его эротических сновидений, а едва посмотрел он «Мост Ватерлоо», так тотчас же и без угрызений совести изменил Заботкиной с Вивьен Ли, а уж потом… Сейчас он почему-то вспомнил Сабину; о, чаще всего спонтанные избранницы охотно отвечали ему взаимностью, но общение ли, даже интимная близость уже не захватывали всего его существа и ничуть не ослабляли чувства заброшенности, покинутости, как если бы скорый надлом отношений таился уже в истоке влюблённости; и чувство это, гнетуще-тревожное, но, как ни странно, делавшее его счастливым, обещавшее ему впереди неожиданные открытия и, надо сказать, в этих смутных обещаниях потом не обманывавшее, он особенно остро переживал в детстве ещё, на вокзале, в толчее и суете.
Наблюдал за коловращениями в замкнутом мире грязи и нищеты, необъяснимо и волнующе связанном с другим миром, огромным, всеохватным каким-то; наблюдал за бедным вокзальным людом, но его – избавил бог от дурных соблазнов – не влекла воровская романтика, он не завидовал беспризорным своим ровесникам, тем, кто путешествовал из края в край необъятной страны в продолговатых чёрных ящиках под вагонами, нет и нет, Германтова – поначалу неосознанно – влекла фактура, неряшливая тряпично-телесная фактура немытой, вязкой, принарядившейся в «шурум-буруме» и заполняющей теперь вокзальные пространства, все их закутки, человеческой массы. И поскольку Анюта успела снабдить красочными рассказами о цветниках, пахнувших кофе и корицей буфетах на французских и немецких вокзалах, заполненных тоже возбуждённо-торопливой, тоже суетливой, однако чистой, воспитанной и нарядной публикой, эту благополучную публику, украшенную элегантными дамами в огромных шляпах – аристократов, буржуа, нуворишей, добропорядочных обывателей, – воображение превращало в сырьё, как если бы не только «мрамору пышных дворцов» сполна досталось от революционных масс, но и её, ту заграничную или даже русскую, но – добольшевистскую, публику, к которой он охотно добавлял и немых шикарных двуполых кинематографических эротоманов, а по совместительству – вампиров и шулеров, толкали, пинали, мяли, поливали солёным потом, осыпали угольной и цементной пылью, возможно, что и топтали в революционном раже грязными пролетарско-крестьянскими башмаками, дабы заполнить Витебский вокзал именно этой неуёмной фактурной массой…
И её, эту разношёрстную пульсирующую человечью массу, действительно обрамляла – и пропитывала? – прекрасная архитектура.
Обшарпанная, но – прекрасная!
Вокзал, представлялось, был не только магнетическим центром мира, но при этом весь наш необъятный и необъяснимый мир, весь-весь, с непочатой своей энергией, образно обнимал и в пышных, но уравновешенных формах своих полно и точно, хотя и иносказательно, в камне, штукатурке и металле, воспроизводил.
И при этом вокзал воспринимался как испытание памятью, как образ – накопитель стольких утрат; вокзал неуловимо менялся, мерещилось, что Анюта после смерти своей перевоплотилась в формы и пространства вокзала, и хотя эти же лестницы, пилоны, своды, купола вроде бы оставались такими же, как и при её жизни, теперь они были для Германтова другими, ощутимо другими.
И вдруг долго и терпеливо впитывавшие время камни утрачивали прочность, делались эфемерными.
Случалось, неряшливые шумные человеческие волны вдруг иссякали; Германтову даже чудилось, что иссякали навсегда, что встречающие с картонными перронными билетиками в руках больше здесь не появятся, поезда – не прибудут; не зря ведь и расторопные наглецы носильщики в брезентовых фартуках с номерными медными бляхами исчезали вместе с тележками, словно в тартарары проваливались.
И будто бы весь мир уже обезлюдел.
Необъяснимая боль пронзала на опустелых, после того как, попыхтев, погремев буферами, паровозик-толкач убирал порожние грязно-зелёные составы, платформах – какую-то сосущую тоску провоцировали наклонные бетонные, перепачканные битумом тумбы в тупиках путей, жирные пятна мазута на прогнивших шпалах да ещё окурки и пыль и заместивший привычную вокзальную вонь формалиновый, будто бы в морге, дух.
Ну да, ну да, возвращал уже промелькнувшую мысль Германтов: он, по своему обыкновению, искал художественную формулу. Чем был вокзал для Анюты? Воспринимала ли именно так, обобщённо и остро, Витебский вокзал Анюта, не воспринимала – Германтов мог лишь предполагать, и всё же теперь почувствовал, что этот вокзал в стиле модерн после всего, что Анюте выпало пережить, в последние её годы вполне мог стать для неё окаменевшей метафорой.
Глобальной пространственно-пластической метафорой всей прошлой жизни её, а потом ещё и метафорой расставания-прощания с городами, близкими людьми, с самой собой, умирающей.
– Что потом будет, Юра, не знаю, ум цепенеет, ждать от меня прозрений – как с козла молока, – подходили к вокзалу, – это так страшно – смотреть в будущее на старости лет, когда столько накопилось на сердце, когда за плечами жизнь, так страшно. Понимаешь? Будущего у меня нет, а я всё пытаюсь в него смотреть.
Вот уже и ей страшно…
– Юрочка, – её голос дрогнул, – знаешь ли ты что такое смерть?
– Нет, не знаю.
– Это естественно для твоего нежного возраста – не знать. Однако, как ни странно, я тоже мало что про смерть знаю! Вот она, костлявая и беззубо-немая, рядышком, а я в неведении, глазами-ушами хлопаю. Платон рассуждал в том духе, что если мы не знаем, что такое есть смерть – а все мы, пока живы, действительно этого не знаем, – то, выходит, и нет причин, чтобы её бояться; слабое утешение, а?
Беспомощно улыбнулась.
– А как тебе, например, понравится смерть в образе богини, парящей на тёмных крыльях?
Помолчала.
– Поэты-язычники горазды пофантазировать, правда?
Помолчала.
– А невозмутимые римские статуи, обосновавшиеся в памяти, теребят меня коллективной античной мудростью: respice finene, понимаешь? Ежеминутно назойливо теребят и теребят меня: помни о конце, помни о конце…
Всё ещё беспомощно улыбалась.
– А сколько изощрённых, но пустых обещаний. Желаете обрести бессмертие и в вечно плодоносящих кущах жить припеваючи? Обретёте, даст бог, но сначала – умереть извольте. Что ж, глубоко верующие во Христа не боятся смерти, им и карты, pardon, свечки в руки, но я-то боюсь, значит, я, – сухо усмехнулась, – неверующая, и не ждёт меня спасение, понимаешь?
Удивительно: дословно помнил её шутливо-горестные признания, слышал сухой тихий смех.
– У последней черты, когда шаг остался, мой горизонт так пугливо сузился, меня даже мудрые и красивые, порой пронзительные, как стрелы, мысли самого Паскаля больше не пронимают. Или я уже попросту не могу их воспринять и переварить? Он полагал, например, что человечество – это один человек, живущий вечно. Может быть, может быть, но мне-то – не легче… Свежо предание, а верится с трудом, понимаешь?
И сейчас на него смотрели её глаза.
– Юрочка, я чересчур разволновалась, прости меня, для тебя вся моя болтовня сейчас – ерунда на постном масле, но когда-нибудь ты непременно меня поймёшь. Я говорила тебе, что мы все – слепцы в розовых очках. Да. В юности к самым мрачным раздумьям примешиваются грёзы и спасительная толика романтизма. И даже на старости лет усталые пустоватые надежды всё ещё преследуют по пятам, пока вдруг окончательно не почувствуешь, до чего страшно и душно жить; вот сейчас – холодно, сыро, мокрый снег валит, а мне душно, душно потому, что простора нет и не вздохнуть уже полной грудью. И как же из страшной скукожившейся духоты этой в будущее смотреть? Я, бывает, затемно просыпаюсь и думаю, думаю: что воочию там, в черноте, в сгущениях сажи, можно, пусть прозрев, пусть и сняв розовые очки, увидеть? Ума не приложу, да и скован, безнадёжно скован уже мой мозг. Я знаю – у каждого свой Страшный суд, а всех нас ждёт одна ночь, знаю, что и для меня, пусть я на свете всех милее, всех румяней и белее, милосердный Господь, он же Спаситель наш, не сделает исключения. А что там, в вечной ночи? Не знаю…
И головой покачивала…
– Ни за что не угадаешь, что мне вчера приснилось! Мне во сне позвонила по телефону мама, а я – невероятно, правда? – спросила её: откуда ты мне звонишь?
Она, бесстрашная, не боявшаяся ни Ягоды, ни Ежова, ни Берии, ни самого Сталина, боялась смотреть в будущее, боялась смотреть туда, где её не будет? И Данте не помог ей вообразить своё небытие…
Но почему страшит так небытие? Ведь всё, по её же словам, так обыденно: бредёшь себе и бредёшь в потёмках, пока не шагнёшь во тьму…
Почему… почему…
Она боялась того же, чего и он так сейчас боялся? Германтов приподнялся и вновь уронил голову на подушку; и получалось, как ни крути, что он целую свою жизнь искал и чаще всего не находил ответы на вопросы, которые задавала и задавала ему на тех памятных прогулках Анюта; а она, заблудившаяся в трёх соснах, боявшаяся смотреть в будущее, оказывается, так далеко смотрела, столько всего там, за предательски убегавшим горизонтом, сумела высмотреть.
И целую жизнь, получалось, он, насколько мог, неосознанно, с переменными, мягко говоря, успехами, но – следовал её заветам? И теперь следует, когда пришёл его черёд вспоминать-прощаться?
Что ещё?
Что-то о созидательных душевных страданиях и путеводной звезде говорила; взяла тогда на себя роль той звезды?
Любопытное открытие, прелюбопытное… Зарылся в подушку, а мысль испуганно споткнулась в который раз; путеводная звезда – и…
«Нас всех подстерегает случай».
Да. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай».
А дальше?
И тут память, достаточно помучив, попугав приближением Альцгеймера, выдаст наконец Германтову рифму «случай – неминучий» и выдаст сразу ключ к двум блоковским строкам, второй половине четверостишия: «Над нами – сумрак неминучий, иль ясность божьего лица».
Две ясности? Божьего лица и – умозрительная ясность… как иллюзия? Не та ли самая ясность, – отслоившаяся по воле просветителей от божьего лица, спрятанного во тьме, обманная ясность, которой опасался Паскаль?
И сразу вновь зазвучит голосок Анюты:
– Не обязательно истово в Бога верить, не обязательно даже пытаться всем десяти заповедям неукоснительно следовать, это желательно, но всё равно невозможно, – лучшее – враг хорошего, разве не так? Надо хотя бы помнить о них, всех заповедях, всё время помнить и прислушиваться, когда для напоминания нам нашёптывает их внутренний голос, понимаешь?
* * *Замечательная лестница располагалась справа, за залом ожидания с двусторонними, по обе стороны от высоких разделительных спинок с вензелями октябрьской железной дороги, залоснёнными скамьями и выгороженным, с игриво овальными глазами-окошечками буфетом; decorum, decorum, – радостно шептал… Лестница располагалась по оси главного, обозначенного, но привычно закрытого входа в вокзал, в купольно-парадной части вокзала.
Как любил Германтов, запрокинув голову, смотреть вверх – смотреть на купол изнутри, на эту воздушно-невесомую, воспаряющую, кое-как выбеленную изнутри, с жёлто-зеленоватыми лишаями протечек, сферу… Он смотрел вверх и тоже воспарял, подошвы его будто бы не касались пола. Сколько куполов он увидит потом, и каких! Но детское впечатление от скромного по мировым масштабам подкупольного пространства на Витебском вокзале, от подъёмной силы его они, великие купола, не смогут затмить…
Спустился на пролёт.
Потом поднялся на два пролёта.
Но поднимался ли, спускался, а ощущал словно завещанную ему Анютой – это модерн, понимаешь? – приподнятость настроения.
Подкупольное пространство при каждом шаге Германтова неожиданно и необъяснимо менялось, но и при изменениях этих не утрачивало цельной своей гармоничности, формы-пространства не ломались, безобразно не искажались, а лишь неуловимо перестраивались, оставаясь всякий раз, при всех зрительных перестройках, самими собой. Плавные изменения эти были так интересны, так увлекательны, как интересны, увлекательны бывают протяжённые сюжетные перипетии в захватывающей внимание книге, но загвоздка была в том, что пространственные трансформации считывались… без слов. Тогда, наверное, он впервые почувствовал, что пространство – живо и об изменчивой каменно-воздушной жизни своей способно по-своему как-то, изменяясь, повествовать; почувствовал, что у пространства и каменных форм, деталей, наполняющих его, есть не только имена – купол ли, контрфорс, аркбутан, – есть и свой, независимый от этих имён-названий, язык.

