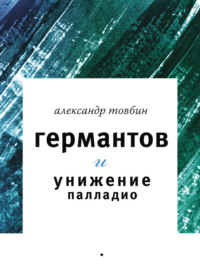
Германтов и унижение Палладио
Когда он всё же опускал голову, то смотрел на лестницу.
На широкий центральный белокаменный марш и два боковых марша, поуже, разлетавшихся налево-направо.
Левый марш выводил к верхним залам ожидания и платформам под гулкими, в коростах застарелой грязи и копоти, стеклянными, с многочисленными заплатами из потемневшего волнистого шифера крышами-фонарями, которые поддерживались решётчатыми, выкрашенными тускло-зелёной масляной краской опорами-рамами; на нём, этом замызганном, не знавшем сна и отдыха левом марше, толпились, сновали, тесно, чтобы оставить лишь узенький проход у перил, сидели на ступеньках, разложив на газетах убогую снедь, перекусывали, лузгали семечки, сосали ядовито-розовое фруктовое эскимо; на этом марше предпочитали располагаться и пёстрые крикливые цыганки в длинных просторных и многослойных юбках, кормившие грудью чумазых младенцев, возможно, те самые цыганки, которые когда-то намеревались, но так и не смогли всего-то за копеечку одурачить его с Анютой.
А правый марш, чистенько выметенный, иногда и вымытый, пахнущий свежестью и половой тряпкой, торжественно пустой, вёл только к одинокой двери будто бы безлюдного, будто бы и не предназначенного для церемонной еды с питьём ресторана – фантастичного ресторана, символа разгульно-чинного чревоугодия и довольства, с закруглённым высоким витражом, с пальмами, официантками в передничках, столами под крахмально-белыми скатертями.
И вдруг остеклённая, с рельефным, выточенным из дерева и наложенным на матовое пупырчатое стекло растительным, затейливо и изящно, так, как вменял модерн, прорисованным узором дверь ресторана распахнулась. Германтов и опомниться не успел – по лестнице, пошатываясь, спускался художник Махов.
Огнепоклонник Махов, «Похищение Европы» и сладкое одиночество в компании великих призраков, соавторов-антиподовС живописью Германтова познакомило обоняние.
Направляясь на своём трёхколёсном велосипеде в гости к Анюте и Липе, он проезжал мимо двери соседа – Махова, Максима Дмитриевича. Чаще всего маховская дверь была приоткрыта, словно приглашая пытливого Юру в гости, из щёлки выползали дурманящие густые запахи олифы, скипидара, лака… Как жадно раздувались ноздри – если бы он мог себя увидеть! Странно складывались детские склонности и предпочтения – с масляными красками и кистями Юра познакомился много раньше, чем с акварельными. Акварель не пахла и казалась безжизненной – акварель должна была быть чисто-прозрачной, как дистиллированная вода.
– Акварель – не живопись, а графика, – между делом и с явным пренебрежением к графике объяснял различия внутри изобразительных искусств Махов, хотя на хлеб и щи зарабатывал как раз графикой – иллюстрировал детские книжки, рисовал медвежат и зайчиков; на полке – коробочки с акварелью, высокий пластмассовый стакан с разнокалиберными беличьими кистями. А вот для себя, для души – заметил он как-то – писал исключительно маслом, писал размашисто-жирно, словно оправдывая свою фамилию, и – густо, фактурно; живопись хотелось потрогать руками. Но само многокрасочное хозяйство, сама наглядная технология живописи, надо признать, производили на маленького Германтова, который неотрывно наблюдал за работой Махова, куда большее впечатление, чем завершённые маховские холсты.
Когда Махов накладывал последний мазок – пусть и неожиданный нервный сверхэффектный мазок мастихином, мгновенно рождавший из мазни зеркало, – Германтову делалось скучно.
– Всё, готово? – разочарованно спрашивал; Махов смеялся. Почему готово? Всё только начинается.
– Что, что начинается?
– Как это что? – удивлялся притворно Махов. Когда картина закончена, начинается слава. – И принимался расслабленно напевать: «Счастье моё я нашёл в нашей встрече с тобой…» Почему-то он пел – «в нашей встрече», а не «в нашей дружбе», как полагалось по каноничному, звучавшему по радио тексту. Это была, наверное, единственная песня, которую Махов знал, да и то знал нетвёрдо, во всяком случае, единственная, которую он в присутствии Германтова частенько напевал под конец работы в ожидании славы; хотя, возможно, Махов знал ещё одну песню, вернее сказать, не песню, а марш – марш артиллеристов, которых звала Отчизна на смертный бой, которым отдавал приказ Сталин: в напряжении своей работы Махов, подёргивая округлыми плечами, раз за разом нервно выкрикивал концовку победоносного марша, выражая в пламенном слове суть того, что хотел, судя по всему, выразить красками на холсте: огонь, огонь!
Но славы ещё надо было дожидаться.
Долго и терпеливо дожидаться.
А сперва, прежде чем непосредственно перейти к сулящим славу художествам, Махов терпеливо и деловито к письму готовился.
Собственноручно, старательно и долго, сколачивал подрамник, сосредоточенно натягивал, прибивая с оборотной стороны гвоздиками к подрамнику, холст, так же сосредоточенно, погружаясь в раздумье, грунтовал.
И шептал: скоро керосином запахнет, скоро.
И вот – наконец-то! – буднично открывался большой, неподъёмный, как казалось тогда Германтову, этюдник…
– Перед нами святилище! – с жаром восклицал Махов, а затем комментировал, морща лоб: – Но это пока мёртвое святилище, очаг угас, и искусство каждый раз угасает… Чтобы вновь оживить его, чтобы вновь жертвенно запылал огонь, предметами художественного культа, как и принято в нашем грубом мире, сейчас по своему усмотрению распорядится варвар. – И рука его уже тянулась к… и сейчас, как и прежде, уже было не отвести глаз от кое-как размещённых благодаря пазам и выступам на откидной крышке этюдника пучков разнокалиберных – круглых и плоских – кистей, банок и баночек, пузырьков и многоэтажных рядов больших и малых свинцовых тюбиков с цветными бумажными наклейками – толстых, с вмятинами от пальцев, совсем отощавших; и фигурную палитру с дыркой хотелось рассматривать как самостоятельную картину, да и картины-то маховские на палитру были очень похожи, ибо процесс письма у Махова на первый взгляд неотличим был от результата. – Если палитра запылает, то и холст возгорится! – с новым жаром восклицал Махов, поглядывая на Юру; и всё – палитра ли, эскизы-этюды, картины, всё – заляпанное, мазанное-перемазанное, и всё-всё – вязкое, остро-пахучее – будто бы оживало; тайное очарование переполняло неряшливо многокрасочный, столько прыжков и замираний сердца обещавший живописный бедлам.
И тут варвар Махов выдавливал из тюбика не на палитру, а прямо на аккуратно загрунтованный белый холст, словно вознамеривался холст перепачкать, жгут синей краски; это само по себе было неожиданностью – почему синей?
И выдавливал из других синих и голубых тюбиков: по белой грунтовке уже ползали, извиваясь, толстые и тонкие, синие и голубые червяки, гусеницы… к грунтовке также присасывались какие-то холодные слизни…
А Махов наливал в большую рюмку рябиновку.
Выпивал и шептал: «Огненная печь творчества, огненная печь…»
Германтов тут же поворачивал голову к кафельной печке и, не заметив никаких изменений в облике печки, не поняв, что же мог означать жаркий шёпот…
Но не успевал замешкавшийся Германтов удивиться появлению на холсте ползучей живности, как Махов, снова глотнув рябиновки, хватал самый широкий мастихин и энергично, быстро-быстро, но с какой-то изящной небрежностью размазывал тонкой пружинистой металлической лопаточкой синих червяков-гусениц-слизней в синие, с просветами грунтовки, пятна, и уже поверх этих высветлявшихся к краям, делавшихся голубыми, словно пушистых пятен, в которых, если поднапрячься, можно было увидеть холодное сине-голубое небо, из тюбиков выдавливались зелёная и жёлтая краски. Они тоже размазывались мастихином, залезая на сине-голубое небо и превращаясь при этом в бирюзовое море и какие-то желтоватые, с солнечными ореолами облака-перья, плавающие над условным горизонтом, да, да, так размазывались, чтобы синий и голубой цвета просвечивали там и сям сквозь жёлтый с зелёным, – получалась резкая по цветовым сочетаниям и яркая мазня, или, если угодно, абстрактная картина, так как море и небо с солнцем, едва появившись как признаки земной реальности, сразу же исчезали. – Что-то подобное в те же годы, узнал поздней Германтов, писали за огромные деньги, чуть ли не за миллионы долларов, абстрактные экспрессионисты в Америке, а у нас, как водится, что-то подобное, бесстрашно, не подозревая о скорых гонениях, писали даром, ни копейки за это не получая, доморощенные новаторы. От художников-беспредметников, творивших по обе стороны океана, не отставал также энергично орудовавший кистями улыбчивый шимпанзе из Бостонского зоопарка, многокрасочные полотна которого, этого распоясавшегося шимпанзе, дабы пригвоздить к позорному столбу абстракционизм в целом, потом, когда разбушевался на приснопамятной выставке в Манеже Хрущёв, показывали по телевизору. Но для Махова-то сине-зелёно-жёлтые мазки в необузданной обезьяньей стилистике «вырви глаз» были не готовой ещё картиной, а всего-навсего подмалёвком и поводом для грядущей колористической метаморфозы! Зачем, зачем нужны синие, голубые, зелёные, жёлтые цвета, недоумевал Германтов, если всё потом всё равно будет красным? Чудеса, да и только! И – не пора ли сжечь все мосты? Пора, пора – заметалось пламя. С каким трепетом подбирал затем Махов огненную гамму цветов, оттенков, с каким тщанием затем красные цвета один поверх другого на тот дикий подмалёвок накладывал, разглаживал их, цвета-оттенки, будто бы ласкал-массировал мастихином, лишь слегка касаясь многокрасочной вязкой массы, чтобы и впрямь варварски всё опять замазать потом? Да! И – вот оно, наконец-то – Германтов, задерживая дыхание, ждал этого момента – наступала очередь самых ярких из красных тюбиков, и – не странно ли? – Махов, трепеща, подбирал оттенки красного, чтобы все они, такие тонкие, едва отличимые, сгорели затем в итогово-общем цвете? А Махов-то, приговаривая – а теперь черёд красного петуха, красного петуха, красного петуха, – уже в ход пускал после мастихина кисти, большие и маленькие, и мазал, и вновь добавлял краски из тюбиков, и, бестрепетно уничтожая оттенки, размазывал опять, втирал горячую краску в холст, и снова поверх только что размазанных пятен густо-густо – холмиками и горками – краску выдавливал. Вскоре едва различимое, едва угадываемое в сравнении с чем-то знакомым изображение на холсте делалось рельефно-красным, но поскольку в подоснове были все цвета спектра – красным, поглотившим множество самых разных колористически сгармонизированных оттенков; красным, но сложным; красным, но – многоцветным.
Можно и вздохнуть с облегчением…
Как-то незаметно плоская щетинная кисточка очутилась и в руках у Германтова… Лет десять-одиннадцать было ему тогда. Махов подбадривал, наплевав на педагогические каноны, – почему бы не перепрыгнуть через азы рисунка и акварели? «Если нравится маслом мазать, если нравится месить краски, – сказал Махов, – пожалуйста. Авось впрок пойдёт».
Нравится мазать? Нравится месить краски? Навряд ли. Он хотел бы обладать какими-то склонностями, способностями или – одарённостью, как говорила Анюта; хотел бы, хотя и побаиваясь, что посредственности ополчатся против него, хотел бы, чтобы и его вдруг посчитали талантливым, чтобы и он порхал среди звёзд, чтобы главная звезда вела, однако он, когда мазал и месил, не возбуждался, его не охватывало волнение, когда не терпится увидеть то, что у него получится.
А уж сам-то Махов как мазал!
Всё повторялось, вроде бы одно и то же на холсте, как вчера, как позавчера, но глаз от его мазни было не отвести – каждый раз всё получалось неуловимо другим. И он месил краски на палитре ли, прямо на холсте, нервно и энергично выдавливая краски из тюбиков, подмешивал и месил, размазывал мастихином и месил кистью и нашлёпывал кистью, именно нашлёпывал на уже закрашенный холст, будто баловался. Но каким серьёзным и напряжённым, даже свирепым делалось вдруг его округлое, добродушное, щекастое, толстогубое лицо, в мятую картофелину превращался нос, дрожали, разлипаясь, обиженно-детские в этот скорбно-счастливый момент творения губы, судорожно дёргались широкие покатые плечи, и вся плотная фигура сотрясалась, словно билась в конвульсиях, только короткопалая рука крепко сжимала кисть…
И сам себя подстёгивал, сам с собою спорил, давал себе указания.
– Ну-ну, поддать огонька надо, обжечь и обострить.
И будто бы на вкус не языком, а глазами пробовал. – Пресно, обострить бы, приперчить надо и – главное – жару-пылу поддать, чтобы заполыхало… – делал жадный глоток рябиновки.
Как он обострял, как приперчивал, приравнивая перец к огню? Ведь по-прежнему нашлёпывал краску, ударял упруго по холсту кистью, ударял, давил, будто бы хотел прорвать кистью холст, чтобы прорваться в какой-то потайной мир; и – мазал, мазал.
Но глаза безжалостно вдруг прищуривались. Прицеливался, готовясь выстрелить в невидимого врага? Глаза – узкие-узкие, как свинцовые щёлки.
С кем он боролся, кого одолевал, когда мазал по холсту кистью?
Кого так ненавидел?
Германтов, сколько ни старался, не мог обнаружить в себе такое же бойцовское напряжение, такую же злость… Да, да, он тоже, бывало, мазал кисточкой по картонке густой-густой краской, но вряд ли у него от этого так, как у Махова, сужались глаза, твердели и белели скулы.
– Максим Дмитриевич, скажите правду, у Юры хоть что-то путное получается? – спрашивала мама, столкнувшись с Маховым в коридоре.
– Получится, – обнадёживал Махов.
– Ни к чему конкретному склонностей нет, ни к чему, – вздыхала в сомнениях мама. – Ничем, кроме листания иллюстрированных журналов, не интересуется.
– Как же ничем, – посмеивался Махов, – журналы ведь иллюстрированные…
Потом и Сиверский про склонности спрашивал.
– Он, Максим Дмитриевич, не безнадёжен?
– Надежда, как и положено, умрёт последней. Главное, не спугнуть, не надо понукать-направлять: туда тебе надо, не туда…У него сейчас год за три, а то и за четыре года идёт, пусть пока насмотрится картин вволю, красок нанюхается. Помните, Яков Ильич, как в Святом писании сказано? Иди в молодости твоей, куда ведёт тебя сердце твоё и куда глядят глаза твои…
– В Писании? – удивился Сиверский. – То есть, переводя на более конкретный светский язык, без руля и ветрил мальчишку бросить в житейском море, произволу судьбы доверить? И что с ним, лишь сердцем и глазами своими ведомым невесть куда, станется хотя бы в ближней перспективе? – сквозь очки и свысока, благо был много выше Махова ростом, на Махова посмотрел.
– Если интерес не утратит, к себе в СХШ возьму, в подготовительный класс.
– На интересе одном, без таланта, далеко не уехать.
– Далеко? Куда далеко-то ехать? – валял ваньку Махов. – Будет стараться, так и проучится между троечкой и четвёрочкой, а уж потом…
– Хорошенькая перспектива – посредственный художник!
– По крайней мере, по академии, по каменным коридорам её походит, воздухом искусства подышит… Одно это и воспитывает, и учит. А уж получится из него что-то путное, не получится, один Бог может знать. Если есть что-то за душой, то непременно это «что-то» проявится.
– А если всё-таки не проявится?
– Отчислим! – Махов состроил страшенную, как у пирата или разбойника с большой дороги, физиономию.
Сиверский явно не всерьёз воспринимал маховские надежды, обещания и угрозы, только большой своей головой покачивал, отечески облапив Юру за плечи, шутил: в семье не без урода, да? Всё смотришь и смотришь, а самому шевелиться надо, – ласково рокотал, пора бы начинать шевелиться; такой крупный, сильный… И Юре так приятно было чувствовать себя защищённым, взятым под крыло, и вовсе не хотелось ему шевелиться, да и как он мог шевелиться, если так уютно ему, когда сдавлены плечи… Сиверский также любил ему взъерошить озорно волосы, а Германтову в этот момент, когда находился он под крылом, хотелось быть таким же большим и сильным, таким же лобастым и очкастым, как и сам Сиверский. А пока ладонь отчима, крупная, сильная, тяжёлая, горячая, как и весь он, жаром пышущий, неуёмный, словно отдыхая, лежала на Юриной голове, вспоминалась ладошка Анюты – крохотная, прохладная, твёрдая и – гладкая-прегладкая; бархатная – или лайковая? – ледышка.
Что ещё запомнилось? Да только то, что смотрел, смотрел и – нюхал, жадно нюхал, как наркоман.
Смутное влечение – смотреть. И расшевелить его было б трудно: не трогали сиюминутные желания, капризы, дворовые игры, драки, обиды, стыд – всё то, что ежедневно заполняет нормальный мир детства; кстати, в их доме, таком солидном, с пышным фасадом, и нормального-то двора не было из-за тесноты участка и поперечного, делившего двор надвое, флигеля: не двор, а так, два маленьких и почти что глухих тёмных колодца, квадратный и продолговатый, их соединяла отсыревшая, длинная, точно труба, с мусорными бачками вдоль стенки подворотня.
Нет, в мёртвых крохотных тех сдвоенных дворах-колодцах сердце детское не застряло, только смотреть ему хотелось, только смотреть.
Его склонность… в том, чтобы смотреть?! Ну да, разве ещё не ясно? Никто его ласково не тискал, не тормошил, не сажал на плечи, не бегал с ним взапуски, не мастерил вместе с ним с помощью столярного клея из узких – контурных и идущих крест-накрест, по диагоналям – щепочек-лучинок и папиросной бумаги или кальки воздушного змея, не привязывал к змею, похожему своей графической схемой на морской флаг, рыжий хвост из мочалки и не запускал, к ребячьей радости, змея в небо…Да и не хотелось ему такого змея своими руками сделать, главным для него было б видеть, всего лишь видеть, как змей тот трепетал в синеве; и ему не дарили, как другим детям, мячи, заводные игрушки, револьверы с пистонами, оставлявшими после выстрела-щелчка запах пороха, а подаренный Липой на день рождения трёхколёсный велосипед вовсе не сделал его счастливым. И заглядывать под ёлку в надежде на подарки ранним утром не торопился, он и новогоднюю-то ёлку лишь ту запомнил, что мигала лампочками за выгибом гитары и дёргавшимся Олиным плечом… И ничуть не тянуло в цирк, зоопарк. Однако всем естественным детским радостям нашлась чудесная замена. Сколько ни увещевал Сиверский – шевелиться надо, Юрочка, шевелиться, Сиверский даже церемонно сгибался пополам в пояснице, губами Юриного уха касался, чтобы горячо, как бы с особой, убеждающей доверительностью прошептать: шевелиться надо, – но вопреки всем громогласным увещеваниям или тихим, еле слышным, хотя и обжигавшим, нашёптываниям подвижные детские игры издавна, с далёких уже лет, проведённых в снежной эвакуации, заменялись играми воображения. Листая ли журналы с видами городов, а теперь оказываясь ещё и перед холстами Махова, он ощущал в себе одну, зато исключительную, пожалуй, всепоглощающую страсть – смотреть, всматриваться; всматривание питало фантазию, стимулировало подвижность его ума.
Вот оно!
И ни намёка ещё не было на целеустремлённость, амбициозность.
Но вот оно, органичное вполне, влекущее в неизвестность проявление одиночества! Как ещё, какими словами особенности его одиночества описать? Одиночество – как залог будущих качеств характера, будущих склонностей, предпочтений. Одиночество вовсе не подстерегло Германтова внезапно на пороге старости, как подстерегало в концовках жизни многих других, когда ровесники вокруг вымирали, а с выжившими – и ускоренно выживавшими из ума – терялся общий язык, нет, и не одиночество отчуждения, выписанное Фроммом, испытывал он теперь, нет-нет, одиночество, если угодно, было и предопределением его, и – призванием! Он был уникумом одиночества – Анюта в нём многое, очень многое угадала; он варился в своём соку, одиночеством своим упивался, пусть и неосознанно, смаковал его… Издавна это, с ранних детских лет начиналось, с листания иллюстрированных журналов, книг. Он подолгу всматривался в штриховые волны Средиземного моря и силуэтные контуры мрачного острова с замком Иф, словно силился ещё и заглянуть в узкие окошки неприступной темницы; да, издавна он испытывал симпатии к одиноким узникам – графу Монте Кристо, ибо невольно проникался гордой философией Эдмона Дантеса, или несправедливо несчастной Железной Маске. А вот когда он подрастёт и прочтёт Ремарка, то симпатий сопричастности к одиноким потерянным героям не испытает – одиночество по социально-историческим обстоятельствам, пусть и по травматическим обстоятельствам военного и послевоенного времени, почувствует он, – это одиночество, извне навязанное, а у него, Германтова, – одиночество органичное, именно органичное, мало-помалу превращавшееся в замкнутую обитель, где в детских томлениях мыслей-чувств вызревала его самодисциплина. И ведь не был он застенчивым, нелюдимым, неразговорчивым, нет, был он вполне контактным. Но если бы нашёлся в человечьем генофонде ген одиночества, то гипертрофия роли такого гена, несомненно, лучше всего объяснила бы закваску германтовского характера, его пристрастия, привычки. Как интересно бывало ему наедине с собой! Он – один и сам по себе – смотрит на что-то внешнее, не объяснимое сразу, возможно, вообще необъяснимое, даже непознаваемое, будто, подстёгнутый Анютой, с противоестественным удовольствием ищет ответ на вопрос – что такое жизнь? Однако и вне догадок, оценок то, что видит он, уже волнует, суля, если продолжать смотреть-всматриваться, какое-то нарастающее, познавательное, напряжённое и интенсивное наслаждение, как если бы и все вопросы его, и ответы на них растворены были в самом объекте рассматривания. Он смотрит на женское лицо ли, морской прибой, наслоения и контуры крыш, силуэты деревьев, или на живописные пятна, штрихи и линии, а увиденное заполняет всё его существо, порождает – откуда что берётся? – самодостаточные вполне мысли и чувства. Ведь ему и впрямь вовсе не хотелось самому рисовать, писать, а если бы и захотелось – то каким-то отвлечённым, абстрактным стало бы такое желание; нет, никакого созидательного зуда, переходящего в зуд художественного тщеславия, в детстве он не испытывал, ему лишь хотелось прозревать что-то – что-то скрытое за поверхностью изображения, а что именно – он не знал. Он ведь и на вокзальный люд, на неугомонно подвижный сбитень из навьюченных тел, смотрел, переживая счастье своего одиночества, сладко прозревая при этом что-то необъяснимо важное для него, что-то, вроде бы располагавшееся снаружи, вне его самого, но, оказывалось при этом, ещё и таившееся внутри него самого: смотрел, смотрел в себя – в какие-то ландшафты души? – как на полыхающие ли, воспалённые маховские холсты.
В маховских холстах пульсировала какая-то тайна, хотелось её постичь; и погоня за этой подвижно-подспудной тайной, согласно Анюте, уже сама по себе мысленная погоня – изначальный признак направленного таланта? Ощущение и притяжение тайны, внутренняя необходимость всматривания в тайну свидетельствовали и о его, Юры Германтова, каком-никаком таланте?
Красные, красно-оранжевые, красно-розовые и мохнатые при этом мазки – да, Анюта точна, мохнатые! – мазки, мохнатые и жирно-густые, но – нематериальные?
Махов писал огонь?
И вдобавок – подсвечивал написанный на холсте огонь настоящим, тем, что в печке трещал?
– Многое, Юрик, очень многое нужно для рождения искусства, но главное, что нужно, – огонь…
Что всё-таки Махов имел в виду: сам огонь, натуральный огонь, или – внутреннее горение?
– Огонь, огонь! – дёргаясь, выдыхал-выкрикивал Махов. – И, глотнув рябиновки, переходил торопливо к загадочному, вроде бы к Германтову обращённому, хотя даже головы к нему не поворачивал, монологу.
– Кто Рим поджигал? Думаешь, Нерон? Но тогда скажи, Юрик, кто спичкой чиркал – злобный, бредивший убийством матушки своей император или «великий», как сам он считал, актёр? И кто из них двоих потом, чиркнув серной спичкой из «Рослеспрома», с упоением играл на лире, глядя, как огонь пожирает Рим? А кто – Москву при Иване Грозном поджигал, хан Девлет-Гирей? Или, быть может, прости Господи, хан Токтомыш? Всех ханских имён, огонь принёсших и огнём опалённых, никак в их исторической последовательности и точном произношении-правописании не упомню, никак… – Ага, всё же повернул голову на короткой шее: округлённые глаза, тёмно-русые, как-то неряшливо седевшие прямые пряди волос – причёска Иванушки-дурачка? – сползали на багровый вспотевший лоб. – Бывало, конечно, что и на войне обходились без дотла сжигавшего великие города огня, бывало, ибо и сами войны были какое-то время не лишены галантности. Вот ведь победил Наполеон Бонапарт при Аустерлице или где ещё, не упомню, но победил, вошёл во главе грозной армии своей в Вену и в тот же вечер вместе с коллегой своим по абсолютной власти, разгромленным австро-венгерским императором, отправился, как ни в чём ни бывало, в оперу. Как тебе, Юрик, – улыбался Махов, счищая с палитры коросты краски, – нравится такой миленький, свойственный европейским басурманам музыкальный финал кровопролитной кампании? Но нас-то не измерить аршином общим, вскоре нелёгкая Наполеона к нам, в Москву, занесла. И вот при Наполеоне-то, супостате, засмотревшемся с удивлением на московский пожар, знаешь ли ты, кто красного петуха в первопрестольную запустил? Неужели, думаешь, наш народ-богоносец? Э-э-э, – улыбку заменил тряский смех, – да ты догадлив не по годам! Ладно, – принялся выдавливать марс оранжевый на очищенную специальным скребком палитру. – А хворост, думаешь, подкидывали в костры инквизиции во славу Евангелий добропорядочные христиане? Отлично! А мировым пожаром кто бредил, кто раздувал и раздувает досель пожар, чтобы бедных навсегда осчастливить, буржуев-богатеев дотла спалить, – очкарики из Третьего Интернационала? Ты бы, Юрик, послушал, как под их управлением пролетарские запевалы и хористы, скандировали! «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». А в огонь, Юрик, кто книги кидал, фашисты-гитлеровцы? Начитались в школах-университетах Гёте с Шиллером и – в костёр?! Почему нет? Когда олимпиец Гёте, умирая, громко, чтобы весь мир услышал, прошептал: «Больше света!» – ему на фоне вечной ночи вполне ведь могло привидеться то книжное полыхание… О-о-о, огонь во мраке и высокие, и низкие натуры издавна возбуждал. И ныне пыл не угасает у тех, кто сжёг Хиросиму и Нагасаки, куда там, дело снова керосином запахло! Поджигатели атомной войны, пузатые крючконосые дядюшки Сэмы, в штанах, сшитых из звёздно-полосатого флага, с прогрессивным человечеством не посоветовавшись, что сейчас затевают в своих банках и биржах на Уолл-стрите? И учти, учти непременно, Юрик: во все времена жуткий внутренний огонь во всех нас, двуногих зверях, горел неугасимо и горит до сих пор, пламенную арию слышал? «В душе горит огонь желанья…»

