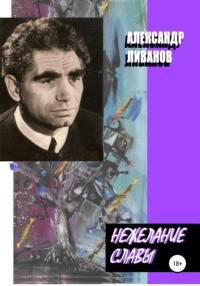
Нежелание славы
– Это Иван Петрович вас научил?
– А?.. Не знаю, не знаю!.. Мы специально ничему друг друга не учим. Может, поэтому и учимся друг у друга?.. Не знаю, не знаю… Если я мыслю, как он, это потому что я женщина – и я люблю его. Неужели вы, женщина, и этого не понимаете? Или вы никогда не любили?.. Так и родились, чтоб судить чужое счастье, за неимением своего? Я бы в судьи брала счастливых женщин, не неудачниц, старых дев.
– Не забывайтесь, а то попрошу, гражданка!..
– Я здесь на товарищеском суде, – стало быть, я товарищ!
– Не придирайтесь к словам…
– Это вы придираетесь… И не к словам – к жизни людей… И не стыдно, и не совестно?..
– Послушайте! По-вашему, товарищеские суды не нужны? Поступило заявление – мы обязаны разбираться!.. Думаете, мы получаем удовольствие…
– Дело, не доставляющее удовольствие, плохо делается… Что жизнь, что дело – без любви – одна видимость, проформа, унылое притворство! Пусть судья не призвание, но есть ведь дар любви к людям?
– Любви, любви!.. Далась вам… Есть еще обязанности, есть долг!
– Ну, нет… Без любви – всем убыток. И человеку, и людям, и обществу. Не нравится вам – «любовь», скажите, как народ – «жизнь»!
– Ну, хорошо… Прямо устала от вас… Могли бы поучиться вежливости у Ивана Петровича… Хоть поступок его аморальный…
– Не смейте так! Иначе уйду! Судите нас – без нас!.. Я явила большую вежливость, вот уже тем, что пришла на ваш вызов… Я – художник! Я трачу здесь свое рабочее время… Мне никто гроша не платит! Ни окладов, ни прогрессивок, ни пенсии!.. Для художника, знать, ничего еще в мире не произошло к лучшему… Пожалуй, к худшему… Даже продать свою картину не имею права… А я стою здесь перед вами и оправдываюсь… В чем? Мы оба свободные? Причем же – суд?.. Художественный совет – судит, оценочная комиссия судит, комсомол – судит, вы – судите… Господи, в чем, в чем я виновна!..
– Успокойтесь… К слову, вы по делу проходите как свидетель…
– Нет уж! Ответственность с Иваном Петровичем солидарная!
– Лучше скажите мне вот что… Вы молодая, энергичная, недурна собой… Неужели не могли найти свой возраст… Молодого человека – не старика…
– «Старика»! Для вас – молодость – возраст?.. Ваши «молодые люди» мне до чертиков обрыдли3! Вот они-то старики! Какая-то механическая жизнь! Ни мысли, ни слова человеческого! Стоит мне услышать эти: «Ты даешь!», «Ну, старичок!», «Мы вчера поддали!», «Клевая маруха4!» – уже тошнит… Все слова автоматические! Все чувства автоматические! «Диски», «Маги», «Куски»… Какие-то нелюди: роботы! Есть у них душа? Какие-то остановленные, недоразвитые… А какая амбиция!.. Они лучше всех, умнее всех… Никто никого не слушает. И эти готовые слова на все случаи жизни – как бы, чтоб не надо было слушать друг друга… Слова – без мыслей, без чувств! Одно обозначение общения… Зашли как-то с Иваном Петровичем в магазин. Свернули в музыкальный отдел. Я с детства, лет пятнадцать туда хожу – ни классики, ни народной песни, ни оперных партий! Ни одного оперного певца, можете себе представить? Пугачева – нарасхват, Кобзон – нарасхват, Гурченко – нарасхват. Эстрада! И то ничего, а то одна пупукающая музыка… Не успела оттащить Ивана Петровича – заговорил он с кем-то из очереди. Бородка эдакая епархиальная, холеный амбал, в кожаном дорогом пальто, на пальце обручальное кольцо. «Иди-ты, дед!.. На-до-е-ли своими Чайковскими, во как!» – и пильнул себя поповской пухлой ручкой. «Неужели Пахмутова лучше Чайковского?». «А то нет! Хоть без нудьбы!..». «Но это ведь даже вообще не музыка! Ни мелодии, ни души… «Пу-пу – пу-пу» – стукотня, грохот, ритм для приматов… Нельзя ведь так!». «Иди ты, дед!.. Очень прошу тебя!..» – и даже эдакая страдальческая гримаса.
– Вот видите, дедом даже называют вашего!..
– Только и поняли?.. Это тот, в кожаном пальто – дед! Сам-то он живой труп: мертвец! Эту фирму мелодию судить бы надо! И не товарищеским – уголовным судом! Под видом музыки – разлагает, нет убивает души в молодых! В сотнях тысяч, в миллионах! А вы чем заняты?.. Послушайте, оставьте нас в покое! Или вам делать нечего? Солнце вон светит, опушились деревья – весна… А вы здесь, в затхлой и душной этой жэковской каморе5… Не совестно?
– Ладно уж… Идите… А Иван Петрович пусть придет. Протокол подписать нужно… С нас требуют – думаете по своей охоте…
– Господи! Мне не нужно, вам не нужно – кому же это нужно? Что же с нами твориться? Почему мы делаем то, что никому не нужно!
– Зря вы так… Вон вчера в газете читала… Отличница университета, а сама только на валюту иностранцев принимает… Путана называется… И только и ждет, чтоб за иностранца выйти – и уехать…
– Ну а я причем? Что за намеки, не понимаю. Оскорбительно это!
– Да будет вам кипятиться… Вот до чего наша сестра доходит!
– Вот именно – доходит… Задергали ее воспитанием… Такие как вы – до чего угодно доведут! Оставьте женщину в покое! Не нужны ей ваши золотые клетки, ваша эмансипация и равноправие, «участие во всех сферах» и прочая газетная аллилуйщина. Иначе она вам устроит!
– Уже устроила… Вот и занимайся тут вами… Идите уж, не расстраивайте меня. У меня еще подопечная старушка в подъезде, не встает, надо ей что-то поесть купить. Идите, суд закрыт! То есть – заседание суда закончено…
Часы
Молодая, красивая женщина вошла в часовую мастерскую. Остановилась на миг в недоумении. Зачем столько часов, столько мастеров в белых халатах за стеклянными барьерчиками – глазами, навскидку, выстрелы: не ко мне ли? – мне всего-то нужны свои часы, свой мастер!..
Она была модно одета, но с первого взгляда замечалось не это. Модная одежда, стало быть, была не сама по себе, тем более не «забегала вперед», а самоотрешенно служила хозяйке, подчеркивала ее молодость и красоту и поэтому не раздражала, не уводила к мужской неопределительности между собой и собственно женщиной, чего добивается большинство женщин, не родившееся со счастливой внешностью, может поэтому особенно чувствующие себя – женщинами…
Она вызвала через кого-то мастера. Это был пожилой, лысый, добродушный толстяк, с лица которого не сходила его грустноватая приязненность. Видать, был себе на уме, знал себе цену, но считал себя обойденным в жизни.
Женщина, завидев его, тоже улыбнулась. Видать, к этому обязывала память о прежнем, в чем-то хорошем, может даже, задушевном, разговоре.
– Ну как? Готовы?
– Если обещал, стало быть, готовы… Это старые часы… По сути – это целая реанимация!.. Обратили внимание? Вот, на циферблате снизу: «Париж»! Пришлось-таки потрудиться… Ведь, сознайтесь – были до меня в других мастерских? Не взяли? То-то ж… Молодым – попроще, полегче – заработать… Вымерли старые мастера! Тем – деньги деньгами, а главное – интерес к работе. Любому механизму жизнь вернуть. «Не берем», – слов таких мастер не знал! Затем – практика! Так часовщики, так слесари, так врачи… Вернуть жизнь! Интересно!.. А то – заработок. Деньги что навоз – то нет, а то воз!
– Так, значит, будут ходить? Вот здорово… Эти часы – прабабки… А дальше не знаю… Бывало без денег – хотела продать – пожалела! Но я уж не продам! Теперь им цена выросла!
– Как можно… Весь ваш род – в них!.. Дорожить надо! Повозился я-таки с ними. Шутка сказать, лучше бы с комода упали. Это вроде травмы – руки, ноги, хирургия, гипс… А здесь перекрутили и оборвали пружину – это удар на весь механизм! Обширный инфаркт, вот что это!.. Страшно сказать! Колеса рихтовал, ход пришлось перестроить…
– Как – ход перестроить? – испугалась женщина.
– Точней сказать, вернуть им ход пришлось… Насколько возможно…
– Ну, так бы и сказали! «Перестроить» – или – «вернуть ход»: разница! Я в этом понимаю! В походке – весь человек! Особенно женщина… Я ведь балерина… Как-то вывихнула ногу, вот здесь… Гипс, всякое такое… А я лежу и думаю – если утрачу свою походку – лучше не жить! Вы знаете, у меня любимый человек есть. Я его спрашиваю: за что он меня выбрал? «За голос и за походку»! Ну, голос, по-моему, это его фантазия. А походку свою чувствую!.. Ну, как сущность свою… Я ведь балерина. Ах, да, я уже сказала!
Толстяк с порозовевшей от приязненности лысиной слушал балерину, кивал понимающе, не отрывал взгляда от ее красивого лица. Он был счастлив. Разве ему еще что-то нужно от этого прелестного существа? Нет, он и так вполне счастлив… Пусть она со своим «любимым человеком», – а часы – его – будут тикать-тикать… Словно сам будет жить рядом с этой красотой, с этим редкостным даром природы! Неужели она не вспомнит о нем, о старом мастере?
Конечно вспомнит! Часы ей напомнят о нем!.. Счастливый день в жизни! Починить такие часы! Обрести приязнь такого очаровательного существа! Какое сегодня число?
Зоя Александровна
Они убирали картофель с поля. Сперва насыпали в мешки, потом мешки нагружали на прицеп.
Конечно, Астафьев или Носов, вам бы изобразили и это туманное, зябкое, серое утро предзимья, неподвижные и все же, как бы угрожающие облака, темно-сизые, ударяющие в лиловатость, дальний лес, обезлиственный и оцепеневший в ожидании морозов, этих женщин в телогрейках, в резиновых сапожках, такие ладные в работе, забывшие словно о своей женственности – поскольку среди них, четверых, не было ни одного мужчины, «выступать», раскидывать весь набор женских штучек, из шуточек, смешков, притворных «ахов», не перед кем было. До прихода трактора нужно было успеть перекидать на прицеп все мешки. Они работали молча, споро, даже с каким-то, казалось, задорным ожесточением.
Все это, конечно, лучше меня изобразили бы вам Астафьев или Носов. Но неужели же я ничего не стою в сравнении с ними, если заметил среди них одну, видимо, горожанку, которую все женщины, незаметно и необидно, старались заменить собой в чем-то особо тяжелом, для нее непривычном – как вот, скажем, в погрузке мешков с картошкой на довольно высокую площадку прицепа?
Горожанка – ее, допустим, называли Зоя Александровна; допустим, или у автора есть своя причина называть так эту женщину – читателю это, разумеется, все равно – ни в чем не хотела уступать сельским женщинам. И тоже это делала не молча и настойчиво. Ее пытались оттереть от мешка, то одна, то другая колхозница подступала к тяжелому мешку боком, но и та успевала, боком же, упредить нежеланную помощь. Это соревнование в великодушии, право же, куда интересней, трогательней было, чем все скупые, но столь выразительные краски осеннего, полевого утра, сырого от растаявшей изморози, от тумана, от мокрых неподвижных облаков!
Сельчанки, конечно, были не только привычнее в этой работе, сама работа, многолетнее ее повторение, сделали их присадистее, основательнее. Они свободно подчиняли себе работу, каждое движение было ловким, рассчитанным давно и закрепленным в памяти рук, ног, всего тела. Даже сама четырехпудовая тяжесть мешка, казалось, была им наруку, помогала. Это, в конечном итоге была самая тонкая физика. Тяжесть, ускорение, живая сила – все здесь неосознанно работало на погрузку. Две женщины, обе колхозницы, ловко хватали мешок за четыре угла, плавно качнув его в противоположную от площадки сторону, тут же, в нужном направлении, на замахе, кидали его на площадку. Это было трудно, но было и красиво. Как всегда, красива работа, которую делают умело. Как говорится, с чувством, с толком, с расстановкой. Стало быть, было тут еще много помимо физики. Был ум и дар человеческий. Был лад – из чувства ритма, координации, из одоления живой силой – косной и мертвой силы тяжести. Мешок, грузный и неуклюжий, казалось испытывал женщин, лукавил, но был рад их ловкости, и точно обретя вдруг невесомость, каждый раз летел в прицеп.
Горожанка была тоньше в кости, выше. Она старалась, но из этого, по правде сказать, выходило мало путного. Тяжелый мешок сгибал ее в дугу. Причем и эту дугу ей удержать не под силу было. Она не управляла тяжестью, не противопоставляла ей живую силу, физику замахов, этого обманного для тяжести движения в обратную сторону, а силу старалась одолеть силой же, вес весом, и выбивалась из сил, страдая от того, что работа у нее шла хуже, чем у колхозниц…
Зоя Александровна отдыхала здесь в колхозе, у одной дальней родственницы, которую и вышла сегодня заменить на погрузке. Той надо было поехать на почту получить посылку, затем за очками для старой матери. Зоя Александровна сама и предложила свои услуги. Так она оказалась на погрузке. Она не могла подводить неполноценной работой свою родственницу. Мешки подтаскивать к платформе – это еще куда ни шло. Она, то сгибалась в эту все слабеющую дугу, то, отклячив таз и откинув назад голову, с подкашивающимися коленками, едва переставляя ноги по изрытому полю, тащила эти мешки, держа их за вырывающиеся из рук ушки. Но этот обманный замах назад, чтоб мешок, точно почувствовав себя на качелях и в забывчивости, взлетел на платформу прицепа – это никак не давалось Зое Александровне. И снова, и снова она, бедром, боком, отстраняла помощь…
– Интересные вы люди, – после того, как трактор увез прицеп и настала передышка, сказала Зоя Александровна. – Вы небось сколько лет работаете так – а хотите, чтоб у меня сразу получилось!.. Погодите, день еще большой… Научусь! Вот так-то, мои дорогие передовики сельхозпроизводства! – С важной комичностью поклонилась она, выдержав позу и паузу, как артистка на сцене в ожидании аплодисментов.
Женщины, как куры на повети6 рассевшиеся на каких-то набросанных ветках, рассмеялись. Недаром люди так любят театр. Ни писатель всеми своими словами, ни художник своими красками, не скажет столько, так непосредственно, о человеке – сколько сам человек со сцены, где все-все соединяется и слово, и краски, и живой голос, вплоть до последнего жеста, вплоть до тончайшего выражения лица.
– Ну, ты прямо артистка, Зоя Александровна! Ты кем работаешь, в городе-то? Может, и правда какая народная?..
– Все мы – народные!.. А работа, между прочим, не всё говорит о человеке… Я, к примеру, в сберкассе работаю. Пойди, возьми меня! Вся я тут? Черта с два!.. Человек больше любой хорошей работы!
– Кто же ты тогда, по-настоящему?
– По-настоящему я… Неудачница. Вот я кто.
– Это потому, что на картошку к нам попала?
– Глупости! Сельский труд – любой! – самый естественный. И самый здоровый. Сплошной спорт-гимнастика! И все – на свежем воздухе! Идеально для здоровья! А в здоровом теле – что? – в здоровом теле – здоровый дух… Спот и гимнастика – там в городе… Как бы ни наряжал себя, не обставлял формой, зрелищностью, это, подруги, скажу вам – пародия на нашу работу… Это все та же, неосознанная, глубокая, ностальгия по настоящему – сельскому – труду….
– А почему же – неудачница? Небось – должность у тебя и оклад? Заведуешь небось? Руководство? Одним словом: начальство?
– Неужели я похожа чем-то на заведующую? На начальницу?
– А хто тебя знает?.. Тут ты одна – там другая…
– Вот это неверно!.. Так не бывает. Кто – руководство, он, или она – всюду одинаковые… Скажем, не станут так лялякать – вроде меня… Страх боятся простаты!.. Естественности. Как кошки воды – боятся… По-моему, есть люди, которые себя всегда чувствуют старше – ну, умнее, лучше, что ли. Другие, наоборот, всегда себя ведут как младшие, ждут, чтоб им сказали что и как. И есть еще третьи… Это вроде меня – независимые. Не любят ни командовать, ни подчиняться… А надо… Трудно им…
– А ты ученая, видать… Много, видать, читаешь?.. Прямо – как лектор из района все объясняешь. И про космос, наверно, можешь?
– Нет… Он меня ничуть не занимает. Главные статьи лекторов: политика, спорт, космос – меня, подруги, не трогают. Хлеб не отобью… Вообще я молчаливая. Просто вы мне по душе!
– Дак почему, однако, неудачница? Чего-то в жизни эдакого хотела? – напарница Зои Александровны при слове «эдакого» прищелкнула пальцами, и опять женщины рассмеялись. Они еще не совсем поняли, что за человек Зоя Александровна, но зато почувствовали, что она необидчива, хотя и вряд ли простецкая душа нараспашку.
– Почему неудачница?.. Ну, как вам, сказать… Наверно, потому что ко многому способна была, а дара – призвания, то есть – ни к чему не имела… То есть, плохо меня воспитали! В балетной студии, например… Не хуже других была, а ничего не получилось… Актрисой пыталась, опять же не хуже других была, и тоже ничего не получилось… Знаете, чего больше всего ненавижу? Это слово – «способности»! Черт знает – что за слово! А то еще – «дар», «дарование»… Это глупость, скажу вам. Судят по готову. Нет никаких «способностей», никого природа или там, Господь Бог, не наделяет даром – этим самым даром!.. Труд, труд и еще раз труд! И себя забыть в этом труде! Вот тогда и будут «способности», и даже – «дар»… А то загодя скажут, мальчику ли, девочке ли, и все – и испортили характер! Есть у меня способности – или нет их? Талантлив я или нет? Или – или: труд, мол, ни причем… Я бы эти слова запретила бы! Вред от них!
– Значит и в балете?
– А что? И в балете!.. В общем, не жизнь у меня была – сплошной этот балет. Меня и в сберкассе так – «балет»!
– Значит – не получилось?
– Но почему не получилось?! – вскочила Зоя Александровна. – Амбиция! Самолюбие и гордыня! Семь смертных грехов! Главное – нетерпение… Желание славы – только это! Зато теперь знаю, как с дочерью поступать… Жаль, не была колхозницей, всего добилась бы…
– Балет продолжается?.. С дочерью, то есть?
– Да! И до победного… Ей уже четырнадцать!
– А не отравишь ей детство, потом и молодость?..
– Ничего… От страданий к радости!.. Она мне верит, мы с нею друзья… Ничего из нее не выколачиваю, не думайте… Кроме этого ничтожного самолюбия, обидчивости, веры в способности, нежелания трудиться… Кроме этого маленького «я», который из эгоизма, затем станет хитрованской корыстностью… Нужно этого злого карлика в себе начисто подавить!.. Чтоб открыть в себе возможность прихода большого «я» – из творчества, из самозабвения, из служения!.. Вот только этим я и помогаю педагогам… Они заняты техникой – я душой…
– И если все же не получится? Если и она будет неудачницей?
– В том-то и дело, что она уже – неудачницей не сможет быть! Она узнает высшую причастность… И это уже счастье…
– Как все сложно…
– А вы думали? А бывает ли простой жизнь? Сказки! Не главное все же – достижение цели… Важна сама верность цели, устремленность в жизни!.. Это вроде в нашей женской доле – можно иметь за жизнь много мужчин – а все они не сложат женской доли. Вот вам и неудачница… Вот я в искусстве была такой, «способной»… То есть, нетерпеливой… Вот и неудачница!..
– И теперь себе не даешь поблажки? Ни в чем? Даже в мешках с картошкой?..
– Ни в чем!.. Но уже не для себя – для дочери… Воспитывают не словами-речами, а своей сущностью!.. У меня понимание и характер – опоздали… Если бы вернуть года!
– Не таскала бы мешки с картошкой?
– Напротив!.. Все надо делать с радостью, с удовольствием… Так что не помогайте мне! Я и завтра, и послезавтра еще приду… У Вали дел по горло!
– Ну, ну… Давай, посмотрим на трудовой подвиг!.. Бабы, – трактор уже фырчит… К нам прямиком режет!..
Вот и весь рассказ о Зое Александровне. Осталось только назвать его, написать заглавие над первой страницей. Да еще объяснить читателю – откуда услышал я речь женщин, если – сам сказал – ни одного мужчины возле них не было во время их разговора… Это, второе, проще. Может, лежал, зарывшись в какой-то ложбине в ожидании рябчиковой утренней тяги? Может, услышал все при других обстоятельствах? Может, все выдумал?.. Знать и здесь, дыма без огня не бывает.
А вот с заглавием посложнее. «Картошка»?.. Будет это нарочитой сниженностью. Даже той усмешливостью, с которой когда-то горожане иронично сравнивали нечто важное – с будто бы пустяковой картошкой… «Это вам не картошка», или – «Любовь – не картошка», – трунили еще недавно горожане… Уже не трунят. Наезжая из города – от пионера до инженера, от студента до доцента (не худо бы, для их же пользы, послать сюда и «руководителя», и «профессора»!) – именно на уборку картошки, горожане за последние десятилетия научились ее уважать. Отошли, канули в лету, ухмылки, шутки, вся ироничность горожан по поводу картошки! Их здесь труд – учит, воспитывает, умудряет… Заслуга картошки перед социализмом – да, да! – еще не оценена.
Назвать рассказ «Балет» – тоже вроде бы заманчиво. Но очень уж – «специально», претенциозно, высоко – главное, разочарует читателя. Где же он, мол, балет в рассказе?..
Так тому и быть. Назовем рассказ «Зоя Александровна». Мы попросим читателя быть снисходительным к автору. Уже написали мы выше, что – может статься – есть у автора причина быть пристрастным к этому имени…
Любовь свободна, мир чарует…
Он: Вот, купил тебе обруч для волос… Не золотой, не серебряный – но не простой металл. Век имитаций! Правда, благородный вид у металла? Да и резьба, или орнамент, по окружности.
Она: Обычный анодированный алюминий. Грузинская поделка. Да, сказала бы – подделка под что-то. И резьба-орнамент – то же. Выдыхается, эрозирует – как само национальное чувство – национальное искусство… Одно обозначение, одно рассеянное, смутное воспоминание, которое тут же перебивается чем-то всеобщим… По-моему, все национальное скоро будет пережитком. Для массы – пережитков, для отдельных людей – специальностью…
Он: А о самом ободке что скажешь?.. Подарок ведь. Дареному коню в зубы не смотрят… Слушай, ведь поговорки – не за зря. Наука жизни! Удобный для запоминания кодекс морали. Как-то наше время мало страниц добавило. Неужели он уж такой полный? Или мы мало думаем об этой самой морали? Немудра механическая суета, бездушна?..
Она: Почему, – думаем… Жизнь стала сложней, нет однозначных, заведомых заветов… Да, и суетней живем… И вправду раньше на все случаи жизни, как статьи в уголовном кодексе, были поговорки и пословицы. Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй… А мы что придумали?.. «На пыльных тропи-ин-ках дале-е-ких планет…».
Он: Ну, так уж ничего?.. Скажем – начальство ругать, что против ветра плевать… Еще? Ну, что еще?.. Ах, вот еще это, кандидатское, о своей науке: вперед не можем, назад нельзя, вот и толкаем ее в бок.
Она: Пошловато. Мелко. Но и на том спасибо…
Он: Ну еще это – Как жизнь? Бьет ключом – и все по голове!
Она: Опять же – плоско… Курилка цеховая… Когда уже пары подняты, зубоскальство расшуровано – и такое сойдет, мол… А как раньше припечатают – намертво! Скажем, «Не покупай у попа лошади, не бери у вдовы дочери». Не просто ладно сказано: приметчивость народная, безошибочный психологизм!..
Он: Но как же с подарком? Отложила. Не нравится?..
Она: Нравится, не нравится… Вся эстетика ныне – зыбкая, в условностях, несерьезная: побрякушечная… Вроде этой грузинской, базарной «трудовой инициативы»… Скажем, раньше мужчина дарил женщине ожерелье, или там, бриллиантовую брошь… Даже и спрашивать – «нравится?» – не приходилось. И то, и другое – солидная сумма денег! С голоду не помрет бедная женщина. Вот и ответ был готов: «Какая прелесть!». И мужчину в щечку. Эстетика мерялась жизнью, имела, так сказать, денежное выражение… А ныне – женщина и так с голоду не помрет. И она, и возможный ребенок… Любовь свободна, мир чарует. До пенсии – работник, после – пенсионерша из работниц… Она – лишь биологическая условность. Нет духа: женщина! Нет поэзии больше в этом имени! Где народные песни, где романсы? О любви, то есть.
Он: Что-то я тебе испортил настроение подарком… Прости, не угодил… Дай, вышвырну в окно… МХАТ когда-то приехал в Ялту к Чехову. Поднесли огромный чернильный прибор – видят: недоволен Чехов. «Что же надо было подарить?» – спрашивает Алексеев-Станиславский. «Мышеловку», – отрезал Чехов. Не любил ритуалов, не любил пустой траты денег… Не поняли. И тебя не понимаю…
Она: Сколько стоит?..
Он: Опять двадцать пять. Неужели не могу тебе подарить хотя бы пустячок.
Она: Можно пустячок, но со вкусом. Это базарная дешевка…
Он: То есть – либо бриллиантовая брошь… С доставкой в нумер Славянского базара, или ничего не надо?
Она: Брошь… Славянский базар… Бери выше! Я бы приняла от тебя один лишь подарок: тебя самого…
Он: Вот как? То есть, я должен тебе подарить свою свободу – тогда я был бы на высоте?
Она: Взамен получил бы мою свободу… ну, любовь, верность, заботу-внимание, как говорится…
Он: По-моему, и две несвободы не складывают одну свободу… В дарении тоже добровольность нужна. И уважать это нужно… Тебе легко бы дарить, тебе кажется, что обрела бы, теряя. Я же убежден, что только потерял бы… несвободно подарить кому-то свою свободу.
Она: Понимаю… Ты, конечно, прав. Хоть и все излагаешь мудрёно. Просто – я тебя больше люблю, чем ты меня… Мне кажется, что рождена служить тебе – и это не фантазия, тебе кажется, что ты рожден служить своему… бумагописанию, то есть: человечеству. А это милый, фантазия, заблуждение. Но я и заблуждение твое уважаю… Что же поделать с вашим братом мужчиной, который не способен родить, способен лишь на заблуждения, создавая цивилизацию. И благодаря нашим женским компромиссам – жизнь продолжается… И давай твой подарок, и получай свои два рэ двадцать коп. Выбито! На всем-всем нынче цена! Выбито, выштамповано. Видать, затем, чтоб мужчины избавлены были от необходимости платить, дарить, чтоб остались свободными… В общем, все прекрасно! Одним словом, все то же: «Любовь свободна, мир чарует». Послушай, сколько платили Кармен на табачной фабрике?.. Не выдумка ли ее гордость?..