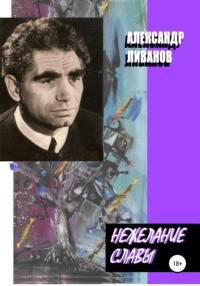
Нежелание славы
Башмачкины и Хлестаковы – некая дальнейшая социальная дифференциация, развитие начал пушкинского Евгения из «Медного всадника».
Вот, видимо, что надо иметь в виду в гоголевской образной фразе о Хлестакове: «легкость в мыслях необыкновенная!».
В этой фразе – Хлестаков весь, с редкостной полнотой как человеческой, так и образно-общественной сущности. Воплощение же образа, видимо, зависит от того – сколько дано актеру и режиссеру взять из этой гоголевской фразы. Вот почему образ (роль) и «легкий», когда акцент делается на внешности, на «легкости в мыслях», вот почему он трудный, творческий, глубинно-художественный, когда делается усилие вскрыть генезис – почему «легкость в мыслях», в чем их причина, какая здесь связь с современным обществом, с его устройством, с его почти мистической психологией…
Легкость трактовки (чтение, сцена, кино) Гоголя – путь заведомо нетворческий, от Гоголя, это иллюзия понимания и воплощения образов Гоголя… Увы на этот иллюзорный путь – внешнего – очень уж часто попадаются, как читатели, так критики, так и искусство.
Причем, очень уж приманчива эта внешняя легкость у Гоголя – хотя начисто нет такой, скажем, у Достоевского, где правая – лишь правая (понимания, воплощения), не остается даже гоголевского «внешнего»…
Ведь так и с живыми людьми. Одни сложны при внешней, казалось бы, простоте, другие сразу ничего нам не сулят, кроме непростоты, о третьих же, внешне сложных при внутреннем примитиве – об этих говорить неинтересно. Тем более они неинтересны литературе…
Но простодушен ли Хлестаков? Ведь взял чужие деньги, ведь опустил в свой карман. Среди всей вторичности чиновной эйфории – он в таком, как видим, не теряет чувство реальности. В этом Хлестаков лишь немного кажется, не дотянул до Чичикова!
И как всегда есть нечто фантастическое в героях Гоголя. И проистекает оно от фантастической реальности…
«…И голодно, и болезненно, и безнадежно, и уныло, но люди живут, обреченные не сдаются, больше того: масса людей, стушеванные фантасмагорическим, обманчивым покровом истории, то таинственное большинство человечества, которое терпеливо и серьезно исполняет свое существование, – все эти люди, оказывается, обнаруживают способность бесконечного жизненного развития», – писал Андрей Платонов.
Хлестаков – маленький чиновник, вероятно, когда-то выходец из простолюдинов, уже не в состоянии осуществить «серьезное существование». Именно поэтому он и не желает и стушеваться под «фантасмагоричным, обманчивым покровом истории»!
И нет у него другого пути – кроме как в Чичиковы. В сущности, он его предтеча. Меняются только тройки. И та же пыль столбом…
И до поры до времени сторонится «безмолвное большинство человечества» – пока реальность не утратит свою «историческую фантасмагоричность»…
Итак – «легкость в мыслях необыкновенная» – не легкомыслие! Хлестаков – недостаток «формы» для Петербурга, берущий свой реванш в провинции! Некая здесь «децентрализация формы» – но не отказ от нее. Напротив – реализация ее резервов на провинциальном просторе! Здесь сходят с рук даже импровизации и «непрофессионализм». Хлестаков как бы случайно оказался на своем месте, в своей стихии – та волна все той «формы», которая достигает самого далекого берега жизни…
Возмездие за нетворчество
Все помним, что сказано у Пушкина по поводу вдохновения. Сотни книг, написанных «специалистами» в разных степенях и званиях, кажется, ничего не добавили к скупым, емким пушкинским формулам! Подчас кажется, куда больше в этом ученом потоке изданий было бы пользы, если уже продуманы были пушкинские озаренные формулы…
Но, видать, все просто: чтоб что-то по существу понять в природе вдохновения (может, высшей тайны человека!) – по меньшей мере требуется то же вдохновение. Люди же, обладающие им – «не отвлекаются», а употребляют его непосредственно на творчество…
Похоже, и Пушкин бы не «отвлекся», не будь написаны его лицеистским другом, поэтом, затем декабристом Кюхельбекером статьи «О направлении нашей поэзии» и «Разговор с г. Булгариным»!.. Пушкин не очень щадит своего друга – видать, речь в статьях о важных для Пушкина явлениях творчества. Простить здесь промахи мысли Пушкин, видать, никому не смог бы. Как всегда у Пушкина – все важно, даже слова вроде бы брошенные вскользь. Так и здесь, еще до спора, до указания на ошибки друга, Пушкин, походя, указал на очень важную особенность, по которой должно судить о подлинности критической (исследовательской) работы.
«Статьи сии написаны человеком ученым и умным. Правый или неправый, он везде предлагает и дает причины своего образа мыслей и доказательства своих суждений, дело довольно редкое в нашей литературе».
Думается, «дело довольно редкое», увы, и поныне и в нашей литературе!.. Проще говоря, критика, исследования – по-Пушкину – лишь тогда что-нибудь стоят, когда есть в них, говоря современно, своя концепция (хотя бы – точка зрения), есть доказательность – как испытываемого, так и утверждаемого.
Но вернемся к разговору о вдохновении, где даже Кюхельбекер – «человек ученый и умный» (более того – тоже поэт!) – а это у Пушкина сказано без иронии, был не на высоте. «Многие из суждений его ошибочны во всех отношениях».
То есть, речь очень не о простом!.. Пушкин предпочитает больше «доказательства своих суждений», чем искать «причины образа мыслей» друга! Он прямо формулирует – что же такое вдохновение. «Вдохновение есть расположение души и живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных».
Но о вдохновении чаще всего говорят применительно к поэзии – а поэзия – в свой черед, в отличие от науки, «не объясняет»! Она – мыслит образами, она образно отражает предметный мир, мир чувств и мыслей, их отношения и связи, и «ничего более»… Стало быть, Пушкин и поэзию признает – наукой, общей, универсальной. Процесс постижения, образного воплощения («объяснения») по-Пушкину таков: «душа – впечатление – соображение – «объяснение»!
«Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии», – говорит далее Пушкин. Стало быть, вдохновение – всюду, где подлинное творчество. Где нет вдохновения – нет и творчества. Ведь «геометрия» – у Пушкина – не школярское, с мелком у доски доказательство готовых теорем, каким бы упоенным оно ни было, а – открытие новых теорем! Катастрофически растет число «геометров» – что-то про новые теоремы не слыхать. Не дефицит ли вдохновения ныне в математике? Не исключает ли его начисто, лишая самую возможность его, «степенство», которое напоминает скорей мир чиновной иерархии, чем научное творчество?.. Личностные нужны «образы мыслей» и «доказательства» их!
Стрелы поэзии вечны, из глубин времен, знать, разят они любую житейскую пошлость… Особенно под видом творчества.
И, наконец, у Пушкина главное «доказательство своих суждений», указана главная ошибка в статьях Кюхельбекера. «Критик смешивает вдохновение с восторгом»… «Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей части в их отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следственно не в силе произвесть истинное великое совершенство (без которого нет лирической поэзии)».
Итак, темперамент, чувство, эмоция могут уйти в сторону восторга примитивного – даже возбуждения и «нервов, а могут быть – творчески и для творчества – направлены в сторону вдохновения. Иными словами – вдохновение не просто волевое состояние души, а творчески-волевое ее состояние… Знать, кто не может в себе создавать и поддерживать это состояние, тот не творец!
Но на этом ли исчерпываются пушкинские прозрения о вдохновении? Разве жизнь сама, наше самочувствие, наконец, наше здоровье – не творчество? «Естество» нуждается в контроле, «природе» надо помогать.
Медицине, думается (как и любой науке!), здесь есть чему поучиться у поэзии. Вдохновение – это и здоровье, творчество – это и здоровье! Равно как все, что необъятно, с чем веками борется армия невропатологов и психиатров, что в самом общем виде объединяется словом «нервы» – есть всего лишь наш природный ресурс вдохновения. И надо уметь его направить на истинный путь вдохновенного труда и вдохновенного творчества!
Наконец, не является ли невротизм, все его бесчисленное проявление – возмездием природы за нетворческую жизнь? То есть, которая сама по себе – нетворчество? Не является ли аспект вопроса – скорей практически-врачебным, чем отвлеченно-философским или образно-метафоричным?..
Окружение и общение
Знать, каждый писатель (вероятно, и каждый творческий человек, художник) по-разному оберегает свою святыню… Одни прячут ее, себя вместе с нею, от всего житейского, от окружающих, даже близких, словно себя не сознают отдельно, по-человечески, без святыни творчества, пытаясь ею защитить свою ранимость, отчего еще более уязвимы и ранимы перед всем бытовым и житейским… Другие, наоборот, наряду или посреди творчества стараются отдать должное всему житейно-бытовому, словно творчество всего лишь наряду со всем прочим, присущи всем окружающим, они даже, нет-нет, готовы подтрунить над ним – не принимайте, мол, все это слишком уж всерьез! Ах, – я поэт? Я писатель?.. Вольно же вам… Вот я весь перед вами, такой же как все, как вы, как каждый!.. Да и что вы со мной все о литературе? Осточертело… Давайте о погоде, о болезнях, о женщинах… О чем угодно! Да и проще, проще со мной! Слава? Дым, что ест глаза! Или еще это – кто это сказал? Слава – солнце мертвецов! Не угодно ли партию в шахматы? А то и на бильярде можно!..
…Так, например, свою святыню писательскую Гоголь – нес, как крест, то забывая себя начисто, то вспоминая лишь ради напоминания, себе и ближним, себе и окружающим, чтоб объяснить, вызвать сочувствие к своему нелегкому положению: несущего, точно сам Христос на Голгофу, свой тяжелый крест. «Хитрый Гоголь» – был доверчив и скрытен, как ребенок! Так и не сумел он продумать свой «сценарий», свою «постановку» отношений с окружением! (Чем-то напоминает он этим Флобера!) Он ждал сочувствия, понимания, взывал к нему, а чем больше взывал, тем, кажется, больше лишался его, наконец, и вовсе раздразнив всех, особенно Белинского, сделав из первейшего защитника – первейшего врага, чтоб скоропостижно умереть, не от возраста и болезней, а, сдается, от этой жуткой удрученности непониманием! Ни денег, ни семьи, ни дома, даже сносного «гардероба» – ничего-то ему не надо было в жизни, одного лишь желая: понимания. Ну, наконец, просто сочувствия или терпимости… Даже этого не добился… «Под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель», «Хитрая, но чересчур перетоненная проделка для достижения небесным путем чисто земных целей»! И это – Белинский!.. И как жить после этого… Самую большую сторону души излил, не щадя себя ради искренности… И вот – его же по щекам, как картежного шулера; как негодяя… Какое заблуждение книжности и идеализма!.. Но, боже мой, может, не одно здесь его заблуждение? Может, целых два их? У одной и той же медали – две стороны… Все та же книжность, книжность, эфемерность, эмпиричность… Как жить после этого? Для кого писать? Где он, читатель?.. В печь, в печь все написанное! Прощайте, господин Белинский! Опять скажете – «перетоненная проделка»? Вольно же вам… Но что скажете о горстке пепла?.. Если нет понимания – ничего не надо… Лучше уж так… Огнь потухающий….
Но, может, все в том, что оба мы – не светские люди?..
«Добрый день, милостивая государыня; как вы поживаете? Все обители Куртавнеля чувствуют себя хорошо и кланяются вам. Они поручили мне дать вам отчет о вчерашнем дне. Вот этот отчет. После вашего отъезда все отправились спать и спали до десяти часов; затем встали, довольно молчаливо позавтракали, поиграли не спеша на бильярде, затем принялись за дело: м-ль Берта с Луизой, г-н Сичес с газетой, г-жа Сичес не знаю где, а я в маленьком кабинете стал обдумывать известный вам сюжет. Я размышлял в течение часа, затем читал по-испански, затем написал полстраницы на этот сюжет, затем отправился в большую гостиную, где с удивлением увидел, что еще только два часа. Тогда я в продолжении трех четвертей часа занимался с Луизой, которая начинает немного забывать немецкий язык, но сделала очень немного орфографических ошибок в диктанте; потом я отправился гулять один, а после моего возвращения все общество (вместе со мною) отправилось гулять до обеда, который был в пять часов. После обеда время, которое до тех пор тянулось, как тянет лапку раненая куропатка, показалось мне не таким долгим; правда, я проспал до 9 часов, вследствие усталости, вызванной моими двумя прогулками». И т.д., и т.д.
Одно – из огромного множества подобных – писем Тургенева к Полине Виардо. Письмо светского человека, к светской же женщине, которым, светской беспечной болтовней, из пустяков, шуточек, ужимок, прекрасно (не в пример Гоголю! Тому и в голову не пришло бы – за всю жизнь! – написать подобное письмо!) замаскировал писателя. О нем – всего лишь одно, вроде бы вскользь, наряду с другими пустяками, одно словечко: «сюжет»!.. А приходится ли сомневаться, что – в нем главное, в этом «сюжете», что о нем думал Тургенев все время, а не только один час в «маленьком кабинете»: и за завтраком, и за бильярдом, и на прогулках, даже во время занятий по немецкому с Луизой!.. Светский человек скрывает призвание, профессионализм!
Суета, суета, но если от нее никуда не деть себя (попробуй пренебречь светом! Даже писателю. А может ему особенно это не проститься! Свет жалит смертельными сплетнями! Русский ли он, французский ли!..), поскольку это непозволительно, веди себя как та муха, которая – чтоб уцелеть – садится прямо на хлопушку… А между одержимым, безмерным, писательским трудом над «сюжетами» – еще, и еще одно, письмо: «Милостивая государыня…». И в этом, и в сотом письме все те же «усталости от прогулок» – и почти ни полслова о подлинной причине усталости: «от сюжетов»…
…Нечто похожее видим потом в Чехове. Вроде бы ему уже нет надобности помнить о светскости подобно «барину Тургеневу», да и окружение вполне «демократическое», а все то же, шуточки, ужимочки, постоянный стол для бесчисленных гостей, а сам – без завтрака до трех; а там лишь чашка бульона – чтоб лучше работалось, и никаких серьезных, а лучше вообще никаких, разговоров о литературе… Заявится к гостям, рассеянно «пошутит», «поболтает», и незаметно исчезает: «Пойду, еще на пять копеек напишу!».
Какой легкий, какой милый человек Чехов! Пишет легко, никого не мучает жалобами! Ни о творческих муках, ни об усталости! Да! Ведь он, говорят, к тому же тяжело болен? Что врачи говорят?.. Ах, какие милые цветы в саду! Какой милый человек – Чехов! Прямо душой отдыхаешь возле него!..
А он душой отдыхал возле слова… «Отдых писателя»…
И все еще иным кажется, что писатели беззаботны к окружению, к отношениям с ним, что забота о «форме» – лишь в написанном, что в жизни все отношения, и деловые, и дружеские, и личные, все-все, складывается само собой, равно как с читателями, что писателю без усилий даются одиночество и сосредоточенность среди «толпы», среди «улиц шумных»… И вольно потом читателям (да и исследователям) толковать о причудах, нелюдимстве, высокомерии одних из писателей, или о радушии, непринужденности и гостеприимстве других…
Гоголь и Тургенев – некие писательские полюса писательского отношения к своему окружению. Пожалуй, каждый писатель представляется ближе то к одному, то к другому «полюсу»…
Эпистолярность – особая форма общения. Объем написанных писем, скажем, у Тургенева, у Чехова, потрясающ и чуть ли ни превосходит объем литературных произведений! Даже кажется, письма ими писались куда охотней, чем художественные произведения!..
Видимо, ошибочно будет так думать. Эпистолярность была, и у Тургенева, и у Чехова, частью общеписательского труда. Во-первых, письма осуществляли древний завет писателю – «ни дня без строчки». Во-вторых, похоже на то, что и Тургенев, и Чехов, смотрели на свое эпистолярное творчество как на средство удерживания на нужной высоте писательского мастерства. Ведь недаром, каждое письмо их – законченная литературность, подчас и – образцовая! Если для полных собраний сочинений других классиков приходится отбирать письма для помещения их в последних томах, ни Тургенев, ни Чехов не создают такой трудности для составителей их собраний сочинений. Эпистолярность продолжала их писательскую жизнь – по крайней мере со стороны литературного мастерства, чувства формы, свободы стиля, краткости и законченности. В этом была и повседневная школа мастерства и самодисциплины писательской, исключающей расслабленности во всем, вплоть до чисто графически-начертательной стороны письма!..
Гоголь, как потом и Лермонтов, не писал «светских писем», избегая и «светские адресаты»! Даже, когда писать надо было царю – Гоголь становился «неумелым письмописателем», перепоручая подобное Жуковскому. Писал письма лишь по своей писательской или человеческой (чаще бытовой) надобности. Писал тем, кому позволял себя считать «друзьями Гоголя». Но и в этих письмах, в отличие от Пушкина, не слишком помогал иллюзии дружбы, не скрывал своего одиночества, своих «необщих» мыслей… Лермонтов, сдается, не слишком всерьез принимает своих адресатов, чаще адресаток (Лопухина, Верещагина), «стальная прозаичность выражений» для него остается больше литературностью, тем же творчеством… В своих 50 письмах он все тот же единый, цельный, загадочный, без «перепада» из поэта и творчества в человека и бытовую или светско-ритуальную эпистолярность…
Сокровенный голос жизни
Народ называет поэта – певцом, а творения его – песнями. Просто и мудро, кратко и многозначно, в сравнениях и ассоциациях по поводу чего-то хорошо знакомого. Ведь кому не знакомы вечные понятия «певец» и «песня», синонимы духовных ценностей жизни?
Но разве это значит, что певец и песня его – простые явления? Может, привычные – но не простые! Привычные, если не вдаваться в их вечную тайну, доверчиво и целомудренно отдать им дань, «не посягая» на их духовную глубинную сущность…
Но – свойство духовного явления! – если к нему, к его тайнам отнестись без заносчивой и грубой нахрапистости, с уважением к его тайнам (как к природе, как к женщине!), мы не только не повредим ему, его духовной ценности, а достигаем здесь еще иные, как бы побочные, ценности, обогащая как само явление (наше представление о нем), так и свое душевное содержание!
И говоря о «простой тайне» певца и песни – мы, по меньшей мере, имеем в виду три ипостаси: мелодию, голос, смысл (слово)!
Так понимает поэзию – народ, когда говорит о ней: «певец», «песня». Мы же читаем тома поэзии, тома по поводу поэзии и почти нигде не задаемся трудом вникнуть в: а) в мелодию стихов (музыку, звучание слов, в музыкальный образ мысли); б) в голос стихов (интонацию, в эту самую, может, личностную данность произведения, имманентно-суверенную музыку – в музыке стиха), в душу – душ!
Мы обычно заняты лишь образно-понятийными задачами строк, логически-смысловыми связями, предметно-тематическими реалиями – и ничего более…. Может, мы слишком буднично читаем стихи?..
В лучшем случае мы «все остальное» в слове поэта поручаем подсознанию, чувству, настроению, не пытаясь эти восприятия сделать сознательными… Можно, конечно, услышать возражения, что-де и сам поэт (музыкант, художник) творят «большей частью» интуицией, подсознанием, не уточняя логикой тайну своего творчества.
Это, разумеется, неверно… Дело в том, что инстинкт художника не подспуден, не слеп, не дремотен! Он активен, он вещий, он входит в сознание, обогащает его, помогает ему, совершенствует его своим участием! Не это ли свойство инстинкта и отличает художника?
Поэт создает свою песню всем своим человеческим существом, будучи при этом, между прочим, и музыкантом (хотя не напевает свою мелодию, не выверяет на клавишах инструмента, не заносит на нотный стан), и живописуем (хотя не разводит краски, чтоб найти гармоничные нюансы на палитре, затем на полотне), все-все он достигает словом! Он инженер, зодчий, каменщик – и многое-многое другое!
Стало быть, мы все еще творчески не дозрели до поэта – в смысле сотворческого первоощущения его звука, слова, строки. Мы по меньшей мере теряем («неучтимость») музыкальную форму стиха-песни, теряем – полностью или частью – живописно-изобразительную, интимно-сокровенную интонацию, рождающую песню!
То есть, как читатели поэзии мы все еще остаемся на ее стихотворном уровне, на школярском суждении про «ладно» и «складно»…
В этой связи приведем слова Блока – о поэте («певце»), и о поэзии («песне»). «Умение писать стихи – нехитрое уменье. Научиться владеть размером – можно, писать грамотно и даже безукоризненно – тоже не ахти как сложно и трудно. Но не каждому дано – вернее, позволено – включиться в музыкальный ритм своего времени, исчезнуть в нем, раствориться и, растворяясь, говорить о том, что видишь и чувствуешь».
Иными словами – в стихе подлинного поэта музыкально-спрессованная сущность времени, которую читателю нужно услышать не только «аппаратом грамотности», но и вещей душой музыкального наития. Кстати, только так читатель обретет возможность различать подлинное слово поэзии от рифмованных поделок, пусть и «безукоризненных», как сказано о них у Блока…
Связь времен – гарантия от разломов духа – в подлинности как поэзии, так и в умении ее читать! В подлинности поэта и читателя, в их двуединстве. Задача эта несет в себе и глубокое народное начало. Блок писал, что лишь художник, родившись в своем же творчестве как «общественный человек», мужественно глядит в лицо мира.
«Творчество художника есть отзвук целого оркестра, то есть – отзвук души народной», – писал Блок. – Узкая, замкнутая художественная среда не может создать «артиста»; он рождается лишь в единении с народом… в процессе «революционных, народных, стихийных движений».
Поэт, стало быть, «всего лишь» тот, кому «позволено» (дарованием!) полностью «раствориться в музыкальном ритме своего времени». Он, ритм этот, знать, – по мысли Блока – наиболее проявляет себя в народных «революционных», «стихийных движениях».
Так Блоком – посредством музыкального ритма – установлено триединство великих явлений: народ, культура, поэзия! Проявление их неравновеликое в разные времена, но связь всегда – живая, органичная!.. «Слушайте музыку революции!» – говорил Блок современникам. Революции он обязан был своими глубочайшими прозрениями по поводу народа, поэзии, истории. Поэзии он обязан был самым глубоким постижением революции. Народу и России он обязан был – всем! И недаром он сознавался, что «Двенадцать» – лучшее из написанного им…
…И может, не было никакого «символизма», тем более «мистицизма», о которых почему-то принято говорить, «объясняя» дореволюционного Блока, а было долгое совершенствование музыкального слуха, отчаяние творческого предощущения, вещее и чуткое вслушивание в те сокровенные звуки из души России, которые во всю мощь грянули революционной бурей Октября?.. А эту редкостную музыкальность, редкостное умение слушать время – творчество, которое сам поэт сознавал, как «какой-то сон», который хотел бы «стряхнуть», чтоб «рассеять сумерки времен», все эти годы предчувствий – более, чем реальные для самого поэта («путь мой в основном своем устремлении – как стрела, прямой»), но непонятные современникам, и были ими названы в себе: «символизмом», «мистицизмом», «субъективизмом»…
Термины лишь обозначают явления, а не объясняют их. Термины могут быть эти – или другие, могут быть и не быть, но когда они случаются, объяснение могут получить лишь в самом поэте! Не потому так затруднены исследователи (так бережно лелеющие эти термины!) с «выводом» Блока – поэта революции – из Блока «символиста» и «мистического субъективиста»? Наконец, может, дореволюционную Россию, весь ее трагедийный уклад жизни, Блоку, с его совестью гениального поэта и жаждой гармонии, просто невозможно было принять реальностью, и она сознавалась лишь как «какой-то сон», отразившийся и в творчестве, в ожидании голоса главной песни родины: ее революционной бури?.. Десятилетия сна Ильи Муромца могли быть простой летаргией!
Все сказанное выше, возможно в ком-то родит мнение, что сложное миросозерцание Блока «позволяет» и такие догадки… Между тем, о редкостном чувстве реальности Блоком-символистом, чувстве прозорливой реальности, которое было ему присуще всю жизнь (хотя, именно из-за прозорливости сочтено было «удобней» отнести к «символизму», чем к реализму!), говорит, например, такая запись в дневнике (от 21 февраля 1914 г.).
«Опять мне больно все, что касается Мейерхольдом, мне неудержимо нравится «здоровый реализм»… В Мейерхольдии – тушусь и вяну. Почему они-то меня любят? За прошлое и за настоящее, боюсь, что не за будущее, не за то, чего хочу».
В формализме «Мейерхольдии» была революционная дерзость момента – но не было эпичности народного «здорового реализма»…