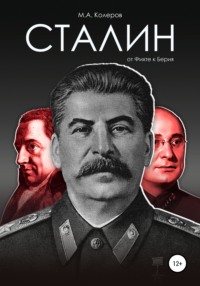
Сталин: от Фихте к Берия
В масштабной исторической перспективе Х. Зедльмайр формулирует мощный исследовательский миф, выбирая его кульминационной точкой Французскую революцию. Он пишет, как перед Французской революцией 1789 года, примерно в 1760 году, «разразилась внутренняя революция невообразимого масштаба», «чудовищная внутренняя катастрофа»: «сложившееся тогда положение дел не удалось преодолеть ещё и сегодня, – ни в области духа, ни в практической области». Катастрофа состояла в том, что на второй план в создании искусства и архитектуры ушли главные задачи искусства: строительство синтетически церкви и дворца-замка прежних эпох были заменены на тот момент более дробными и прикладными задачами: строительства ландшафтного парка, архитектонического памятника, музея, театра, выставки, фабрики. «В отличие от прежних общих задач, в отличие от замка и церкви, новые задачи уже не представляют собой гезамткунстверков, которые указывают изобразительным искусствам их прочное место и чёткую тему. (…) Ничто так не иллюстрирует характер [этой] эпохи, как эта триада: памятник – тюрьма – музей. Во времена Французской революции во дни государственных праздников монументализация охватывает и человеческие массы. Вокруг алтарного куба собираются в могучие геометрические блоки безжизненно застывшие войска и народ: впервые именно в режиссуре этих государственных действ подчинение человека толпе становится непосредственно доступным взору»67, пишет историк. Но наступил XIX век – и на волне мощной индустриализации в Англии, Франции, германских землях новый Gesamtkunstwerk стала являть собой индустриальная архитектура:
«В [18]30-е годы утилитарная постройка [фабрика] и жилище становятся на короткое время задачами, таящими в себе лучшие и самые свежие достижения, в 1830–1850-е появляются предмодерные масштабные постройки выставок и рынков – из железа и стекла, авторами проектов которых становятся архитекторы, родившиеся в первые годы XIX века и впитавшие с младенчества образ мира французской революции и Бонапарта. – и так до столетия революции – Всемирной выставки в Париже в 1889 году и строительства Эйфелевой башни. Проект культурно-промышленной выставки появляется как единый Gesamtkunstwerk. Вавилонское соревнование науки и техники с Богом становится в повестке дня: “В течение XIX века всевозрастающее вторжение техники в жизнь Европы и вызванное ею разложение привычной целостной картины мира постепенно привели к переживанию смерти Бога или, точнее, убийства Бога, совершенного новым технизированным человечеством”»68.
Здесь следует добавить, что Эйфелева башня, построенная к Всемирной выставке в Париже 1889 года, отмечавшей столетие Великой Французской революции и внятно конкурировавшей с выставкой 1851 года в Лондоне, могла толковаться не только как ответ на её «Хрустальный дворец» (о его присутствии в идейно-архитектурном контексте см. ниже), но и выглядела как завершённая до небес Вавилонская башня, основанная на мощном фундаменте.
В описании очередной модерной выставки, немецкой художественно-промышленной выставки в Дрездене 1906 года, русский экономист А. М. Рыкачёв (1876–1914) прямо вспоминал опыт лондонской выставки 1851 года, где, по его мнению, «коммерческие успехи молодой капиталистической промышленности стояли в печальном противоречии с качеством продуктов, с их эстетической ценностью». Теперь же, цитирует обозреватель участника выставки в Дрездене, производителя типовой массовой мебели, «мы должны вывести новый стиль мебели из духа самой машины». Несомненно, видя, но не произнося внятную аллюзию на «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше (1872), русский автор договаривает немецкого производителя и ставит культурную задачу: «Вывести новый стиль из духа машины»69.
Новый дворец
Важно, что одновременно с индустриализацией меняется представление о призвании архитектора и, значит, синтетического творца Gesamtkunstwerk: «Архитектор, который превратился в конструктора, хочет быть чем-то большим, чем просто конструктором зданий. Он становится реформатором жизни, реформатором-утопистом»70.
«Смерть Бога» делает необходимой замену религиозной санкции в деле утверждения целостности мира – на технократическую71. При этом зыбкость границ для творческого произвола – даже производимого на позитивной основе инженерной и технической мысли – ясно осознавалась и таким самостоятельно (в рамках коммунистического марксизма) мыслящим философом, как М. А. Лифшиц (1905–1983):
«Представьте себе, что перед нами не художник, а изобретатель. Он руководствуется принципом целесообразности. Это понятно. Но что если бы он однажды начал создавать не целесообразные конструкции, а те, которые соответствуют его эпохе… остаётся только неопределённость с одним критерием – не так было в другие эпохи». Здесь просматривается вопрос о стержне, критерии Большого стиля эпохи, лишённый ясности для М. А. Лифшица как антисталиниста:
«Возможно ли наше участие в эпохе? Почему так фатально? Чем руководствовались те, кто создал эту эпоху, которая подчиняет нас себе? Почему именно такой должна быть наша эпоха? (…) “культ” [Сталин. – М. К.] вынужден был бороться против своей исходной среды, которая сплошь пропиталась мелкобуржуазным “преображением жизни” (Город против крестьянского нигилизма, хотя и деспотически)… Государственный социализм Сталина как протекторат Кромвеля был более широким и прогрессивным (…) Нужно смотреть в корень явления, в истоки его, тем более, что так сейчас во всём мире. Отсюда это распространение модернизма, отсюда этот экзистенциализм, эта жажда свободы от “Man”. И оборачивается это потом тоталитарным Heimatkunst. Это, так сказать, возвращение блудного сына домой»72…
Создал ли евроатлантический индустриализм в целом свой особый Gesamtkunstwerk, которому наследовал Сталин? Или индустриальный Gesamtkunstwerk создал только Сталин? Был ли вагнерианский коммунистический проект «тотального искусства» – ядром сталинского проекта73? Как минимум, видно, что это индустриальное «тотальное искусство» было неотъемлемой частью индустриально-полицейской биополитики Просвещения и Нового времени, в недрах которых вырос, созрел и предельно инструментализировался язык коммунизма и сталинизма.
Уже в XIX веке индустриализм торжествует, распространяя свои претензии на ландшафт, а главными характеристиками новых утилитарных архитектурных мегаобъектов становятся, по словам Зедльмайра, «объединение пространства, единое пространство, подавляющее, чуть ли не космических размеров», «плоский свод, утверждение ширины». Но при этом, по мнению Х. Зедльмайра, в XIX веке отсутствует единый стиль, процветает «стилистический хаос»74… Gesamtkunstwerk Вагнера сам по себе не находит себе центрального образа в фабрике, а она не демонстрирует свои тотальные претензии на организацию не только искусства, но и жизни. Но уже первые аккорды советского коммунизма определённо вменяют вагнерианскому тотальному сверхтеатру, к которому автоматически апеллирует революционная интеллигенция, выросшая в культуре XIX века, именно сверхфабрику как главный экономический и технологический итог XIX века. Когда известный левый, но традиционалистски настроенный историк литературы П. С. Коган – президент РАХН (ГАХН), то есть настоящий генерал советской культурной и научной политики, – выступил с недостаточно революционной доктриной театра, он тут же – и что важно: изнутри глухой интеллигентской оппозиции Советской власти – был подвергнут критике за недостаточную радикальность программы. Вот что писал рецензент в известном органе литературной фронды:
«Заявляя, что “искусство должно стать ликующим трудом, а не развлечением” (стр. 42), П. С. Коган готов превратить театр в некую тоскливую артельную мастерскую в то время, как коммунистические идеалы говорят о фабриках-дворцах, стремятся облагородить повседневный труд искусством, стремятся ввести элементы искусства и красоты в весь будничный обиход человечества»75.
На смену феодальной Вавилонской башне дворца-замка, спасительно замыкающего в себе изолированное биологическое убежище Ноева корабля-ковчега и религиозное единство-убежище храмового ковчега (нефа), приходит агрессивно-индустриальное соединение ландшафта и ковчега – Вавилонская башня большого индустриального объекта, будь он выставкой или фабрикой (и «Титаника» – как индустриального ковчега). Х. Зедльмайр пишет: «Около 1900 года ведущей задачей становится “дом машины”. Впервые ведущие художники начинают оформлять гаражи, фабрики, вокзалы, позже аэровокзалы… На примере фабрики отчётливее всего прочитываются новые идеалы»: «единое пространство, только задним числом расчленяемом на составные части», «отказ от монументального», экономичность. И далее:
«Поколение [архитекторов], родившись около 1885 года, искореняет последние остатки монументального. Это поколение, уравнительски игнорируя сам предмет, переносит сформированный в утилитарном строительстве идеал на все без исключения строительные задачи: на жилой дом, театр, дворец, церковь. Внешне многие постройки теперь уже не отличить от фабрики». Эти «пространства, которые согласно своему существу предназначены для целостного человека, создать в качестве “целого” не удаётся… Они со всей определённостью требуют, чтобы человек преобразился настолько, чтобы мог соответствовать данной сфере машин. (…) Когда накануне 1900 года новые материалы, бетон и железобетон, соединились с “голыми” формами, всплывшими вначале во времена Французской революции, – именно тогда возникает тоталитаризм “нового строительства”. И этот тоталитаризм находит своё самое последовательное выражение в фабриках, гаражах, зданиях под офисы. (…) Кажется, что революция инженеров, направленная против архитекторов, целевого строительства против трансцендентных притязаний “искусства”, закончилась тотальной победой новых сил. Но это объединение было куплено ценой диктатуры одной сферы – сферы фабрики – и продолжением невыносимого насилия со стороны естественных требований отдельных задач, чьи материальные претензии исполнялись, в то время как потребности душевные и духовные оставались неудовлетворёнными»76.
Умеренный французский социалистический политик Поль Луи (1872–1955) так излагал синтетический проект «научного социализма» XIX века в образах индустриализма и резюмировал его «картину будущего»: «Машина освободит рабочего, которого она вот уже больше века порабощает… Машинное производство является для человека неограниченным источником богатств… Грохочущая машина, разрезающий морские волны пароход, испускающая огненные языки доменная печь, мерные шаги пролетариев, идущих на дымящие фабрики или спускающиеся в рудники, – всё это целиком поглощает внимание современного человека. Ему уж не приходится искать за облаками проявлений неземной воли»77.
Консенсуальный образ идеальной Машины как фабрики, завода, комбината может быть применён к исследуемой практике и как логическое фигуративное продолжение общемарксистских догм конца XIX и начала XX века о преимуществах крупного, коллективного, централизованного, сконцентрированного, часто – универсального производства, догм об абсолютном приоритете промышленности, именно тяжёлой промышленности, производства средств производства, технологически сложного производства вообще. «Государство-фабрика» – так резюмирует современный историк социализма78 экономический идеал будущего, созданный главным теоретиком германской социал-демократии Карлом Каутским (1854–1938), которому он следовал и после 1917–1918 гг. И этот идеал был для него – и для массового читателя его пропагандистских трудов, которым большевики остались верны даже после того, как Каутский отлучил их от марксистской ортодоксии79, – не только этатистским и производственным, но и едва ли не экзистенциальным:
«Мы знаем, что на поле труда, удобренном трупами миллионов пролетариев, взойдёт семя новой, более совершенной общественной формы. Машинное производство составляет почву, на которой вырастет новое поколение… Оно не будет рабом природы, каковым был человек в эпоху первобытного коммунизма… Нет, это будет поколение гармонически развитое, жизнерадостное, самодеятельное! Оно будет властвовать над землёй и всеми силами природы и будет объединять всех членов общества узами братской солидарности»80.
Тогда же Карл Каутский так описывал научный образ коммунизма, который на деле оказывается общим образом мира Просвещения:
«Лишь поскольку наблюдение природы становится завоеванием природы… И лишь по мере того, как растёт власть человека над природой, лишь по мере технического прогресса, расширяется также область научного исследования природы (…) Когда средства производства будут вырваны из праздных и бессильных рук капиталистов и станут общим достоянием всей нации, тогда на земле снова наступит счастье и мир для всех. Ибо общество подчинит себе производительные силы, как оно подчинило себе силы природы»81.
Если искать непосредственный образец для этой социалистической картины в исторических образах индустриализма как принципа организации природы, общества и труда, вырастающего из капитализма и преодолевающего его, то он выглядит гораздо привлекательнее и, главное, уже является готовым актом Большого стиля. Здесь следует воспользоваться путеводителем, который составил германский катедер-марксист Вернер Зомбарт (1863–1941). В истории социального движения в ряду крупнейших событий он назвал первую Всемирную торгово-промышленную выставку в Лондоне в мае – октябре 1851 года82, для размещения которой был – практически одновременно с манифестом Gesamtkunstwerk Р. Вагнера – построен из стекла и стали «Хрустальный дворец» (Crystal Palace. Лондон, Sydenham Hill, 1851: Илл. 1.), ставший началом и классикой индустриальной архитектуры и модерна, живым образцом промышленного Большого стиля, который очевидным образом архитектурно и, так сказать, утопически вдохновлялся знаменитым коммунистическим фаланстером Шарля Фурье (1772–1837)83, в котором уже было заложен принцип локального соединения труда и быта. Образцом Запада эта выставка стала и для первого манифеста русских славянофилов – в «Московском сборнике»84. А «Хрустальный дворец» – не только образцом индустриального модерного здания дворца, железнодорожного вокзала, универсального магазина, но и – в зависимости от политических предпочтений – символом прогресса85 —

Илл. 1. Дж. Пакстон. Хрустальный дворец (1851). Илл.: sil.si.edu
промышленного мира, капитализма или коммунизма. Американский эпический поэт Уолт Уитмен (1819–1892), откликаясь в своём сборнике «Листья травы» (1855), несомненно, на лондонский выставочный дворец «Песнью о выставке», развил его промышленный миф до мифа управления природными материалами в целом и соединении всех процессов этого управления в одном месте – нового Вавилона:
…О, мы построим здание
Пышнее всех египетских гробниц, Прекраснее храмов Эллады и Рима.
Твой мы построим храм, о пресвятая индустрия…
Я вижу его, как во сне, наяву (…)
Громоздится этаж на этаж, и фасады
из стекла и железа (…)
В стенах её собрано все, что движет людей
к совершеннейшей жизни, Всё это испытуется здесь, изучается,
совершенствуется и выставляется всем напоказ.
Не только создания трудов и ремесел,
Но и все рабочие мира будут представлены здесь.
Здесь вы увидите в процессе,
в движении каждую стадию каждой работы, Здесь у вас на глазах материалы будут,
как по волшебству, менять свою форму (…)
И это, всё это, Америка, будут твои пирамиды и
твои обелиски, Твой Александрийский маяк, твои сады Вавилона, Твой Олимпийский храм 86 .
Даже либеральные критики консервативных тенденций как архаических внутри капиталистической, всемирной и интернациональной современности мыслили в привычном сопоставлении символов индустриализма с Вавилонской башней. Критик русской консервативной реакции в лице авторов сборника «Вехи» (1909) П. Н. Милюков (1859–1943) пытался дискредитировать этим сравнением новых консерваторов: «они возвели свой небоскрёб. Небоскрёб оказался, при ближайшем рассмотрении, Вавилонской башней. (…) Проверка всей этой ультрамодерной постройки обнаружила под ней весьма устарелую и заплесневевшую модель»87. Но такой Милюков в культуре своего времени был одинок.
Известный революционно-консервативный критик одновременно либерализма и интернационализма – в воспроизводстве «вавилонского» мифа был более точен и в своей проповеди континентального национализма отталкивался от более общепризнанного понимания Вавилона. Идеолог-основатель евразийства Н. С. Трубецкой (1890–1938) формулировал такую радикальную дихотомию под стать отвергаемому им большому стилю и вселенскости христианства в пользу неофитского этнофилетизма: «интернациональная культура eo ipso безбожна и ведёт только к сооружению Вавилонской башни; множественность языков (и культур) установлена Богом для предотвращения новой Вавилонской башни; всякое стремление к нарушению этого Богом установленного закона истории – безбожно; истинные духовные ценности может творить только культура национально-ограниченная; христианство выше культур и может освящать любую национальную культуру, преобразуя её, но не уменьшая её своеобразия; как только в христианстве начинает веять дух интернационализма, оно перестаёт быть истинным»88.
Дворец-казарма
Один из первых систематических трудов по истории советского коммунизма как политико-экономического режима и идеологической практики, оставшийся, однако, вне должного внимания мировой историографии, поскольку вышел в свет уже после пика послевоенной антисталинской литературы и одновременно с началом продвижения на Западе «теории тоталитаризма» К. Фридриха и З. Бжезинского (1956), в своей детализированной критике «тоталитаризма» как самозарождённого зла невольно и анонимно затронул и его общие модерные основания, когда апеллировал к авторитету Ф. М. Достоевского. Авторы из круга профессиональных антикоммунистов периода «холодной войны» США против СССР – русского эмигрантского Национально-Трудового Союза (НТС) – писали: «Великий защитник свободы человека, провидец большевистской революции – Достоевский с ненавистью именовал эту утопическую картину [коммунизма] “муравейником”, “хрустальным дворцом”, “многоэтажным домом с квартирами для бедных жильцов”…»89. Критики советского коммунизма явно – к позору своему – упустили, что писатель образом тогдашнего общеевропейского проекта коммунизма избрал «вавилонский» по масштабу и духу именно британский апологетический по отношению к «свободе торговли» и капитализму «Хрустальный дворец». Достоевский вспоминал о своём посещении Лондона и вавилонских коннотациях этого «Хрустального дворца» именно как о торжестве капитализма90:
«буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка… Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, “едино стадо”. Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся»91.
А вот гуру русской «революционной демократии» Н. Г. Чернышевский (1828–1889) одновременно, в 1863 году, в своей картине антикапиталистического будущего изобразил именно символическую «копию» этого Хрустального дворца:
«…ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри. Здание, громадное, громадное здание (…) что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намёк на нее, – дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло – только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, – а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены – будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же (…) Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. (…) И повсюду южные деревья и цветы; весь дом – громадный зимний сад. Но кто же живёт в этом доме, который великолепнее дворцов? (…) По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. (…) Почти всё делают за них машины…» 92
И именно на этот коммунистический проект, равно эксплуатирующий и присваивающий образы коммунистического фаланстера и капиталистического «Хрустального дворца», затем отреагировал Достоевский, когда в следующем, в 1864 году писал:
Тогда-то, – это всё вы говорите, – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец… (…) Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? (…) Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить» 93
Так Достоевский придал – специально для России – коммунистическому мифу образ высшего достижения современного индустриализма, осудив таким образом коммунизм как естественный плод капитализма – вместе с его истоком. Антикоммунисты из НТС, видимо, не входили так глубоко в детали истории образа, а опирались не на источник, а на хрестоматийно известный труд неонародника Р. А. Иванова-Разумника (1878–1946), в котором тот, выступая в защиту своего индивидуалистического учителя Н. К. Михайловского от коллективистского марксизма писал, что для первого важнее личность сейчас, а для второго – класс и человечество завтра:
«Конечная цель марксизма – это грядущий рай на земле, этот тот Zukunftstaat, который Достоевский называл “Хрустальным дворцом”…» 94
В романе-утопии врача-исследователя, философа, большевикапрактика и основателя системы пролетарского классового искусства «Пролеткульт» А. А. Богданова (1873–1928) «Красная звезда» (1907) дано описание гигантского коммунистического города-завода, которое близко следует образу лондонского «Хрустального дворца» и его отражению в романе Чернышевского «Что делать?» – это многофункциональное, многоуровневое (многоэтажное) строение из стекла и металла95. А в столь же фантастическом рассказе «Праздник бессмертия» (1914) Богданов вскрывает «вавилонский» масштаб подобной постройки: «На месте городов сохранились коммунистические центры, где в громадных многоэтажных зданиях были сосредоточены магазины, школы, музеи и другие общественные учреждения». А один из руководящих героев этого рассказа продолжал множить эти циклопические образцы и был «занят сооружением грандиозной башни, величиною с Эльбрус»96. Именно в «городов вавилонские башни» помещает себя герой поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» (1915).
Современный российский теоретик географии обнаруживает в организации и централизации любого «культурного ландшафта» доминанты, которые символически рифмуются с образом Вавилонской башни: узловыми районами такого ландшафта – крупные города (агломерации) и горы. Он пишет: «Города создают вокруг себя зоны и предпосылки сгущения жизни. Горы создают у своих подножий особые условия для биоценозов». И вместе они создают то, что географ называет «большим стилем ландшафта»97. Библейский образ Вавилонской башни в массовом сознании, несомненно, был, прежде всего, образом (почти построенной) гигантской Башни как целого изолированного мира, отдельного города98, а не символом Божьего гнева и разноязычия, уничтожившего строительство. Именно такова известная Вавилонская башня у Брейгеля. И в советском массовом сознании она рифмовалась с родственным образом из русского народного сознания, в котором сказочно фигурирует посреди моря Рыба-Кит («чудо-юдо рыба-кит»), по описанию П. П. Ершова (в «Коньке-Горбунке», 1834), на спине кото- рого выросло целое село, окружённое пахотными землями99.