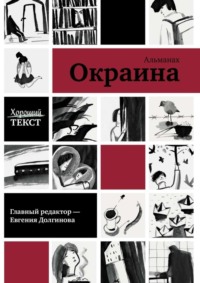
Окраина. Альманах
Однако та уже взяла себя в руки.
– Так. Никто никуда не уходит! И мороженого – убийственный взгляд на Королевича – не ест! Через час жду всех на сцене. Прогоним ещё раз спектакль. Ключевые моменты. Грим потом.
В своём номере набрала Кобрина.
– Семён. Ты ведь местных артистов знаешь? Мне нужен толковый парень, способный связать пару слов и не стоять на сцене столбом.
…
Королевич смотрел спектакль из зала, первый и единственный раз. Ему было стыдно за мороженое – вот ведь, не удержался… И он сначала даже не понимал, что говорят: мучился, что всех подвёл. Казалось ему, что сейчас на сцену, где должен стоять он – он, Королевич! – просто никто не выйдет и там, где были его слова, поместится тишина. И все – Люба, Соня, Сеня, Сергей Павлович – будут смотреть на него молча, и тогда он заплачет от стыда и умрёт на месте… Но вышел кто-то, вдруг взял и вышел. Это был незнакомый кто-то, первый раз в жизни видел его Королевич, но он говорил правильные слова – Королевич шептал их беззвучно со своего одиннадцатого ряда. Нет, нет, всё получилось хорошо, не пропал спектакль, и можно было не бояться. Он ещё поводил глазами туда и сюда: не заметно ли кому-нибудь в зале, что на сцене не тот человек?
Но все сидели спокойно. Слушали.
Королевич тоже стал слушать.
И вдруг провалился в историю.
Исчезли Люба и Сеня – теперь это были Елена Андреевна, доктор Астров… Соня исчезла, оказалась совсем незнакомой девушкой. Так жалко было её! Так всех их было жалко!
А потом это случилось. Соня подошла к краю сцены и заговорила, глядя прямо в глаза Королевичу.
– Что же делать? Надо жить…
Жизнь не обещала ничего хорошего, и по щекам Сони текли слёзы: ах как же долго ещё придётся жить, как долго! Трудиться для других, и теперь, и в старости, не зная покоя. Ничего не ожидая для себя.
И ужаснулся Королевич. А ведь и правда… Ничего нет в ней, в жизни, хорошего…
Он даже не понял, почему вдруг вскочили люди и начали громко хлопать. Таращился бессмысленно вокруг. Не замечал собственных слёз, которые провели по его щекам дорожки. Только удивился потом: почему-то стал мокрым уголок воротника рубахи.
…
В комнате для обсуждений были не разговоры даже – шипение.
– Конечно, ей дадут гран-при! Ей же сто лет в обед, это, может, её последний спектакль, вот из жалости и дадут…
Появилась Фомина, сопровождаемая Сергеем Павловичем и Соней, – шипение стихло.
Соня быстро потеряла надежду услышать что-нибудь толковое: слово давали всем, кто просил, – а просили почему-то вовсе не те, кого хотелось послушать. Например, дама в зелёно-фиолетовом костюме выступила с нелепой претензией:
– Скажите, почему ваш Сазонов так отнёсся к девочке? Он что – фашист?
Другая дама, с брошью, ядовито хвалила не режиссуру, а актёрскую игру:
– Какая ваша девочка молодец! У неё же слёзы ручьём лились! Просто диво дивное, а не актриса – где вы её откопали?
Со слезами получилось вот что.
Соня, в ожидании своего выхода, стояла за кулисами и смотрела на Сазонова, который как раз отыгрывал сцену с Любой. Ей, по-хорошему, не обращать бы ни на что внимания, о своей роли подумать, как учила Римма Васильевна, собраться, вжиться в образ, в предлагаемые обстоятельства, – но это было выше Сониных сил. Так красив был Сенечка в белом костюме, у него так блестели глаза!
– Милый пушистый хорёк, – сказал он Любе, схватил её, обнял – и впился поцелуем прямо ей в губы, и у Любы подогнулись колени.
Соне хорошо было это видно.
Так что не диво, что слёзы потекли ручьём во время последней сцены. Диво, что она до этого сумела от них удержаться.
Фомина ничего такого не знала, конечно. Но была Соне от души благодарна: это и есть настоящий театр! – живые эмоции, живые глаза, тепло друг друга чувствуешь, энергетику друг другу передаёшь… Человек рассказывает историю для человека.
В этой постановке она сознательно превратила зрителя в главное лицо, в участника событий. Актёры подходили к рампе и смотрели ему в глаза, и его спрашивали, и ему жаловались – и не отпущенный даже на антракт зритель начинал думать: а я-то что ж? Я такой же, у меня – так же… И уходил задумчивый, и завтра на работе вдруг на какой-то вопрос ответит он чеховским: пропала жизнь…
…
…Жизни было жалко.
Обида до слёз, обида маленького ребёнка! – что вы мне подсунули?! У других вон как, а у меня что? Так бывает, когда хотел один подарок, а подарили другой – швырнуть его в угол! Не хочу! Не надо мне! Хотелось прыгнуть, взлететь, умчаться отсюда! Туда, где небо в алмазах… А ведь правда.
Он немного успокоился.
Есть же небо в алмазах… И ангелы… Как хорошо, что есть.
Ангелы ворковали на краю крыши. Он подошёл к ним поближе – они порхнули и полетели.
И он, не раздумывая, полетел с ними.
Вот только голоса не было, чтобы крикнуть и попрощаться.
4.
– Наливай, – распорядился Вовка. – Прикиньте, у меня начальник, когда командировку подписывал, говорит: «Я, Владимир, очень одобряю, что ты ходишь в театр. Вот не ходил бы в театр – по-любому бухал бы!»
– Ф-фуу! – выдохнул Сеня. – Я уж не ждал, что мы это сыграем. Где там наш отмороженный, кстати? Что-то не видать его.
– Да уж, Вадик выдал…
– Но пацан, кстати, ничё так вписался! Как его – Максим? Откуда он, вообще?
– Римма Васильевна нашла в местном театре.
– А чего он не с нами-то, давайте позовём!
Заглянула Фомина.
– Много не пейте, дети. Завтра на вручении гран-при все должны быть свежими и красивыми. Сеня, постарайся не заработать второй фингал.
– А вы, Римма Васильевна? Посидите с нами!
– Нет, мне надо к Кобрину. Звонил, умолял зайти…
…
– Римма, меня поймали! – Кобрин кивнул в сторону невысокой девочки с рыжими волосами. – Я уже обещал прелестному созданию двадцать минут своей жизни…
– Ничего-ничего! Я подожду.
– Садись. Это, понимаешь, газета фестиваля, они тут имеют полное право на всех и на всё… Хорошо, что среди ночи меня не разбудила! Хотя я, может быть, это предпочёл бы… Так. Что ты там меня спрашивала – про театр?
– Про его место в жизни… – бойко повторила рыженькая. – Он ведь огромное место занимает в жизни общества!
– Огромное? Вот тебе точная цифра: театр посещает четыре процента населения. В любом месте это так. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Москве. Четыре процента! Так что театр – нечто очень маленькое внутри жизни общества. Другое дело, что признавать это неохота…
– А любительский театр, получается, совсем уж маленькое тогда… – расстроилась девочка.
– Подожди, тут не так просто. Вот мы все привыкли к понятию «градообразующее». Это нормально, когда говорят, например, – тут Кобрин бросил на Фомину цепкий взгляд, – что электростанция – градообразующее предприятие Бельска. Но есть ещё понятие «культурообразующее». И с этой точки зрения значение электростанции и значение, скажем, театра «Гамма» абсолютно для Бельска идентично. Уберите вы группу этих людей, которые занимаются полной ерундой: играют то Бунина, то Островского… Вопрос: что изменится? Ответ: вроде бы – ничего… Но через какое-то время вы поймёте, что изменения всё-таки происходят. В городе появляются лишние наркотики, возникают убийства на бытовой почве… Почему так получается, какая связь? – объяснить невозможно. Почему, когда на полке лежит книжка, она меняет атмосферу в доме, даже если её не читают?.. Думает ли о таких вещах Фомина? – ни секунды. Она занимается своим театром. Думает ли об этом Сазонов? – ничего подобного. Он стоит на сцене, у него на морде просвечивает фингал, и он безбожно перевирает Чехова. Но объективно ситуация именно такая: на сегодняшний день «Гамма» – не просто театр.
Фомина отвернулась и украдкой глотнула из фляжки. Ну, Семён… Ну, Семён!
– Твой спектакль лучший, Римма, – сказал Кобрин после того, как рыженькая ушла. – Это, без преувеличения говорю, шедевр. Я плакал сидел – а сколько раз я Чехова видел? И конечно, гран-при надо отдавать тебе. Но у нас, понимаешь в чём дело, случилась беда. Беда с вашим Вадиком. Его только что, Римма, отскребли от асфальта. Так, спокойно. Спокойно. Фляжка, я так понимаю, как всегда, в сумке? Дай сюда. Вот, глотни. Ещё раз! Тут уже ничего не поправить, а всё, что нужно сделать, будет сделано. Сейчас мы договорим о наших незначительных делах и пойдём. Я буду с тобой, не переживай. Так вот. Ты понимаешь, что в этой ситуации гран-при вам давать нельзя. Иначе такой вой поднимут – не отмыться. Шум этот вокруг вас, вокруг фестиваля, не нужен. Поэтому приз дадим не вам. Пресса налетит не на вас. И есть надежда, что шума не будет. И спасибо вашему Вадику за то, что он хотя бы сиганул не с крыши гостиницы. Всё, что мы можем, это дать приз вашей девочке – за лучшую женскую роль, чтоб не так обидно, тем более, что девочка действительно годится.
…
Выпили не чокаясь.
Формальности были позади. Билеты поменяли. Точнее, Фомина поменяла свой.
– Поезжайте, дети. У вас дела, семьи. А я буду сопровождать… Вадика.
– Дела подождут, – сказал Сергей Павлович. – Я останусь.
– Я тоже, – буркнул Маслов.
– Нет, Серёжа. Вова, нет, спасибо. Я справлюсь сама, мне Семён Петрович поможет. А ты, Сергей, пожалуйста, когда приедешь, найди его родных… Мама там давно умерла, но есть брат двоюродный… Надо сообщить.
Налили по второй и снова выпили, молча.
В голове не укладывалось.
Поэтому налили по третьей.
После четвёртой Сазонов вылетел на улицу и принялся дубасить стену гостиницы. Оглянулся на выскочившую за ним Сонечку:
– Что хочешь думай! Урод я? Да, я урод! А этот мудак – слабоумное дерьмо! Лучше-то ничего не придумал! Тоже мне, Мартин Иден! С крыши бросаться!
– Мартин Иден бросился в море, – машинально поправила Соня.
– Да! Девушка, вы такая культурная, не подскажете, как пройти в библиотеку?! Нет, ну какая сволочь! Сволочь!!
Фомина ушла к себе. Легла на кровать прямо в парадной одежде. Лежала, думала: … что же ты натворил, Вадик… Это – всего лишь театр.
А потом тихонько постучалась к ней Соня.
…
– Римма Васильевна… я ведь педагог… Я про это всё знаю. Скажешь одно слово – одно случайное, неверное… А человеку потом жить с этим…
Полились слёзы. Как же легко теперь лились слёзы.
– Или не жить… – договорила за неё Фомина.
– Или… не жить… – с трудом повторила Соня. – А мы, получается, в ответе. Я в ответе. Это он, наверное, из-за меня, из-за этих слов в конце…
– Так! А ну, молчать! Сопля!
Соня уставилась на Фомину большими глазами.
– В ответе она! Да ты за себя саму не можешь быть в ответе! Что у тебя с Сазоновым? Яйца крутишь парню? И хочется и колется? Эгоист он? Эксцентричный слишком? Не понимаешь, нужен тебе такой или нет? А когда поймёшь – года через два?
Соня вскочила.
– Сидеть! Страшно ей… Всё страшно. Жить – страшно. Любить – страшно. Прикасаться друг к другу – страшно! Мыслить, по-настоящему мыслить, – тоже страшно! Думаешь, что за люди тут собрались? Почему, как все, не сидят с пивом перед телевизором? Потому что живые! Потому что думают! Чувствуют что-то! А ты – сопля! Бревно! Жизни боишься! Сидеть, куда пошла!
Потянулась, стащила со стула сумку, достала фляжку. Разлила в гостиничные стаканы последнее.
– Пей.
Соня послушно глотнула.
– Он… не только эгоист, Римма Васильевна. Пьёт много. Бабник. Я видела, как он с Любой целовался!
– Это шестьсот человек видело… – Фомина проворчала. – А что тебе любовь – орден, что ли, только за подвиги награждать? Тут уж на кого бог пошлёт… Судьба.
Она тоже сделала глоток.
– И театр – это судьба, Соня. Кого-то убивает. Обычно не зрителей, конечно… Но Вадик был особенный, ты знаешь. Может быть, мне не надо было его в труппу принимать. Я не педагог. Не дефектолог. Я не знаю, как действует искусство на такие вот… души. Искусство действует! Понимаешь? Искусство! Не ты. Не я! Ты – провод, по которому этот ток бежит… И я – провод. Вот он встретился с искусством – и не пережил. Но встретился! Смог! Посмотрел в глаза! Что-то почувствовал! Не все на это способны. Допивай.
Фомина подвинула Соне початую плитку шоколада.
– Риск есть, конечно… Но люди приходят к нам – и просыпаются. Спящие просыпаются, бессловесные – говорить начинают… Их тут много таких. В таких вот вшивых городишках. И куда им идти? Кто им что покажет? Да и захочет ли ещё он, такой, пойти-то, когда у него душа – не развита? А вот на соседа посмотреть, на собутыльника посмотреть – захочет! И придёт в театр, в наш театр придёт, где этот его сосед-собутыльник играет! А там что-нибудь и поймёт, глядишь.
– А вам, Римма Васильевна, не обидно, что гран-при теперь не дадут?
– Знаешь, Соня, мне достаточно того, что Семён сказал. А он сказал – мы лучшие. И хватит.
«В конце-то концов жизнь сложилась как надо, – думала Фомина. – Долго ли бы я в той же Москве продержалась? Да меня б там сожрали мои амбиции. Я бы там жопу порвала на германский крест, чтобы стать лучше всех. И всё равно не стала бы, потому что невозможно это: там все разные, а лучшего – нет. И с моим темпераментом валялась бы сейчас где-нибудь в Склифосовского… А Семён всё правильно сказал. В Бельске я на месте, и дело моё там – большое. Ну, а что в режиссуре я кое-что понимаю, это вот даже Вадик доказал».
Эх, Вадик, Вадик…
…
Гроб прибыл закрытый, оно и понятно.
Народу было немного, и это тоже было понятно: родных у Королевича пшик, а друзья… какие у него могли быть друзья?
Стоял в стороне какой-то парень, руки в карманы, щека оттопыривается, как будто за ней леденец. За спиной гитара. Петь он собрался тут, что ли?
Ирина Каримова – кто-то позвонил ей – пришла, прятала лицо на груди Сергея Палыча, ревела тихонько.
У Любы лицо тоже было в слезах.
Соня не плакала. Рядом с ней стоял Сазонов.
И цветы, цветы… гроб утопал в них.
– Как на премьере… – прошептал кто-то.
– Спасибо, дети, что пришли, – сказала Фомина. – Простимся с Вадиком. Он был светлая душа, и умер светло. Все люди покрыты коркой. Толстой коркой… Не прошибить. А он был – без кожи.
Под эти слова гроб опустили в землю.
Поставили крест, укрепили фотографию.
С фотографии застенчиво смотрел Королевич.
Был он не похож на себя настоящего, точнее на себя живого, потому что кто ж знает, удаётся ли нам при жизни стать настоящими? Может, это возможно только после смерти? Потому что смерть, как ни крути, подводит черту. И если человек – это парадигма всех своих мыслей и поступков, от начала сознательной жизни до её конца, то только после смерти и можно сказать, кто он, собственно, был такой. Потому что при жизни – он не перестаёт меняться…
С другой стороны, после смерти его уже нет среди нас, есть только память о нём. А память – избирательна и лукава. Память приукрашивает или чересчур очерняет. Память изобилует лакунами, а иногда хранит то, чего и не было вовсе. Иными словами, она – тоже искусство.
Теперь Королевич принадлежал искусству полностью.
Когда-нибудь ему будет принадлежать и она, Римма.
…
– Римма Васильевна… – Каримова с зарёванным лицом подошла к ней. – Я понимаю, что сейчас не очень удачный момент… И много всякого было между нами… Но я хотела бы вернуться в театр.
– Конечно, моя девочка. Конечно.
…
Соня и Сазонов шли рядом.
– Фигня какая-то получается, Сонь… – сказал Сазонов. – Уж слишком мы разные.
– Да уж. Ёжик плакал, кололся, но всё-таки лез на кактус…
– Ну уж нет! Если мне будет плохо – я уйду! Я вот с этим, что ты говоришь, не согласен!
– Может, потому что ёжик – это я?
Сазонов ухмыльнулся, привлёк к себе Соню и поцеловал в макушку. Как он это сделал, неясно: они ведь были одного роста.
Солнце выскользнуло из-за кладбищенских берёз, свет охватил их. В воздухе носились пушистые семена иван-чая.
Екатерина Михалевич

Евгения Долгинова: «Блестящий рассказ. Екатерина Михалевич, предприниматель из Минска, пишет жёстко. Удар у неё мужской, короткий, наотмашь: накануне Вена, просекко, сверкающий внедорожник, всемогущие кредитки, – а сегодня пруд, крест, мост и от судеб защиты нет. Дистанция между сияющими бра Захер-кафе и пасмурным восточноевропейским постапокалом ничтожна.
Это и в самом деле история о преобразовании материи – или, если угодно, о невозможности смерти, о невозможности отменить человека. В мире богооставленном, или отринувшем Бога, что, собственно, одно и то же, тоска по бессмертию лишь обостряется. Автор выстраивает блестящую смысловую инверсию: свежий вдовец – экономист-материалист – ждёт утешного церковного слова, а священник задумчиво бормочет о языке кварков, частиц, энергетических переходов и отсылает за утешением к Хокингу, этому апостолу сциентизма. Но именно в этом смешении духовного и предельно материалистичного, небесного и земного может прорасти предположение, что и вправду ничто никуда не может уйти просто так. Что «энергетические переходы», может быть, и есть чудо воскресения. Ничто не утешает, но надежда на вечную встречу существует – по крайней мере, пока. Пока в этом смутном мире, занятом бесконечным самоопровержением, остаются крест, пруд и мост».
Преобразование материи
– Что-то мне нехорошо, – были её первые слова.
– Слишком много просекко, дорогая. С утра было лишним, нет?
– Мммм… венский завтрак, классика. Который час?
– Лучше спроси, какой день. Уже утро, Марта. Ты спала весь день и всю ночь.
Они ехали по кривоватой пустынной дороге. Бортовой компьютер показывал +19 внутри и +14 снаружи. Вокруг виднелись уходящие в туман мутно-бежевые поля с одинокими тёмными деревьями, как на детском рисунке: ствол и круглая крона. Дубы? Липы? Шёл мелкий дождь.
– Какая унылая местность… Где мы?
– Не забивай себе голову деталями.
– Очень смешно. Голова болит, кстати. Мы уже прошли границу?
– Ты её проспала. Я же говорю, это всё шампанское.
– Я попробую отгадать страну по указателям. Вот какой-то… Что за загогулина? Смешная буква какая.
– Пока нас не было, тут наплодилось разных стран. Придумали себе языки. Действительно смешно.
– Не будь снобом, Боб!
– Не будь Бобом, сноб! Я не виноват, что маленькие, но гордые государства вместо того, чтобы сделать нормальные дороги, рисуют закорючки на буквах, чтобы не было похоже сама знаешь на что.
Руки Боба лежали на руле в щёгольской кожаной оплётке. Машина неслась, мягко подлетая на неровностях дорожного покрытия. Справа вдалеке показались размытые пеленой крыши домов – какое-то поселение.
– Боб, жуть какая, а представь, что мы бы тут жили. Лужи, тоска, автолавка два раза в неделю…
– Ты родилась в мегаполисе и в пять лет переехала в мегаполис же! Что ты можешь знать про автолавки?
– В мегаполис Ж из мегаполиса М. Бабушка рассказывала. В её детстве летом в деревню приезжал грузовик с продуктами. Тушёнка, хлеб кирпичиками, килька в масле и в томате.
– Я бы сейчас бутерброд с анчоусами навернул.
– Сам ты анчоус, килька – совсем другая рыба.
– Килька – это шпрота.
– Оооо… Это лакшери вариант! Шпроты в те времена давали только в спецзаказах.
Они проехали мимо автобусной остановки. Столбы, покосившийся козырёк. Рядом на горке деревянная инсталляция: огромный гриб с крашеной в красное шляпкой. На шляпке белые неровные круги. За грибом чуть дальше деревянный же заяц, не меньше двух метров в высоту, вполовину выше гриба. На круглой морде выделялись смело намалёванные бело-красные глаза. Видимо, другой краски у авторов не нашлось. Обе скульптуры не выглядели свежими – дерево порядком почернело.
– Господи, – Марта потрясла плечами. – Хочу это развидеть.
– Что за новояз, – поморщился Боб, – тебе не идёт.
– Какие мы нежные снобы-бобы! Слова не скажи. А вот гнать не надо, это же населённый пункт.
– Кого я тут могу задавить? Курицу? Людей вообще не видно.
– Мало ли ребёнок выскочит. Ещё мне нужна аптека. Поезжай медленнее.
– Я могу как лимузин катить со скоростью 10 км в час, но аптеки здесь точно не будет.
– Где-то же они покупают себе лекарства?
– Автолавка привозит.
– Не смешно. Голова раскалывается и мутит, мутит…
– Потерпи. Я рассчитываю к вечеру приехать в цивилизацию. Переночуем, отдохнём, за завтра сделаем все дела, отметимся с родственниками и назад.
– Кстати, какие тут деньги?
– Какое это имеет значение в век электронных платежей?
– А вдруг они не принимают карты?
– Да, и отправляют сообщения по телеграфу. Телетайпу. Завтра, завтра же вечером уе… уедем обратно.
– Не понимаю, как ты можешь сутками не спать.
– Ненавижу остановки в жопах мира.
Они продолжали ехать, пейзаж не менялся, дождь не прекращался и не усиливался. Боб попробовал включить радио, но ни одна нормальная станция не ловилась. Какие-то взвизги, треск и периодические заклинания диктора драматическим полушёпотом с присвистом. Сигнал сотовой связи был слабый, как придушенный, зато навигатор исправно рисовал красную линию маршрута, что, впрочем, было не так важно, потому что дорога теперь вела всё время прямо.
Марта завозилась, пытаясь найти в бардачке лекарства, Боб щёлкнул переключателем освещения в салоне.
– С ума сошёл! Выключи! Прямо в глаза.
– Просто хотел подсветить.
– Пожалуйста, не надо, и так режет…
– Дай-ка лоб, да у тебя температура!
Марта откинулась на спинку сиденья.
– Может, мне лечь сзади?
– Там не так много места. Это тебе не семейное авто папочки.
– И очень жаль. Нам бы сейчас не помешало.
– Станем старпёрами, будем ездить на таком.
– И кому здесь нужны твои триста лошадей?
– Могу выжать 150 миль, но тогда мы оставим подвеску в этой деревне. Оторвёмся через 300 км, обещают автобан, ну в местном понимании этого слова.
– Надо было лететь на самолёте.
– И торчать там весь уикенд? Спасибо, нет. И так идея маман с семейно-объединяющей встречей на кладбище, мягко говоря, напрягла.
– Так отказался бы.
– Очень остроумно. Ха-ха. Ты хотела проехаться по Европе? Наслаждайся.
– Теперь мне хочется умереть.
– Марта, камон. Мы с тобой гоним на супертачке, молодые, наглые, можем за содержимое отделения для мелочи наших кошельков купить всю эту деревню с её коровами и курами. Что-то она, курва, никак не закончится…
– Останови.
Автомобиль мигнул стоп-сигналом на элегантном изгибе багажника. Остановился у развилки. Дорога как раз неуклюже вильнула, намереваясь обогнуть жидкую берёзовую рощу, но не решила, с какой стороны это лучше сделать. На месте поворота образовалась лужа, в которую и вступил, выходя, Боб.
– Шит, мои мокасины, – он обошёл машину сзади, высоко поднимая ноги в коротковатых льняных брюках, и открыл пассажирскую дверь.
Марта сидела не двигаясь.
– Ээээ, старушка, ты чего? Совсем сплохело тебе? К врачу срочно? Сириёз?
Марта молчала.
– Вот же, блин… попробуй тут теперь… угораздило… а если и правда карточки не берут… и страховки международные… дикость какая.
Боб бурчал себе под нос, крутил руль, выворачивая колёса из лужи, и чувствовал, как ползут за шиворот идеально отглаженного поло «ла коста» холодные гусеницы пота, гадость.
Марта тяжело дышала, глаза закрыты, на лбу испарина.
– И где тут… – он потыкал пальцем в экран компьютера, – серч ниабай… медсин, хелфкэр, чёрт, чёрт, да что ж такое!
Впереди показалась тёмная фигура, Боб затормозил. Спустил стекло со стороны Марты. Старик в брезентовом дождевике стоял, опершись о самодельную палку-трость.
– Скажите, пожалуйста, где тут больница? Старик молчал. – Простите, врач… нам нужен, врач… ей нужен. Старик заглянул через окно, посмотрел на Марту, осклабился, будто увидел знакомого. – Это ничто, – сказал, – ничего. – Что ничего, старый пень, доктор где тут у вас? Крестьянин моргнул, почесал тёмным пальцем около носа, поправил капюшон. – Док-тор! Ме-ди-цин! Старик махнул рукой в сторону леса. Боб резко нажал на кнопку стеклоподъёмника. – Болван какой-то!
Ещё через триста метров опять нажал на тормоз. Крупная молодая женщина с большой сумкой переходила дорогу возле остановки, помахала ему рукой. Опять отъехало вниз стекло. – Доброго дня, как поживаете? Женщина смотрела приветливо. – Да вот, врача ищем. Нет, ничего не случилось, просто плохо стало человеку… вот ей. – Лекаря ищете? Я вас тут не видела раньше. А панна была… – Что за вздор, мы тут впервые… проездом. – Но… не знаю, – задумчиво сказала женщина, – хлопец-то иной был, а вот она точно, не спутать, родинку я запомнила. Она спит? Болеет? Это ей помощь? А что вам дедушка Петрович сказал? – Тот с палкой? Ничего толком, а вы не знаете, где здесь больница? – Как не знать, у меня сестра там работает. Отсюда километра три напрямки, а по дороге все семь. Надо через мост и там свернуть за пристанком – как этот! автобусный! и ехать просто, смотреть: как будет крест, сразу влево, мимо пруда и так до горы пойдёт дорога, на вилице держите право, и там будет табло. Я бы показала, но у меня автобус, вы извините.

