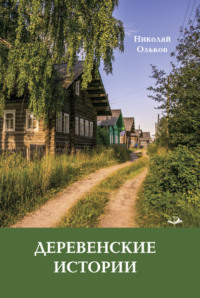
Деревенские истории
Дом Прохору рубили всей семьёй, когда он ещё на практику приезжал в совхоз под руководство родного брата. Старший Канаков лично ходил на склад, отбирал нужные плахи, тесины, все аккуратно укладывал в сторонке, звал кладовщика и велел замерить с точностью. Тот в первый раз заотнекивался, мол, забирайте, Григорий Андреевич, а я на ремонт фермы отпишу потом. После первого же такого предложения Канаков ловко поймал его за грудки, подтянул к себе и в самое лицо выдохнул:
– Ты кому такую мерзость предложил, рыло твоё немытое! Ты думал, раз сын мой тут председатель, значит, я могу себе семь тесин на гроб и без счету взять? Ишь, ты, расшиковались! Всех надо выводить на чистую воду! Я тебя чего-то не могу признать, ты не наш деревенский будешь?
Мужик отряхнулся, на всякий случай на шаг отступил:
– С Казахстана я, жена тутошняя была, да не пожилось на новом месте, в прошлом годе убралась.
Канаков сообразил:
– Дак ты Любы Москвички мужик будешь? Помню её молоденькой ещё, все в Москву собиралась, вроде как приглашают её в артистки. Понятно, никуда она не уехала, так Москвичкой и осталась. А потом в Казахстан подалась. Да, слышал про твоё горе. Ну, ты не серчай, я тут погорячился малость, а кубатуру до грамма замерь, я проверю. И ещё ответь мне: отпускаешь без документов, бывает, что начальство велит? Говори, я всё едино прознаю, хуже будет.
Мужик огляделся по сторонам и шёпотом почти на ухо:
– Прораб больше велит, он потом и концы сводит.
Григорий Андреевич хохотнул:
– А директора ты не выдашь? Он у тебя ангел.
– Зачем буду на человека наговаривать? Новой раз черкнёт гумажку то на брусок, то на плаху человеку. Тогда отдаю, а так – нет.
– Ладно! После обеда подойду, накладную напишешь, я рассчитаюсь и вечером ребят отправлю на своей самоходке, заберут.
– Зачем? У меня вечером машины придут с паклей, загрузим и привезём.
Канаков хотел рявкнуть, но воздержался, только пальцем погрозил:
– Ну, ты меня ещё поучи!
В серванте он безжалостно выбросил из ящика годами хранящиеся вилки, ложки и ложечки, чайные ситечки, бронзовые подстаканники, которые ещё на свадьбу им с Матрёной подбросил кто-то из родственников. Навалил полную коробку и позвал жену. Та со слезами села на стульчик:
– Гриша, и чем оно тебе все помешало?
– Не помешало, а всякая лишняя вещь в доме атмосферу портит. Но это я кстати. Весь этот хлам, будь моя воля, вывез бы на помойку и не ахнул. Но ты же под колеса ляжешь. Потому прошу указать, в какое место поставить коробку, чтобы ты при случае могла выволочь на стол вот эти подстаканники и потосковать. Мотенька, их уж лет тридцать не пользуют, отдай в школу, говорят, там музей собирают.
Матрёна брала по одной вещи из коробки и чуть не плакала:
– Гриня, вот эти рюмки нам подарила матушка твоя, вечная ей память! Они старинные, ты посмотри, какое стекло, как хрусталь. Аложки, Гриня, мы с тобой покупали в первый год, в город ездили, я беременная была Никиткой, ты ещё шофёра ругал, что трясёт на кочках. А стаканчики, стаканчики, Гриша, ты же привёз, когда в Москву на выставку ездил. Тогда такие тонкие мало у кого были, мы любили из них морс пить и молоко парное. Неужто тебе не жалко такую память выбрасывать?
Григорий приобнял жену и вдруг подумалось: когда же я её вот так просто обнимал? И стало неловко, стыдно за себя:
– Мотенька, ты не серчай на меня, я же не со зла. Конечно, надо сохранить, потом будешь внукам и правнукам показывать. Это же только нам с тобой дорого, позови любого из внуков, засмеют нас с этими стекляшками. Ящик мне нужен для документов. Все квитанции на Прошкин дом в папке, уже вываливаются.
– И к чему ты их хранишь?
– Не хочу потом глазами перед народом моргать, когда спросят, на какие шиши дома понакатал, Григорий Андреевич? Вот тогда-то я бумажки эти и выложу, как козырных тузов.
Матрёна всё любовалась посудой, протирала фартуком залежалое стекло, помутневшие тяжёлые вилки и ложки. Подняла глаза на мужа:
– Кто с тебя спросит, кому это надо? Два дома поставили, и никто ни разичку ни одну бумажку не стребовал.
Григорий даже обрадовался:
– Потому и не вязнут с ревизий, что знают: у Канакова в учёте полный порядок, он сам, кого хочешь, на чистую воду выведет. Куда приданое твоё поставить? Может, в подпол спустить, там у меня на полках места много.
После Нового года привёз Никита отцу путёвку в пансионат для пожилых людей. Время послерождественское, морозы завернули настоящие, ночи звёздные, чистые, тихие, днём чуть дымкой подёрнется горизонт, и три солнца образуются на промёрзшем небе. Григорий Андреевич хоть и крещён был, но веры не знал, в церкви ни разу не бывал, а вот такие явления его смущали. Слышал где-то, что сие бывает к худу. Под худом всё понималось самое нежеланное, он часто вспоминал деда своего Корнилу, как тот рассказывал домашним:
– Сплю я на спине, это привычка детская ещё, потому и храплю столь сильно, что вынужден уйти в избушку. А по-иному не умею, лягу на бок – жмёт, на другой – упеть неловко, на брюхе спать нельзя, из всякого зверья только свинья на брюхе спит. Ну, вот ночесь сплю вроде и не сплю, потому как есть кто-то в избушке, акромя меня. Чуть полежал, вроде курнулся, а он меня за шею ручищами ухватил и душит.
– Кто? – выдохнула молодая сноха, а сама со страху едва на ногах держится.
Дед Корнила перекрестился и говорит тихонько, как бы одной снохе своей:
– Это, дочка, не след вслух произносить, но тебе скажу: дедушка – суседушко приходил.
– Чей, де до? – спросил младший внук.
– Ну, знамо, наш, нашего дому хозяин. Я, когда дом этот поставил, а до того мы со старухой, ей тогда и осьмнадцати не было, вот в такой же избушке при тятином доме жили. Никто, конечно, не прогонял. Сами изъявили, потому как молодняк, один грех на уме. Вот и поставили мы с тятей дом, он большой хозяин был, и дом заказал рубить о двух етажах. Два года только на молитву останавливались плотники да на паужну, потому как с лесом робить, это не из чашки ложкой, а труд шибко трудной. Когда дом готов, освятил его священник, и надо в дом вперёд всех приглашать хозяина, суседушку. Тут и вышла у нас с тятей разногласия: если я поведу дедушку, в отцовском-то дому кто останется? Так не положено. И тогда старики сказали: «Корнила, бери икону, кланяйся в своей избушке во все углы и приглашай суседушку, уж коли вы тутака с женой прожили уж больше года, должон у вас завестись свой хозяин». Я и пал на колени: «Дорогой мой хозяин, выстроил я тебе хоромы великие, не чета этой избушке, приглашаю тебя в тот дом хозяином и буду всякий раз пишчу и питие всякое ставить тебе в подполе». Слышу, где-то скрыпнула плаха, пошёл тихонько к дому, дверь отворил и жду. И что вы скажете? Прошёл мимо меня, даже ветерком охватило, крышкой сбрякал и в подполье. Так с тех пор и живём. А как я в избушку ушёл, да и Лукерьюшку мою схоронили (царство ей небесное!), и стал он ко мне являться. Бывало, рядом сядет, надо, чтобы я чего-то рассказал. Я и сказываю всякие истории из жизни. Новой раз рукой проведу – тут сидит, и мохнатый весь, чисто тулуп вывернул и надел.
А душить он меня принимался не единожды. Подобно тому, гневается, что из дома ушёл. Я ему как-то и присоветовал, мол, коль изба маленькая, так ты направь ко мне внучка своего. В ту ночь он меня и прижал, да так тяжело, что я уж с белым светом прощаюсь. А надобно в это время спросить суседушку, к худу ли к добру?
– Как это – спросить? – опять интересуется сноха.
– Дедушка – суседушко за просто так давить не станет. Значит, хочет чего-то сказать. Вот ты и испроси: к худу он к тебе пришёл или к добру? В этот раз я едва выговорил, он сразу отпустил и сказал ятно: «К худу!» Так и вышло. На другой день война началась с Гитлером, отец ваш Андрей Корнильевич ушёл и не вернулся…
…Вечером пошёл к Никите:
– Отдай бумагу доброму человеку, пусть едет, а я останусь дома.
Никита возмутился:
– Папка, я эту путёвку оплатил, она уже и заполнена на тебя. Чего ты заупрямился? Дома работы никакой, маме поможем, будем утро-вечер навещать. Да и срок там – две недели.
– Только две? Вот сволочи, и тут обманывают народ! Мотя, ты пять лет подряд после операции в Кисловодск ездила, на сколько дней?
А сам сыну кивает, дескать, слушай.
– На двадцать четыре дня. А у тебя?
– Да не у меня, а у них, у демократов, новых хозяев жизни: две недели! Попробуй, полечись!
Никита засмеялся:
– Ты же только что ехать не хотел, теперь тебе двух недель мало.
– Конечно, мало! День приезда пропал, день отъезда тоже пропал. Итого – двенадцать дней, ровно половина от советской путёвки.
Никита возмутился:
– Папка, да я тебя раненько утром на своей машине отправлю…
– Стоп! На какой это на своей? Мало того, что твоя жёнушка по выходным из неё не вылазит, так ты и отца родного хочешь в этот позор загнать? Машина не твоя, а совхозная, кооперативная, и шофёр совхозный. Зарплату получит и командировочные за то, что папашу начальника на курорт отвезёт? Да я пешком уйду, только избавь меня от этого!
Никита встал:
– Хорошо, я сам увезу тебя на своих «Жигулях» и оформлю этот день как отпуск за свой счёт.
Григорий Андреевич вскочил с места:
– Вот это правильно, молодец, сынок. И другие пусть видят и знают. Тогда я согласен.
В пансионат они приехали рано, автобус из областного центра, где собирались отдыхающие, ещё не пришёл. Никита договорился, что отца поместят в двухместный номер и соседа ему подберут спокойного и не очень старого, чтобы они могли поговорить. «Отец это любит», – добавил Никита и поставил с боку кресла регистраторши пакет с гостинцами. Та понимающе кивнула и велела помощнице проводить гостя.
Комната Григорию понравилась: стекла не застыли, видно двор, все ещё стоящую в центре высокую ёлку, тепло, есть горячая вода, душ, туалет.
– Ладно, Никитка, поезжай, маму успокой, что всё в порядке. За Прошкой смотри, а то у него каникулы опять до майских праздников затянутся.
Через час в комнату постучали, вошёл мужчина средних лет, с бородкой, поздравствовался, представился Николаем, познакомились. Разложил свои вещи, вынул из сумки икону, поставил на свою тумбочку.
– Григорий Андреевич, вы не против иконы?
Григорий пожал плечами:
– Да нет, не против.
– Вы, должно быть, крещёный человек, судя по возрасту?
– Говорила бабка, что крестили, но на том всё и остановилось.
– В церковь не ходите? Хотя бы просто так, из интереса.
Канаков кашлянул: вот послал бог соседа, пожалуй, из секты, их много теперь развелось, он читал в «Советской России». Сам для себя решил: начнёт дальше гнуть свою линию, вроде как вербовать – попрошусь в другой номер. Искоса поглядывал – нормальный мужик, бородка аккуратная, волосы длинные. «Э-э-э, – подумал Григорий, – дорогой, а не поп ли ты?» Решил выяснить сразу:
– Вы, конечно, извините, если что не так: вы, случаем, не поп?
Николай улыбнулся:
– Вы совершенно правы, любезный Григорий Андреевич, я православный священник, служу в небольшом храме в городе. Надеюсь, что мы подружимся.
Григорий опять кашлянул:
– Сомневаюсь, что мы с вами друзьями сделаемся, но, думаю, две недели друг дружку перетерпим.
Николай сел на свою кровать:
– Меня несколько удивляет ваша уверенность, что не подружимся. А что нам может помешать? Я не буду вас склонять к вере в Бога, ибо это или дано, или нет. Вот вы атеист, то есть не верите в Бога. Это ваше право. Я верю, и это моё право. В остальном, я думаю, мы найдём компромиссы?
– Чего найдём? – не понял Григорий.
Николай опять улыбнулся:
– Давайте так договоримся, Григорий Андреевич, мы здесь просто отдыхающие, будем принимать процедуры, гулять, насколько погода позволит. Вы не боитесь мороза?
У Григория чуть что-то резкое про мороз не сорвалось с языка, но вовремя поймал:
– Я крестьянин, мне морозы пережидать нельзя, каждый день управа со скотом, так что привычны.
– Тогда мы сойдёмся. Я перед Рождеством занемог, весь потерялся, едва Крещения дождался. Трижды окунулся во Иордани и, представьте себе, воспрянул.
Григорий вспомнил:
– Обождите, в Крещенье был сильный мороз, я даже скотину не гонял на прорубь, флягами воду возил и в бане грел.
– Стало быть, вы ни разу не купались в Крещение?
– Тонуть зимой доводилось, а чтобы сам – нет, не купался.
* * *На второй день Канаков совершил обход пансионата, и уже через несколько минут у него появилось ощущение, что он когда-то тут бывал. Вот эта стайка берёз, одевшаяся в куржак, очень знакома, только почему-то берёзки стали выше и пушистей. И отвесный берег к застывшей под снегом реке тоже показался знакомым. А потом Григорий вышел на задний двор и улыбнулся: точно, бывал, дочка Никиты Лизанька была тут в пионерском лагере, а он за ней приезжал на новеньком «москвиче», только что полученном от ВДНХ за показатели по урожайности.
Пионерский лагерь новые власти прихлопнули, понятное дело: нет пионеров – зачем лагерь? Канаков вздохнул: сколько глупостей наворочали, прикрыли детскую организацию. Что в ней было плохого? Речовки про Ленина – уберите, если у вас аллергия на этого человека, но организацию оставьте! Как красиво ходили ребятишки строем да с песней на первомайском празднике, в День Победы. Любо посмотреть. Глядел каждый и радовался: такая смена растет, умные, красивые, нарядные. Он и тут, в лагере, налюбовался, как прощальную линейку проводили, сколько красивых слов сказали. Лиза всю дорогу дедушке рассказывала, как весело они жили, как вкусно кормили в столовой, какие костры они жгли на огромной поляне и песню пели: «Взвейтесь, кострами, синие ночи…»
В корпусе подошёл к дежурной, женщина немолодая, можно поговорить. Оказывается, она работала в том лагере воспитателем, он в восьмидесятые годы стал круглогодовым, тут ребята и отдыхали, и основные предметы изучали, чтобы не отстать от программы. А потом свернули, оставили только три смены летом, но через два года закрыли совсем, вроде бы купил его прокурор города, начали перестройку, собирались устроить базу отдыха для состоятельных людей. Один корпус даже перекроили на одноместные номера с двуспальными кроватями. Но кто-то вмешался, прокурора быстро перевели в другую область, а всю базу забрало управление социальной защиты. Вот, теперь пенсионеры в основном приезжают.
– Скажи, любезная, отчего путёвки такие дорогие? Ведь нельзя сказать, что тут такой комфорт.
Дежурная посмотрела на него внимательно, словно определяя, можно ли говорить, наклонилась через столик:
– Вам скажу, почему-то доверяю, что не продадите меня. База эта частная, а хозяин – заместитель губернатора, и вроде как государство у него арендует.
Канаков покачал головой:
– И вывести их на чистую воду некому. Ладно, извините за беспокойство, пойду, погуляю перед ужином.
Тяжёлые думы теснились в его изболевшейся голове. Как могло случиться, что сменились люди у власти, и всё пошло к смерти? И раньше менялись, умер один генсек, принимает второй, но в стране-то ничего не меняется! Заводы дымят, сев идёт и уборочная. Понятно, что кто-то соболезнует, жалеет, кто-то зубы скалит, такой огромный народ, всякие людишки попадают. А тут что? Откуда они взялись, эти Чубайсы, березовские, поди, под тем же прикрытием, как и Бронштейн пробрался в Россию товарищу Ленину помогать революцию делать, только фамилию переправил на Троцкого. Если так, то и добра не следовало ждать. Опять же Ельцин. Был начальником в Свердловске, говорят, ещё тогда талоны на мясо вводил, а сам погуливал. А потом бац! – в ЦК, потом на Москву. Разве не видели, что он за птица? Почему я за день могу определить, будет из парня механизатор, или так, только рычаги дёргать, а они там такой мощной компанией, всем политбюро – не разглядели. А может, не хотели разглядеть, может, знали, что за кот в мешке? Специально поближе к центру перетащили, чтобы в нужный момент вытолкнуть на танковую броню. Нет, не хватает ума, чтобы объять все эти события. Тут бы в своих домашних не запутаться. За Никиткой нужен глаз да глаз, у такого корыта его посадили, всё в руках, а хватит ли духу это испытанье пройти? Ромка тоже нарасшарагу стоит, Треплев его сломит, и ляжет под него сынок, будет исполнять барскую волю, а народишко – как хошь, так и живи. Прошкина торговля поперёк горла Григорию Андреевичу, и вся жизнь его вольная. Женить его не удастся, он волю зачуял, теперь при деньгах, больше в городе трётся, да и тут потаскивает каких-то, народ видит. Лишь бы на тюрьму не наскочил с какой-нибудь лярвой, обвинит в насилии, трусики в целлофаном пакете в прокуратуру притащит, и останется Прошка голяком, а то и поедет тайгу допиливать.
Вечером заговорил с Николаем:
– После процедур санаторная книжечка раскрытая на тумбочке осталась, вы, получается, совсем молодой человек, в сыновья мне годитесь. Вот вы про веру говорили, это я понимаю, у меня тоже есть своя вера, я коммунист. Во что я верю, мне всё понятно: все люди равны, все люди братья, надо честно трудиться на благо общества, и общество тебя отблагодарит достойной пенсией, вот этой же путёвкой, только тогда, при социализме, она стоила копейки. Коммунисты хотят счастья для всех людей на земле. Вот моя вера. А твоя? Ты учился в советской школе, наверное, институт закончил. Расскажи свою жизнь, и я буду знать, кто ты есть на самом деле.
Николай долго молчал, Григорий подумал даже, что он вообще не хочет эту тему шевелить, но Николай заговорил:
– Да, я окончил среднюю школу, в институт не поступил, потому что сразу призвали в армию. Служил неплохо, был комсомольским активистом, даже предполагалось, что после срочной экстерном сдаю экзамены в Ульяновском среднем политучилище и служу по политчасти. Но случился Чернобыль. Нас подняли ночью и привезли на объект. Никто ничего не знал, даже офицеры. Солдат бросали туда, куда гражданские просто не шли. Мы работали месяц, потом госпиталь, комиссия и домой. Умирать. Я к тому времени уже хорошо понимал, что с моим организмом. Доза, которую мы получили, с жизнью не совместима. Дома мама, отец, они очень умные и грамотные люди, пытались мне помочь, но все понимали, что помочь уже ничем нельзя. И однажды ночью я ушёл из дома. На окраине города был монастырь. Я не знаю, что меня туда привело. До этого я ни разу не был в этом монастыре. Меня приняли, подготовили к исповеди, я все рассказал. Старый монах, который меня исповедовал, сказал, что надо молиться и просить Бога о спасении. Надо думать, он не имел в виду моё физическое состояние, он говорил о спасении души. Меня причастили и увели в келью. Это после монах Тихон сказал, что он попросил поместить меня отдельно от других послушников. Я стал читать молитвы, конечно, до того не знал ни одной. Отец Тихон дал мне Старый и Новый Заветы с параллельным переводом со старославянского на современный русский. Я не спал и почти не ел, скоро стал понимать старославянский, стал ходить на службы, потом и на работы. В это время во мне произошло странное разделение жизни физической, жизни тела, и понимание жизни души. Я не знаю, как это объяснить, но я перестал бояться смерти, потому что уже почувствовал жизнь души, и о ней заботился больше, чем о теле. Так прошёл год. Я обратился к отцу Тихону с просьбой постричь меня в монахи. Он отказался. Он сказал, что я не создан для монастыря, во мне сильно физическое, человеческое начало, он даже допустил такую фразу: «Насколько я тебя понимаю, ты человек общественный, если ты действительно хочешь служить Богу, тебе надо идти в храм, к людям». И я пошёл. По рекомендации отца Тихона меня взяли в церковь Николая Угодника псаломщиком, потом рукоположили в дьяконы.
– Прости, что перебиваю, дорогой мой, а болезнь твоя?
– Я о ней не думал. Да, плохо кушал, мало спал, но это освобождало дорогое для меня время молитвы. И я молился до службы, после службы, ночью. Это великое блаженство говорить с Господом на языке молитв, которые он знает. Святой Николай, а вы должны знать, что он был епископом в Мирликии и сильно страдал за веру свою, так вот, он стал моим покровителем, я часто обращался к нему. Ещё год прошёл, приехал к нам владыка, управляющий епархией, захотел со мной встретиться. Долго мы проговорили, и он предложил мне приход, вот эту небольшую церковь, раньше она была при духовном училище. Очень хорошо сохранилась, вот и служу.
– А в Бога-то, в Бога как поверил?
– К Богу много путей, самый верный – когда семья верующая и воспитала ребёнка в вере. Это, скорее, относится к старому, досоветскому времени. Теперь такое редко, разве что в семьях священников.
– Обожди, Николай, какие семьи, вам же нельзя жениться, запрещено.
Николай улыбнулся:
– Монахи, да, они отрекаются от всех благ земных, от богатства, от женщины, от семьи, это слуги Господа, воистину праведные люди. Есть путь через знания, когда великие люди, ученые высокого уровня вдруг все оставляли и уходили в монастыри, либо жизнь и взгляды свои круто меняли. Помните, был такой Дарвин, убеждал, что человечество произошло от обезьяны. С ним даже казус случился. Когда он опубликовал свою работу, мир пошатнулся, Дарвин стал знаменит: ещё бы, ниспровергатель Создателя. На балу к нему подошла красивейшая дама общества и громко спросила: «Мистер Дарвин, неужели вы, станете утверждать, что я тоже произошла от обезьяны?» Хитрый Чарльз ответил: «Да, мадам, только от очень красивой». Так вот, прошло время, теория уже охватила мир, а сам учёный вдруг понял, какую глупость сморозил, отрёкся от своего учения и остаток жизни молился.
– Тогда остаётся, что Бог слепил человека из глины?
– Я не вдаюсь в детали, я знаю одно: человека создал Господь, а потом понял, что создание несовершенно, наказал вероотступников и послал на землю сына своего Иисуса, дабы он показал людям пороки их, взял на себя все грехи человеков и взошёл на крест. Он принёс обновлённую веру, и предки наши славяне приняли её, как свою.
Григорий аж привстал:
– Но Иисус был еврей, и вера его еврейская, как это впарили её славянам? У них же были свои боги?
– Языческие. Но уже тогда были люди, понимающие, что народ должна объединять идея. Христианство – это мощнейшая философия, и грамотные люди, изучив её, приняли, как свою. Иисус предупредил, что в вере нет ни евреев, ни эллинов, никаких других наций, всё отменяет вера в Господа, и все люди равны, все имеют одинаковые права.
– Обожди, тут мы с тобой сходимся, что люди братья.
– Дорогой мой Григорий Андреевич, ваш моральный кодекс строителя коммунизма полностью списан с Христовых заповедей.
– Да не может такого быть! Да ты врёшь! Неужто в ЦК бы этого не заметили?
– Не думаю, что не заметили, более того – знали, но нет другой морали, кроме Христовой, ну, перелицевали и сделали коммунистической. Теперь о моем пути. Это путь через физические и нравственные страдания. У меня не было выбора, либо гнить, либо молиться. Это соломинка. И она меня спасла. Как же я после этого могу не верить?
Григорий Андреевич вздохнул:
– Да, дорогой мой человек, перенёс ты много чего. Быть у смерти на краю и увернуться – это не каждому дано. А товарищи твои, с которыми вместе был в Чернобыле, они-то как?
Николай трижды перекрестился:
– Ушли. Все. У меня есть фотография первого дня на объекте, когда мы ещё ничего не знали. Взвод солдат, человек тридцать, всех знаю по именам. Когда прощались, адресами обменялись. Я с друзьями и их родителями связи не терял, они мне время от времени писали, за упокой кого молиться. Я крестиком отмечал. Все, один остался.
– Семья у тебя большая?
Священник вздохнул:
– Нет семьи, перед рукоположением во священники обвенчались мы, но не прожили и месяца, ушла моя жена. Я не предполагал, что… Чернобыль столь безжалостно встанет между мною и женщиной. А поскольку священник не может быть неженатым, владыка дал согласие на монашеский постриг. Вот, отдышусь тут, и в монастырь.
– Это где?
– Тот самый, куда и в первый раз приходил, под городом. Буду служить там.
– Там что, и церковь есть?
– Прекрасный храм, возрождённый из развалин, а освящён был в 1780 году. Намоленное место. Как обустроюсь, обязательно вам напишу, вы мне адресок оставьте. Может, доведётся бывать в наших местах, все-таки областной центр.
– Ладно, обещать не буду, но адрес дам. Мало ли что…
* * *На третью ночь Григорию приснилась жена, да не сегодняшняя, а молодая, какой была она, когда ходила первенцем, чуть располневшая, большегрудая, медлительная. Гриша в то время души в ней не чаял, ведра воды принести не давал, все по хозяйству делал, даже корову доил сам. Матрёна смеялась, а в сердце такая радость была, такое счастье.
Она долго скрывала от мужа, что понесла, только в постели просила горячего Гришу не мять её, сторонилась крепких объятий, уже и не знала, на боли в каком месте сослаться. Дали Григорию три дня для сенокоса, уехали ещё потемну на колхозной Карюхе на свой родовой покос, Гриша быстро шалаш сделал, ямку под продукты, чтоб не сох хлеб, не скислось молоко, да и мясу солёному тоже надёжней.