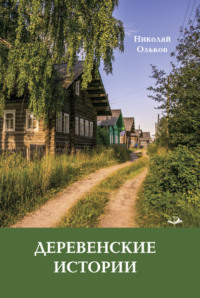
Деревенские истории
– Я протестую! – закричал человек в галстуке, и Роман Григорьевич резко повернулся к столу президиума:
– Пришей свой протест к протоколу, чтобы перед Треплевым отчитаться, а мне больше не мешай, я у себя дома, а ты неизвестно откуда взялся.
– Читай, Григорий Андреевич! – гудел зал.
– Читаю:
«После выхода на пенсию я принялась трудиться по хозяйству, читать художественную литературу и смотреть по телевизору многосерийные фильмы о красивой жизни. А ещё по вечерам – информационную программу «Время» смотрю с нарастающим интересом. Это и понятно: что ни день – новые сногсшибательные открытия. Уснула однажды в одном государстве, а проснулась в совершенно другом.
Пошла жизнь прекрасная и удивительная. Ведь раньше-то что было: не страна, а сплошной лагерь (и как это я сама не догадалась, спасибо, девушка по телевизору объяснила). Был сплошной беспросветный тоталитаризм. Теперь же я – свободный человек в свободной стране. Такой свободной, что даже цены в ней нынче, и то свободные. Не прекрасно ли?
Вот показывают каких-то бездомных людей с узлами, с обшарпанными чемоданами, расположившихся прямо на полу вокзала. Что это за люди, кто они? Оказывается, беженцы. Беженцы во время войны – это понятно. Но где и когда было, чтобы тысячи людей оказались беженцами в мирное время?
В телепередачи постоянно вклинивается (новое дело) реклама.
Показывают продуктовый магазин и в его витринах не то пять, не то шесть видов сыра и не меньше десяти сортов колбасы – от докторской до салями. Как хорошо-то! Но следом идёт другая картина: пожилой человек роется в железном мусорном ящике. Что он там ищет? Может, кто по ошибке выбросил туда хорошую вещь? Но он вытащил из ящика полбатона хлеба и положил в свою сумку! Может, он взял для своей собаки? Но вчера показывали набор самой разной еды для собак. Взял бы, да и купил. А то как-то некрасиво. Свободный человек в свободной стране при свободных ценах не хочет, скупердяй, купить для любимой собаки добрый кусок мяса.
Радуюсь изобилию всяких товаров. Но купить их могут лишь пять, ну пусть десять из ста «свободных» жителей: цены такие, что люди в обморок падают. Не изобилие это, а издевательство над людьми: око видит, да зуб неймёт.
Радостно осознаю, что кончилось трижды проклятое застойное время и я, свободный человек, живу в свободной цивилизованной стране, о чём мне не забывают напоминать по телевизору – и не хочешь, да поверишь. Сегодня показывали автомобили разных марок: лады, тойоты, вольво, мерседесы. И никаких очередей. Выбирай, садись и поезжай. С удовольствием уехала бы, но на мои деньги теперь одно колесо едва ли купишь. А потом показали Канарские острова: зелено-голубое, изумрудное море, пальмы, золотой песок. А на песочке загорают весёлые благоденствующие люди. И телевизионная красавица предлагает совершить путешествие на эти острова, обещая райский комфорт. Да уж какие там Канары, когда не знаешь, как свести концы с концами!
Врачи рекомендуют побольше фруктов, соков, свежий творожок со сметаной, сыр. Да только не говорят, где на это всё денег взять, как за ценами угнаться. Забывают, что мы, старики – пенсионеры, теперь не просто бедные, а нищие. Порой в моей голове мелькает мысль: чем жить на старости лет в унижении и нищете, может, лучше уснуть и не просыпаться?»
Вот такое письмо. Автора я назвал, но под ним может подписаться каждый советский человек, это вам, товарищи земляки, бюллетень для скорого голосования!
– Ясно!
– Молодец, Канаков, провёл агитацию!
– Закрывай собранье, Роман Григорьевич, дышать нечем!
– Все понятно, вы только лозунг «Ельцин – наш президент» с собой заберите, нам он без надобности.
Две машины районной администрации с гостями упылили на трассу.
– Ты почему гостей чаем не напоил или пивком холодненьким? – спросил старший Канаков младшего.
– Все, папка, результат выборов виден уже сегодня, и приказ о моем освобождении тоже просматривается.
Отец был благодушен:
– Ты сильно не переживай, освободят – к Никитке пойдешь в помощники, ему крайне нужен свой человек, потому что воровать удобнее с людьми близкими. Вот и будет у вас пара кашемирова.
Подошла Марина:
– Папка, вы сильную речь сказали. Понимаю, что Роману она не очень по душе, но как здорово вы все расставили. Я больше чем уверена, что половина проголосует за Зюганова.
Старший Канаков покашлял:
– Времена наступили, дочка, сын против отца, отец против сына, пока ещё словесно, но, не дай Бог, дойдёт до кулачков. И мужика твоего запросто могут с работы турнуть за такие выборы, видишь, как оно… Но отступать никак нельзя, дети мои, им ещё один срок дать, и от России ничего не останется.
Марина испугалась:
– Уж больно вы круто, Григорий Андреевич. Такого же не может быть!
Канаков вздохнул:
– Молодёжь, вроде грамотные, не глупые, а простых вещей не понимаете. Я у Маркса читал и себе выписал в тетрадку: если дело сулит капиталисту триста процентов барыша, он не остановится ни перед каким преступлением. Поняла? Ладно, пошёл я, устал сегодня сильно.
* * *Так хитрый зверь выслеживает и усыпляет бдительность своей жертвы, то голос подаст, то на ветряную сторону выйдет, чтобы жертва дух его чуяла и заранее умирала от страха. Ходит кругами, ловит единственный момент – и жертва, даже мамкнуть не успев, оказывается в его мощных лапах. Так обхаживал Прохор Галину, такие перед нею ковры расстилал, такие слова говорил, подарки она уж домой не носила, боялась, что Валентина может увидеть и спросить. И в дом к нему уже заходила свободно, без опаски. Он хорошо помнил её главный аргумент: «учиться надо», потому как-то за чаем, спиртного Галя даже на стол не допускала, вынул из сейфа толстую пачку долларов и сказал, что это квартира в городе, и, если Галя согласится выйти за него, он оставит на магазинах Валентину за старшего, и они будут в городе вместе, он работать, она учиться. Наверное, последней каплей подлости стала бархатная коробка с обручальными кольцами. Прохор сказал, что в воскресенье к обеду с родителями и братьями придут свататься. Вот и потеряла рассудок девчонка, залилась слезами счастья и радости, обняла своего завтрашнего жениха, а тот только этого и ждал. Напрасно шептала Галинка – Калинка слова-отговорки, напрасно слабенькими ручонками упиралась в его давящее тело, он только жестоко целовал её, кусал шею, грудь, бормотал о свадьбе и о любви.
Когда стемнело, она вышла из дома Прохора и на тропинке встретилась с отцом его, Григорием Андреевичем. Он даже не кивнул, не узнал, слава Богу, она пришла домой, ещё раз обмылась в тёплой баньке, оделась и вышла через переулок к озеру. Красивое место, здесь они с Валей пасли гусят, караулили их от коршуна и от кошек, а потом, когда те вырастали, никак не могли выманить их с воды, видно, осталось где-то в глубинах их памяти, что гусь должен на воде спать. И спали. Никто не тревожил, отец иногда ходил, проведал.
Галя прошла по бережку, ступая во влажный песок, сбросила босоножки, ноги ощутили тепло нагретой воды, ласковую шероховатость песка. И вдруг как высветило: в прошлом году они с Мишей провели тут целую ночь. Вот так же гуси застыли на воде и спали, уткнув свои клювы под мощные крылья, так же лопушки отбрасывали лунный свет, и кувшинки закрылись до поры, почему их называют балаболками – смешное слово, но никто не знал. Мишка уже окончил первый курс института, приехал на каникулы, помогал отцу сено косить, картошку окучивать. Встретились у магазина, улыбнулся:
– Здравствуй, Галя, я тебя едва узнал, ты за этот год такая девушка стала.
Галя смутилась: нравился ей Миша в школе, но у него был свой круг друзей и подруг, а Галя, восьмиклассница, его ничуть не интересовала.
– Какая была, такая и есть.
– Нет, Галя, ты стала красивая, и я тебя даже боюсь.
– Ну-ну, это тебя в городе так научили к деревенским девчонкам подкатывать: ой, боюсь, ой, стесняюсь, пожалейте меня!
Оба весело рассмеялись.
– Галя, если ты свободна, давай вечером погуляем. Согласись, пожалей меня.
Так хорошо стало Галине, так радостно:
– Так и быть, спасу твою душу, приходи на озеро к нашей пристани, как стемнеет.
Едва дождалась темноты, Валя в клуб убежала, кое-как отвязалась от неё, а тут мама:
– Ты куда это, девка, на ночь глядя?
Дочь не стала скрывать:
– Мама, Миша Андреев пригласил погулять. Ты не переживай, спи.
Мать кивнула:
– Мишка парень хороший, и родители у него приятные. С ним погуляй, он плохого не дозволит.
Миша ждал, сидя на старой опрокинутой лодке, увидел Галю, встал, взял её за руку.
– Красиво тут. Я тоскую в городе по деревне, по людям, по обстановке. В городе люди другие.
– Хуже?
– Нет, но другие. Тебе не понять, надо прожить хотя бы с год, тогда разница станет заметной. Расскажи, как твои дела, что в школе?
Галя рассмеялась:
– Миша, какие у меня могут быть дела? Влюбиться бы надо, да не в кого, нынче в десятый пойду, а дальше – тёмный лес. Даже если и поступим с Валей, родителям не под силу будет двоих содержать. Вот ты как живёшь?
Михаил скинул курточку и постелил её на дно опрокинутой лодки. Они сели рядышком.
– Мне легче, Галя, я попал на бюджетное место, даже стипендию получаю. И только за счёт спорта. Если помнишь, мы в футбол здорово играли, я ещё школьником попал в сборную области, потому и заметили. Есть ребята на платном отделении, но тоже разные, короче говоря, деревенских почти нет, так, сынки чьи-то тупые.
Галя повела плечами: от воды потянуло прохладой. Михаил осторожно обнял её за плечо и подвинулся поближе:
– Так теплее?
– Теплее, Миша. Ты знаешь, теперь это уже никакого значения не имеет, потому скажу. Я в восьмом классе за тобой бегала, ну, так говорят. Ты мне очень нравился, но совсем не обращал внимания, не замечал. Я даже плакала. – Она счастливо засмеялась.
Михаил помолчал, потом спросил:
– А сейчас, Галя, сейчас я тебе нравлюсь?
– Зря я тебе это сказала, – посуровела Галина. – Можешь подумать черт знает что. Ты теперь городской, получишь высшее образование, у тебя там выбор – тысячи девушек.
– А если мне не надо тысячи, а только одна, и она сидит рядом со мной и даёт глупые советы. Ты мне очень нравишься, Галя, правда, я сегодняшнего вечера кое-как дождался. И мне очень хорошо с тобой.
Галя прижалась к нему:
– Мне тоже хорошо, Миша.
– Можно, я тебя поцелую? – Он уложил её головку себе на колени и стал нежно целовать мягкие податливые губы, она прижималась к нему, выпрастывала губы и сама принималась целовать – неумело, с причмокиванием. Он чуть отвернул воротничок кофты, прижался к истокам её грудей и, боясь лишних движений, вдыхал удивительно чистый пряный запах милой девушки. Она подняла его лицо, поцеловала в губы и спросила:
– Миша, а если я тебя люблю? Если я сегодня на все согласна, что ты скажешь?
Парень опять обнял её:
– Глупышка, ничего я тебе не скажу. Ты мне очень нравишься, очень, может быть, завтра я скажу, что не просто влюбился, а люблю тебя. И хорошо, что ты призналась. Если у нас будет настоящая любовь, мы будем встречаться, целоваться и, в конце концов, сыграем свадьбу.
– Миша, ты не подумай про меня плохого, я тебя проверить хотела.
– Как я могу думать про тебя плохое, если мы с тобой с сегодняшнего дня самые близкие люди? Ты мне веришь?
– Верю.
– И я тебе очень верю.
Они просидели на берегу до рассвета, и только утренняя прохлада погнала их в деревню. У ограды Миша тихонько поцеловал Галю, и она открыла калитку.
Утром Михаила срочной телеграммой вызвали в город, он уехал, всех парней с их курса, кто не сумел откупиться, призвали в армию, а осенью пришло извещение, что Миша пропал без вести. А ещё через месяц приехал парень без руки и с обожжённым лицом, сказал родителям, чтобы не ждали и не искали: в Чечне Миша подорвался на фугасе, а после такого от солдата остаётся только фамилия. Командиры, чтобы скрыть потери, объявили с десяток ребят пропавшими без вести.
Галя не плакала. У неё не осталось даже письма, даже фотографии. Остались воспоминания об одной ночи, проведённой на берегу старого озера.
* * *На открытие избирательного участка собралось много народа, но митинга, как в старые годы, не было. Григорий Андреевич проголосовал одним из первых, пожал руки членам комиссии и положил перед председателем мандат наблюдателя:
– Ты не сомневайся, Игорь Владимирович, закон избирательный я изучил от корки до корки, свои права и обязанности знаю назубок, так что мешать не буду, а буду наблюдать.
Роман Григорьевич отозвал председателя в сторонку:
– Вы с ним в спор не вступайте, если делает замечание – фиксируйте. Если он начнёт возмущаться, нам его всей деревней не остановить.
Люди шли и голосовали, торговли колбасой и пивом, как в старые времена, не было, гундела какая-то музыка, ни песен, ни басен.
– Максим Павлович, ты чего ждёшь? Голос свой отдал, шуруй домой.
Максим, ехиднейший говорун, ответил:
– Нет, я дождусь, на одной ноге такую даль кандыбал, да без стопки обратно? Нет, дождусь.
Мужики знали, кого надо расшевелить:
– А чего ждать? Подавать не будут, это же ясно.
– Как не будут? А горячий обед? Он без стаканчика не обходится.
– Какой горячий обед, о чем ты, Максим Павлович?
– Дак ты погляди кругом, мы же на похоронах. И тихо, и музыка такая, что впору рыдать, и урны с прахом уже опечатаны. И народишко выходит, как из мавзолея, с понурой головой.
– А ты бывал и в мавзолее?
– Да нахер он мне загнулся, чтоб я смотрел на этого лобастого. Потом Никитка был, тоже на причёску богат. Зато у Лёни волос было что на голове, что на бровях – на всю партию хватит.
– Ты, Максим, поаккуратней, здесь Григорий Андреевич, он тебе этого не простит.
– Верно, видел. Жалко мужика, толковый, хозяйственный, а вот спутался с марксизмом, и никуда без него.
– Подожди, дядя Максим, а ты за кого голосовал?
– Поясню для бестолковых. Ну, за кого я, фронтовик, калека, мог голосовать? Я спросил: кто из этих красавцев за старую жизню? Мне сказали номер, вот я его и открыжыл, и старухе велел, только она наврёт все, бабахнет за Жириновского, и его сразу изберут.
На хохот вышел Роман Григорьевич:
– Я смотрю, настроение у вас боевое, проголосовали, теперь будем ждать результатов.
– А чего их ждать, Роман Григорьевич, если вам задание довели, сколько процентов должно быть за Ельцина?
Роман смутился, но тут же ответил:
– Это провокационные разговоры, товарищи, голосование продолжается, и мы не имеем права на избирательном участке обсуждать, кто и как голосовал.
Канаков старший только докладывал председателю, с кем он поедет на выездное голосование, садился в машину, вместе с членами комиссии заходил в дома к престарелым и больным людям, никто при нем не отваживался указать избирателю, где ставить птичку. Несколько раз старушки просили:
– Дочка, я ничего не понимаю, мне всё время показывают, где выводить крестик.
Канаков пояснял:
– Нельзя, Марфа Петровна, ты сама должна выбрать.
– Ой, Григорий Андреевич, а я ведь тебя не признала. Покажи-ка мне, дочка, где тут коммунист самый главный, за него проголосую.
Председатель комиссии пригласил Канакова в отдельную комнату:
– Григорий Андреевич, я вам запрещаю выезжать с урной на голосование, вы своим присутствием проводите агитацию.
Он, видимо, всё-таки плохо был проинструктирован, что с Канаковым так разговаривать нельзя.
– Простите, мил человек, или я вас не понял, или вы нихрена не понимаете, хотя сидите в кресле председателя. Мне теперь что, раствориться? Своим видом я агитирую!? Да это же похвала из ваших уст! Буду ехать туда, куда захочу, но водить руками стариков в пользу одного из кандидатов не позволю. Я всё сказал, ты свободен.
И проводил раскрасневшегося председателя на его место.
Когда закончилось голосование, пересчитали оставшиеся бюллетени, завернули их в бумагу и опечатали сургучной печатью. Роман взял пакет и понес его в комнату, у порога его встретил отец:
– Положи на стол, чтобы все видели.
Перед вскрытием урн провели совещание, распределили, кто какие бюллетени считает, сдвинули столы. В центре два члена комиссии с одной стороны, два с другой считали бюллетени Ельцина и Зюганова. Григорий Андреевич не скрывал своей радости: Зюганов на участке выборы выиграл с заметным перевесом. Потом пересчитывали ещё по разу, долго писали протоколы, один экземпляр после сверки цифр старший Канаков забрал и ушёл домой.
На повторном голосовании обстановка была напряжённой, члены комиссии то и дело выскакивали со стульев и давали разъяснения. На крыльце Дома культуры какие-то незнакомые молодые люди на нижних ступеньках встречали людей, до самых дверей провожали.
– Это что за конвой? – строго спросил старший Канаков председателя комиссии.
– Простите, я их не знаю, – ответил тот и убежал в зал.
Григорий Андреевич нашёл Романа:
– Что за агитбригада у тебя орудует возле участка?
Тот пытался отрекаться, но отец наступил ему на туфлю, прижал к земле и прошептал на ухо:
– Если через пять минут они ещё тут будут, я тебе голову отверну прилюдно. Исполняй!
Чужаки исчезли, подъехал на своей «ниве» Романчук, проголосовал, подошёл к Канакову, пожал руку. Тот рассказал о визитёрах.
– Вы их прогнали, они на другой участок переехали. У них технологий много, и они упор на деревню делают, потому что деревня дисциплинированней, активней. Только едва ли так можно спасти положение, я думаю, в случае явного проигрыша они пойдут на откровенную фальсификацию.
– Сергей Иванович, протоколы я у них изыму.
– Эх, Григорий Андреевич, если бы всё строилось только на протоколах…
Когда районная газета опубликовала сводную таблицу результатов финального голосования, Григорий Андреевич ничего не мог понять: по его избирательному участку цифры были совсем не те, что значились в его заверенной печатью копии. Он ещё раз нацепил очки и сверил: так и есть, оказывается, большинство не у Зюганова, как было, а у Ельцина, и на двадцать процентов больше. Схватив газету, он побежал в администрацию, с Романом столкнулись в коридоре:
– Это что? Что это, я тебя спрашиваю?! Как нарисовались эти цифры, которых нигде не было и быть не может?!
Роман сгрёб отца в охапку и уволок в кабинет, наглухо закрыл обе двери.
– Папка, не кричи так, вся контора сбежится!
Канаков продолжал кричать:
– Я тебе не папка, а представитель коммунистической партии на выборах, и я тебя, подлеца, спрашиваю, как получилось, что выборы выиграл один, а победа присуждена другому?
Роман побагровел:
– Да успокойся ты, наконец! И говори тише. Это не моя вина, все изменения внесены в районе. А им приказала область, ты это понимаешь? Что я мог сделать? Если ты сейчас поднимешь шум, то результат будет один: меня выпрут с работы. Папка, это система, ничего изменить нельзя.
Канаков выслушал сына до конца, а потом безнадёжно спросил:
– Ты же сам возил документы в район, сопровождал, при тебе пачкали результаты народного голосования, измывались над волей твоих людей, твоих земляков. И ты все это молча проглотил, как кусок дерьма? И кто ты после этого? Вот скажи, ты сам себя уважаешь?
Роман почти плакал:
– Папка, там присутствовал сам Парыгин, это такой хлюст, он с Чубайсом на «ты».
– Брось! Я с этим засранцем тоже на «ты», если бы довелось хоть раз в рожу ему двинуть. Мне надо знать, как ты жить собираешься среди этих людей, которых предал, за портфельчик, за «волгу», за поганое жалованье? Ладно, это тебе решать, а моё слово такое: немедленно подаёшь на увольнение, сдаёшь все дела, а потом думать будем. Завтра утром придёшь и все расскажешь.
Утром Роман к отцу не пришёл, а вечером прибежала Марина:
– Папа, Роман в дым пьяный приехал, сказал, что Треплев его заявление порвал, оставил на работе, просит прощения у вас, сказал, что покончит с собой, если вы не простите. Я ключи от ящика с ружьём спрятала. Я боюсь, папа!
Матрёна Даниловна охнула и села у стола. Григорий Андреевич усадил Марину, вытер чистым полотенцем её слезы и улыбнулся:
– Марина, милая моя дочь, с мужиком тебе немыслимо повезло. Он тряпка, если бы физией на меня не нашибал, обвинил бы мать, что пригуляла. В нем моей твёрдости ни грамма нет. Ключ от ружья положи на стол, такие малодушные не стреляются. Если он Треплеву не дал в морду – какое самоубийство? А по существу-то, он давно себя в себе убил, вот как пошёл этой власти служить, так и кончил. Отдохни, попей чайку, мать, сгоноши. С Романом ещё один разговор сделаю, только независимо, Марина – ты и детки твои – моё родное, я вас не брошу и от себя не отпущу.
Утром старый Канаков был первым посетителем у главы сельской власти. Вошёл в кабинет, присел без приглашения, огляделся, новенький портрет Ельцина за спиной сына, новые часы на руке тоже заметил – премия, должно быть.
– Пришёл сказать тебе, Роман Григорьевич, что с сегодняшнего дня не стало у тебя родного отца, пусть тебя эти, – он кивнул на портрет, – эти пусть тебя усыновляют. Дорогу ко мне забудь, с матерью видайся где на стороне, но Марину и деток не смей от нас отбивать. Случится, помру – за оградой выноса дождёшься, оттуда проводишь вместе с народом. Всё, прощай.
И пошёл к дверям. Роман выскочил изо стола:
– Папка, прости, ведь я твой сын!
Старший Канаков на мгновенье остановился, дрогнуло что-то в душе, но пересилил, переломил, молча хлопнул дверью. Заскочившие в кабинет перепуганные сотрудницы увидели Романа Григорьевича на коленях, уронившим голову в то место, где только что ступала нога его родного отца.
* * *Такой славной осени давно не было. Весь август погода стояла как по заказу, ни дождинки, ни росы, только по утрам поднимались тяжёлые туманы, ночами нежившие тёплой влагой фарфоровые груздочки в низинках да весь порядок других лесных грибов: и обабков, и сухих, и даже белых местами. И для хлеба такие ночи в удовольствие: освежит туманчик, даст чуток влаги для жизни, а с первым солнцем уже сухой стоит кормилец, и колос звенит на ветерке, если хорошо прислушаться.
Григорий любил эту пору, и каждый год, если позволяла погода, заводил своего старого «москвича» и уезжал к дальним полям, оставлял машину, заходил в хлеб, старательно разгребая стебли, останавливался и слушал поле. Странные звуки являлись ему: поверх перепелиной переклички и звона дежурившего в небесах жаворонка слышал он глуховатый напевный разговор деда Корнилы про великую радость крестьянина среди многообещающей пашни, и грубый мат однорукого объездчика Никиши Тронутого, хлыстом изгонявшего ребятишек с горохового сладкого поля, и неуклюжий «Интернационал», по прихоти колхозного председателя исполняемый на гармошке и двух балалайках в честь женщин, выжавших серпами за световой день по сотне необхватных снопов пшеницы.
А потом садился спиной к одинокой на опушке берёзке и вспоминал. Вот трактора пришли в колхоз и пошли по полю один за другим, пять штук, взламывая схваченную щетиной стерни землю и укладывая пласты один к другому ровно и аккуратно. Вот вдобавок к колхозным пришли в деревню грузовики автороты из района, и шофера тоже схватили плицы и стали помогать бабам, а потом избач Фима прибежал со свёртком красного материала, зацепил один край за столб и развернул. Зубным порошком с клеем навечно было написано: «Хлеп – Родине!» Кто-то засмеялся, но водитель уже нагруженной машины взял из рук избача полотнище и на двух воткнутых в зерно лопатах закрепил проволочными скрутками. И никто не осудил избача, наоборот, изувеченный войной Киприян, прозванный Речистым за неумение говорить после контузии, подошёл к Фиме и что-то очень ласковое промычал.
Вспомнил, что песни тогда люди пели, за столом по большим праздникам – это само собой, но ведь трезвые пели, после работы идёт народ с сенокоса, уже солнце село, темнеет, позади день на жаре, и норма в два раза, и платьишки просолели от пота, а одна вдруг запевает: «Вон кто-то с гороньки спустился, наверно, милый мой идёт. На нём защитна гимнастёрка, она с ума меня сведёт». И уже подтягиваются отставшие, и расслабляются напряжённые, спалённые работой лица, и морщины пропадают, открывая красивые и честные лица: «Его увижу – сердце сразу в моей волнуется груди. Зачем, зачем я повстречала его на жизненном пути!». Григорий Андреевич улыбнулся своим мыслям, он тоже долго не мог понять, почему люди поют, ведь и есть только-только досыта стали, и живём ещё кое-как, избушки под дёрном, работа вся на плечах, в руках вилы, литовка, лопата, верёвочные вожжи от пары гнедых… А потом он понял: люди войну забывать стали, война сделалась прошлым даже для тех, кто не дождался своего кровного и теперь уже не ждёт. Четыре тех года народ прожил молчком, на работу молчком, на принудиловку за карман колосков, на могилки в след своей тощей коровы, везущей на дровнях маломальский ящик с иссохшим тельцем так и не виденного отцом ребёнка – только молчком, потому что плач вынет последние силы. Это знали все.