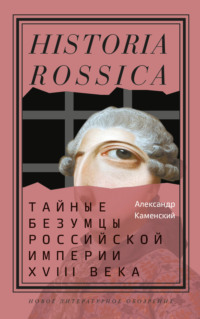
Тайные безумцы Российской империи XVIII века
К рапорту был приложен «Список содержащимся в суздальском Спасо-Евфимиеве монастыре безумствующим колодникам, показанным по ведомости того монастыря настоятеля архимандрита Соломона, кто имянно тамо и с котораго времяни содержатца арестанты, откуда оные присланы, какое и откуда им пропитание определено и в каком оные ныне по пересмотре секретарем Федоровым состоянии найдены, так и одежде, и какая им пища производитца». Во главе списка значился драгун88 Никанор Рагозин, присланный в монастырь из московской конторы Тайной канцелярии в 1759 году. Про него было сказано: «…сумазброден, не смирен, в уме не исправился» и при этом «одежду имеет шубу, одну рубашку и для постели войлок, а обуви, кроме одних туфлишек никакой нет; пища прежде производилась по два фунта хлеба, а ныне по два фунта с четвертью, щи в простые дни с одною капустою, а в воскресные и праздничные дванадесятные дни иногда с рыбою и мясом, для пития – квас»89. Другой узник, иеромонах Владимир Зеленский имел «ряску монашескую китайскую и две рубашки старыя, чулки шерстяныя и туфли». Копиист Василий Щеглов – «смирен, но притом глух и глуп», но зато был счастливым обладателем онучей и лаптей, в то время как у фурьера Савы Петрова «ни туфлей, ни лаптей ничего нет». Крестьянин Иван Яковлев – «неукротим и вздорен», жаловался на архимандрита, что тот отобрал у него перину и бил его, Яковлева, палками. Шкиперу Ивану Дубовицкому, содержавшемуся в монастыре с 1768 года, одежду и обувь присылала сестра. Титулярный советник Данила Леванидов просил отсадить его от прочих безумцев, поскольку, пребывая вместе с ними, не мог вылечиться. Протоколист Казанской губернской канцелярии Сергей Попов, присланный в монастырь в 1772 году от нижегородского губернатора А. Н. Квашнина-Самарина, уверял, что архимандрит выпускает его за монастырские стены и он ходит в гости к местному воеводе. Среди арестантов обнаружился также некий «француз Бардий», причем, когда и откуда он был прислан в монастырь, сведений в списке Федорова нет. О нем же самом ревизор сообщал, что тот «говорил по-француски, но что такое, знать неможно, а по сему и исправился ль в уме, заключения зделать неможно, а кажется, что не исправился, ибо он ходит в волосах растрепанных и распущенных, не завязанных в пучок». Купец Михаил Щелкановцов, по мнению Федорова, выздоровевший, исполнял в монастыре функции кашевара и хлебопека. Наиболее состоятельным из арестантов был уже упомянутый выше отставной капитан Илья Рагозин, содержавшийся в монастыре на собственные средства, имевший достаточно одежды и покупавший еду с помощью караульных90. Сообщая Вяземскому о результатах ревизии, Волконский рекомендовал увеличить содержание колодников с 9 до 15 рублей в месяц91.
Доклад Федорова можно было бы счесть исчерпывающим, а предоставленные им сведения полностью заслуживающими доверия, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что память, очевидно, подвела чиновника, перед которым прошли десятки подследственных, ибо дело француза Бардия сохранилось в фонде той самой московской конторы, где работал Федоров. И именно он в январе 1773 года просил Волконского утвердить расходы в 15 рублей 24 копейки на покупку «теплой одежды, обуви и протчаго» для отправляемых в Спасо-Евфимиев монастырь Бардия и еще одного душевнобольного. Правда, расследовалось дело француза не в Тайной экспедиции, а в Полицмейстерской канцелярии, куда он сам явился с заявлением, что бригадир Н. Г. Наумов, в доме которого он был учителем, пытается его отравить и тем свести с ума. Бардий исписал два листа бумаги бессвязным текстом, и в полиции сперва хотели отправить его в католический монастырь, но там его не приняли92. Тогда было решено отправить его в госпиталь, но «между тем прилежно за ним примечаемо было, подлино ли он в уме повредился, но всякой день новыя являются и не ложныя знаки действительнаго безумия». Обер-полицмейстер Архаров обратился к Волконскому, а тот в свою очередь к Вяземскому с предложением отправить Бардия в Спасо-Евфимиев монастырь, и на это было получено высочайшее согласие. Когда же француз был доставлен к месту назначения, оттуда пришло уведомление, что вместе с ним доставлено и все его имущество – три «пары» платья, две шляпы, сапоги, одиннадцать рубах, пять галстуков, муфта, перина, подушки, постельное белье и даже медный чайник93. Почему в докладе Федорова никаких упоминаний обо всем этом богатстве нет, можно только гадать, разве что за почти четыре прошедших года от него ничего не осталось.
Высочайшая реакция на доклад Федорова последовала более, чем через полгода. 31 августа 1777 года Вяземский сообщил Волконскому, что, согласно резолюции императрицы, велено буйных и спокойных вместе не держать, палками никого не наказывать, а отпускаемые на содержание колодников суммы увеличить до 150 рублей в год на человека. При этом было оговорено, что следует предусмотреть меры, чтобы монастырские власти не могли тратить эти деньги на собственные нужды. Склонный к светской жизни архимандрит Соломон был переведен в можайский Лужецкий монастырь, а на его место оттуда прибыл архимандрит Гервасий. Последнему было предписано регулярно рапортовать генерал-прокурору о состоянии дел, что он исправно выполнял, именуя при этом князя Вяземского своим «патроном». Вероятно, именно в надежде на покровительство генерал-прокурора в 1781 году Гервасий жаловался ему на Владимирскую казенную палату, требовавшую отчета в расходовании денежных средств и ведения счетов в специальной шнурованной книге. Но архимандрит просчитался: Вяземский в своем ответе, ссылаясь на Учреждение о губерниях 1775 года, заметил:
Из сего вы усмотреть изволите, что я в сходственности вашего требования никакого удовлетворения сделать не могу, ибо должность моего звания далее тех правил, кои мне предписаны, не простирается, но из особливаго к особе вашей уважения за долг почитаю объяснить, что ревизия никому обиды не делает, а всякой, на чести основывающей свои поступки, должен желать, чтоб щеты его были ревизованы тем более, дабы на будущее время иметь всякое спокойствие и безопасность94.
В начале 1780‑х годов число безумных в Спасо-Евфимиевом монастыре (присланных не только из Тайной экспедиции, но и из других учреждений, в том числе из Синода – сошедших с ума церковников) увеличилось до двадцати восьми человек, к 1788 году – сократилось до двадцати двух, к 1790‑му – до двадцати, а к 1793 году – до восемнадцати человек. За эти годы трижды менялись настоятели монастыря, и в 1795 году новый настоятель архимандрит Феодорит писал новому генерал-прокурору А. Н. Самойлову, что постройки, в которых содержатся безумные, обветшали и у них протекает крыша. Еще тремя годами ранее его предшественник архимандрит Иоасаф жаловался на это же владимирскому губернатору Заборовскому, и тот прислал в монастырь губернского архитектора, который все описал и составил смету ремонта, но деньги на его проведение так и не были выделены95.
Ревизии Спасо-Евфимиева монастыря и в 1776, и в 1796 годах, как мы видели, не выявили каких-нибудь особенно тяжелых и бесчеловечных, с точки зрения ревизоров, условий содержания. Надо полагать, что они, во всяком случае, были не хуже, чем в других местах заключения, в том числе в Западной Европе. Так, российский психиатр Ю. В. Каннабих, автор книги по истории психиатрии, писал, например, что, хотя во Франции еще в первой половине XVII века возникли пансионы для душевнобольных с весьма комфортными условиями и гуманным надзором, это были привилегированные учреждения, в то время как сумасшедших из низших социальных слоев сперва пытались лечить в больницах. Когда после двух-трех недель их признавали неизлечимыми, то отправляли в «„Маленькие домики“ – Petites maisons (впоследствии Hospice du menage) или в Бисетр (мужчин) и в Сальпетриер (женщин)». В последнем «здание было совершенно непригодно для жилья. Заключенные, скорченные и покрытые грязью, сидели в каменных карцерах, узких, холодных, сырых, лишенных света и воздуха. <…> Умалишенные, которые помещались в эти клоаки, отдавались на произвол сторожей, а сторожа эти набирались из арестантов. Женщины, часто совершенно голые, сидели закованные цепями в подвалах, которые наполнялись крысами во время поднятия уровня воды в Сене». В знаменитом английском Бедламе «множество больных были прикованы к стенам цепями, голые люди валялись на соломе в одиночных камерах, куда едва проникал свет». Несколько лучше было положение в лондонской больнице Святого Луки, а в самом конце XVIII века в Йорке по частной инициативе было выстроено «убежище» для душевнобольных, где «решеток на окнах не было. Из мер стеснения применялась только горячечная рубашка… Для слишком беспокойных больных были изоляторы. Тщательно проводилось деление больных на группы. Были особые сады и дворики для прогулок, а в доме организованы светлые помещения для дневного пребывания, для занятий и игр. Особое внимание уделялось огородным, садовым и земледельческим работам»96. В действительности именно в XVIII веке частные заведения для душевнобольных получили в Англии довольно широкое распространение, а в 1774 году был принят парламентский Акт, регулировавший правила содержания таких заведений и предписывавший их владельцам получать специальные лицензии.
Нет нужды говорить, что в России XVIII века подобные частные инициативы были еще невозможны: Странноприимный дом Н. П. Шереметева на Сухаревской площади в Москве, соединявший в себе больницу и богадельню (ныне НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского), был открыт лишь в 1810 году. Казенные специализированные больницы для душевнобольных (по одной на несколько губерний) стали строиться только в 1860‑х годах. В доллгаузах – домах для умалишенных – медицинская помощь была минимальной: постоянных врачей там не было, а те, что были, должны были посещать больных раз в неделю.
Что же касается Спасо-Евфимиева монастыря, то с начала XIX века, с ликвидацией Тайной экспедиции Сената, из специализированного учреждения для излечения душевнобольных он постепенно начал превращаться в настоящую тюрьму, куда помещали уже не только безумцев, но и политически неблагонадежных, сектантов, священников-пьяниц, а также виновных в преступлениях против нравственности и т. д. В 1820‑х годах в монастырском обиходе вновь оказались цепи, на которые сажали на время самых буйных арестантов и которые, по-видимому, использовались до середины века. В 1905 году арестанты Суздальской монастырской тюрьмы были освобождены, и ее стены вновь заполнились узниками уже в советское время97.
Глава 3
«По-лекарскому называемо…»
В 1918 году в Самаре мне нужно было по некоторым обстоятельствам на время куда-нибудь скрыться. (Эсеровские дела) Был один знакомый доктор. Он устроил меня в сумасшедший дом. При этом предупредил: только никого не изображайте, ведите себя, как всегда. Этого достаточно…
В. Б. ШкловскийУпомянутая во введении статья Екатерины Махотиной начинается с истории иеромонаха Иллариона, написавшего в 1723 году некое письмо (у Махотиной «письма») настоятелю Александро-Невского монастыря Феодосию. В письме этом он «бранил Бога, богородицу и угодников, а также государя и государыню», после чего был признан сумасшедшим и заключен в монастырь, где провел более двадцати лет98. Исследовательница изучила дело Иллариона в фонде Святейшего синода РГИА, но еще в 1913 году, как пишет Махотина, за сто лет до того, это дело упоминалось в книге С. Рункевича по истории Александро-Невской лавры. Рункевич использовал печатное «Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода» и утверждал, что в своем письме Илларион жаловался на некое «бесовское видение» и бранил не только государя и государыню, но и А. Д. Меншикова, хотя в действительности он в деле не упоминается99. Рункевич писал историю Александро-Невской лавры, Махотина – исследовала меланхолию, и они не стали анализировать содержание опубликованного в «Описании документов Синода» и сохранившегося в копии в фонде Тайной канцелярии РГАДА письма Иллариона, при знакомстве с которым случившееся с иеромонахом предстает в несколько ином свете.
Служивший в Выборге на одном из кораблей Ревельской флотилии Илларион более месяца страдал от некоей болезни и, по его собственным словам, часто «ходил я больной в нужник мочиться». Путь его пролегал мимо корабельных кают и когда, движимый нуждой, он в очередной раз шел знакомой дорогой, его заметили сидевшие в одной из кают «князь Александр Никитич Прозоровской, да князь Яков Семенович Урусов и прочии с ними», которые, «увидев мене, охнули и испужались, и стали малого своего бранить и караульного салдата, для чего вы нам не сказали про попа, мы, де, ево не ведали, как он прошел, а он, де, знатно все слышал, что, де, мы говорили. Мы, де, померли, испужались». Если верить письму Иллариона, именно они, собравшиеся в корабельной каюте знатные господа, и «бранили императора государя, императрицу государыню матерны ж и всякими скверными словами». Испуг этих неосторожных болтунов был столь велик, что они, писал Илларион, «просили у меня миру» и даже якобы предлагали за молчание 300 рублей, но иеромонах отвечал им: «…сами вы скажите государю, что вы говорили». Сойдя на берег на острове Котлин, Илларион оказался в Александро-Невском монастыре, где, продолжая страдать от болезни, стал слышать некие «голоса». Эти-то «голоса», а не сам Илларион, судя по его письму, бранили Бога, богородицу и угодников и среди прочего шептали ему: «…для чего, де, ты хочешь бить челом на князя, мы де все проподем от него».
Упомянутый в письме Иллариона князь Александр Никитич Прозоровский, отец генерал-майора Александра Александровича – старшего и уже упоминавшегося генерал-фельдмаршала Александра Александровича – младшего, в 1721–1727 годах действительно служил лейтенантом флота. Князя Якова Семеновича Урусова идентифицировать не удается – в родословных росписях Урусовых человека с таким именем нет. Вероятно, Илларион ошибся, возможно, в каюте был князь Иван Алексеевич Урусов, в 1722 году произведенный в капитан-лейтенанты флота100. Так или иначе, но очевидно, что умопомешательство Иллариона было напрямую связано с эпизодом на судне. Более того, ему казалось, что «с того числа стало мучение больши быть». Продолжая страдать от обострившейся болезни («служить мне литургии невозможно»), он, видимо, и не помышлял на кого-либо доносить, но знатные господа продолжали его преследовать, и это преследование превратилось в кошмар.
Церковные власти пришли к выводу, что «обдержим он меланхолическою болезнию», и, как и полагалось, сообщили о происшествии в Тайную канцелярию, но там сочли за благо просто согласиться с диагнозом Святейшего синода и его решением оставить беднягу под присмотром в Александро-Невском монастыре, проверять же сообщение Иллариона не стали101.
Чем показателен кейс иеромонаха? Прежде всего, интересно, на основании чего духовные чины Святейшего синода сочли его сумасшедшим? Судя по всему, помимо написанного им письма (а этот факт вне зависимости от его содержания уже мог восприниматься как девиация), на безумие, по их мнению, видимо, указывало его поведение. Сам Илларион в своем письме упоминает, что из‑за болезни не ходил в церковь, и описывает конфликт с монастырским начальством, в ходе которого его силой утащили с монастырского двора, а затем конфисковали его имущество – «сундучонок, бочонок винишка, да флягу» (монастырские власти, помимо прочего, обвиняли его в пьянстве). В чем была суть конфликта, понять из письма невозможно, и мы этого никогда не узнаем, но можно предположить, что причина была именно в необычном поведении Иллариона и особенно в том, что он отказывался ходить в церковь. Не случайно решением Синода среди прочего велено было следить за тем, чтобы он «ко всякому церковному служению приходил неленостно». Но, как бы то ни было, явным признаком безумия в Синоде очевидно посчитали сообщение иеромонаха о «голосах». Таким образом, церковные иерархи отрицали саму возможность божественного происхождения подобного явления.
Установив, что Илларион болен меланхолией, синодские чины, однако, рапортовали о происшествии в Тайную канцелярию, но там, как уже было сказано, поспешили согласиться с поставленным диагнозом и принятыми мерами. Возможно, если бы об этом деле было доложено императору, тот распорядился бы провести следствие, но в Тайной канцелярии, вероятно, посчитали все написанное Илларионом бредом сумасшедшего, а потому само его дело «маловажным»102. Нельзя исключать, что перегруженные работой чиновники Тайной канцелярии были рады избавиться от лишней заботы и ухватились за уже готовое решение, хотя, с другой стороны, перспектива изобличения хулителей императора вроде бы сулила им карьерные выгоды. Возможно, сыграли роль какие-то родственные или дружеские связи либо иные соображения, о которых мы также никогда не узнаем. Но, так или иначе, подобное решение, как будет показано далее, было далеко не уникальным.
Иеромонаху Иллариону в 1723 году диагноз «меланхолия» был поставлен, потому что он вел себя не так, как полагалось церковнику, а французу Бардию в 1776 году – потому что он не собирал волосы в пучок. Как же стоявшие на страже государственной безопасности чиновники XVIII века в принципе определяли, что перед ними не закоренелый политический преступник, а сумасшедший?
Встречающиеся в архивных делах сведения об этом, как правило, кратки. В самом начале столетия в Преображенском приказе часто полагались на рассказы самих подследственных о своей болезни, подтверждая их или опровергая показаниями свидетелей. Так, в приговоре, вынесенном князем Ф. Ю. Ромодановским тяглецу Голутвиной слободы103 Владимиру Иванову, сказавшему в 1705 году у Спасских ворот «слово и дело», значится: «…свободить без наказанья для того, что вышеписанные ж Голутвиной слободы староста, да мать ево, Володимерова, и сестра сказали, что на нем, Володимере, есть падучая болезнь и бывает в безумстве»104. Московский купец гостиной сотни Иван Плетников заболел в Смоленске, куда в 1707 году был послан для сбора десятой деньги. По его словам, «учинилась ему, Ивану, болезнь такая, учала быть тоска, бутто ево Иванов дом на Москве разорили, и учал ходить вне ума <…> а от чего ему, Ивану, такая болезнь в безумстве пришла, того не ведает». Диагноз Плетникова подтвердил его тесть, иконописец Оружейной палаты Петр Билиндин, которому он и был отдан под расписку105.
Иногда поведение подследственных прямо указывало на наличие безумия. Так, сказавший в 1713 году «слово и дело» монах Никитского монастыря в Переславле-Залесском Маркел106 «в приказе караульных солдат и колодников бранил матерны и бил, и кусал у себя руки»107. Бывший подьячий рязанского митрополита Алексей Внифатьев, согласно показаниям свидетелей, ходил голый по улицам и всех материл (1718)108, а помещица Федосья Трунина «подняв подол, ходила безобразна» и бросалась с топором на солдат, приехавших собирать подати (1721)109. В 1720‑х годах поведению подследственных начинают уделять больше внимания и сведения об этом все чаще встречаются в архивных делах. Так, в деле солдата Евстрата Черкасского (1722) сказано, что он «беситца и сумазбродит»110, посадский Прохор Бармашев (1733) – «кричит и дерется»111, а солдат Алексей Корнилов (1736) «по ночам не спит, ничего не ест, кричит и говорит непорядочно»112. В 1741 году солдат Якутского полка Осип Туголуков во время расспроса «глядел быстро по сторонам и по спросу ответствовал с серца, якобы изумленной <…> а при рукоприкладывании ко оному спросу руки оной Туголуков говорил тихо: все, де, воры, разтакия матери, и плевал на пол с серца»113. В Нижегородской губернской канцелярии в 1743 году усмотрели, что посадский Дружинин (тот самый, которого спустя четыре года несколько раз пересылали из Тайной канцелярии в Синод и обратно) «вертелся и скакал вверх, яко бесный»114. Солдат Иван Железников, попавший в московскую контору Тайной канцелярии в 1749 году, «на тот спрос секретарю Михаилу Хрущову говорил: подите сюда, а то, де, много людей пришло и слушают. И потом на имеющейся в судейской светлице стул сел и по сторонам озирался и глядел быстро». «И, по-видимому, – пришли к выводу служащие конторы, – оной Железников не в состоятельном уме»115.
Дворовый Иван Кондратьев в 1739 году «от многаго чрез вся святую пасху пьянства пришел в меленколию», буйствовал и дрался. Кондратьев объяснял, что хозяйка и ее сын приказывали бить его кошками, от чего он дважды падал в обморок, а после с ним случилось чудо: «…прежде сего писать скорописью не умел, апреля з 24 числа скорописью стал он, Кондратьев, писать без всякого учения», почему он и стал называть себя пророком. И, хотя караульный докладывал, что арестант ведет себя как сумасшедший, на сей раз в Тайной канцелярии решили, что он не безумен, а все дело в пьянстве, а потому следует наказать его кнутом и на полгода отправить на каторгу116. В 1751 году аналогичный случай произошел с капралом Иваном Погодаевым, причем в Тайной канцелярии констатировали: «…ежели б он во объявленном пьянстве не обращался, то б и означенной меленколии последовать ему не могло»117. Стоит заметить, что подобные решения в принципе соответствовали действующему законодательству: Артикул воинский, в отличие от Соборного уложения 1649 года, рассматривал пьянство как отягощающее вину обстоятельство.
Два последних случая в наше время, по-видимому, диагностировали бы как белую горячку или алкогольный делирий, но в XVIII веке таких понятий еще не знали. Примечательное рассуждение чиновников Тайной канцелярии о вреде пьянства содержится в деле 1755 года солдата Федора Зырянова, на которого донес его товарищ солдат Желебов. Последний угощал первого вином и предлагал тост за здоровье императрицы, на что Зырянов сказал: «Я, де, за бабу пью, а всемилостивейшую государыню ни во что чту, ни в денешку, ни в полушку, а почитаю ее блядью». Поскольку «за пьянством» он, по его уверению, ничего не помнил, решено было наказать его кнутом. Но досталось и доносчику. В канцелярии решили, что Желебову, видевшему, что Зырянов сильно пьян, подносить ему еще одну чарку и предлагать выпить за здоровье Ее Императорского Величества не следовало, «ибо, ежели б он, Желебов, тех речей не употреблял, то чаятельно, что и от оного Зырянова вышеписанных непристойных слов произойти не могло», а поскольку он к тому же и донес не сразу, как полагалось, то заслуживает наказания батогами118.
Алкоголизмом, очевидно, страдал и дьячок Сава Александров, но, как он сам признавался в 1740 году, помимо пьянства была и еще одна причина, по которой на него находило безумие: «…когда, де, он вина выпьет, и тогда обеспамятеет и что делает и говорит, того ничего не помнит, а когда ж он з женою своею пребудет, и тогда ж ему подступит под сердце великая тягость», отчего ему являлись видения и слышались голоса119. В подобного рода страданиях Александров был не одинок. Крепостной крестьянин Сергей Ермолаев в 1759 году сам явился в Тайную канцелярию, чтобы сообщить, что «учинил он во сне с девкою блудное грехопадение и при том он, Ермолаев, озирался и дрожал, и говорил всякие сумасбродные слова»120.
Выражение «сумасбродные слова», или «сумасбродные речи», с начала 1740‑х годов встречается в делах все чаще. Например, регистратор Степан Боголепов в 1762 году «говорил всякия сумазбродныя слова с необычным криком»121. Подчас «сумасбродные речи» были столь невразумительны, что служащие канцелярии констатировали: «…к склонению речей написать невозможно»122. В 1742 году записывавший пространные показания капитана Ивана Ушакова чиновник вынужден был прервать работу, поскольку «более же сего записки продолжать невозможно, понеже употребляет речи весьма сумазбродныя и продерзкия, и великоважныя»123.
В 1750‑х годах следователи еще внимательнее стали относиться к поведению подследственных во время допроса. Так, уже знакомый нам Никанор Рагозин, которому предстояло стать самым долговременным обитателем Спасо-Евфимиева монастыря, «молчал и стоял, якобы изумленной в уме, и глазами смотрел весьма быстро»124. Кирасир Иван Калугин «озирался на стены» (1758)125, комиссар Канцелярии от строения Готфрид Энгельбрехт «изумленно озирался и весь трясся» (1761)126, «озирался по стенам и глазами смотрел весьма быстро» отставной подпоручик Дмитрий Чистой (1761)127. В 1760 году солдат Родион Абатуров в Тайной канцелярии «сидел смирно и был в горячке, и потом озирался на стены и по спросу о тех словах (ранее он говорил «непотребные слова» по первому пункту. – А. К.) ничего не ответствовал и молчал, почему в Тайной канцелярии усмотрен он весьма малоумен»128. О крестьянине Осипе Шурыгине служащие Колыванского губернского правления в 1785 году замечали: «…говорит с запинанием и задумчивостию, а как ни о чем спрашиван не бывает, то сам с собой шепчет, чем и доказывает себя наподобие как времянно меленколика»129. Наблюдательные новгородские помещики поставили диагноз отставному поручику Федору Овцыну и вовсе по внешним признакам: «…образ его одежды представляет человека, от развратной жизни лишившагося здраваго разсудка»130.

