
Бог, которого не было. Красная книга
На экране – один неотвеченный звонок. Даша. Лучше бы я умер от передозировки Моцартом.
Смерти очень к лицу застенчивость
Естественно, я принялся перезванивать Даше. Бесполезно. В не мире вообще связи не было. Я собрал свою одежду со смятой постели песка – всю, кроме правого носка: его нигде не было – я весь не мир облазил. Странно, конечно. И жалко. Носки у меня веселенькие были такие, с фламинго. Совсем недавно купил. Глупо, конечно, переживать из-за носка, даже с фламинго, особенно когда ты в не мире и тебя только что было пятнадцать или четырнадцать штук, и все эти пятнадцать или четырнадцать тебя занимались незащищенным сексом со смертью, – но я переживал. А потом плюнул. В смысле перестал переживать. И оделся. В один левый носок и все остальное. И тут смерть снова появилась. В платье из полупрозрачного скотча и солнцезащитных очках. Ray Ban. Или Prada. Она уселась на песок, скрестив ноги, и как-то застенчиво поглядела на меня поверх своих солнцезащитных очков. Ray Ban. Или Prada. Застенчивость ей к лицу, подумал я. Но не сказал. Я решил, что вообще ничего не буду говорить. А застенчивая смерть принялась зачерпывать песок в руки и медленно высыпать его обратно. Как маленькая, подумал я. Но не сказал. Ну потому что решил ничего не говорить.
– Ты знаешь, сколько тут песчинок? – спросила меня смерть.
– Нет, – сказал я, забыв, что решил ничего не говорить.
– И я – нет, – вздохнула смерть, сдувая со своей ладони песчинки обратно в не мир.
Я увидел – хотя мог увидеть это и значительно раньше, – что у нее абсолютно гладкие ладони. Как у младенца. Или как у манекена. Нет ни линии жизни, ни других линий. Ну это нормально – зачем смерти линия жизни? – подумал я. Но не сказал. Но не потому, что решил ничего не говорить, а просто.
– Ты извини меня, – снова вздохнула смерть. – Ну, за это. – Она показала рукой, на которой не было линии жизни и вообще не было никаких линий, на не мир, где не было ничего, кроме песка, и где еще недавно было штук пятнадцать меня, занимающихся любовью со смертью.
– Чего уж теперь, – буркнул я, а смерть засмеялась. Застенчиво. Смерти очень к лицу застенчивость, особенно когда она смеется, снова подумал я и снова не сказал. Ну потому что смерть сама это знала – иначе бы не смеялась. Застенчиво.
– Тебе понравилось? – отбросив в песок застенчивость, стрельнула она в меня глазами поверх солнцезащитных очков. Ray Ban. Или Prada. – Мне – да. – Смерть избавила меня от необходимости отвечать. – У меня никогда такого не было, – отряхивая от песка свою застенчивость, застенчиво призналась она. – Нет, не секс, конечно, хотя и секс тоже, а… – Смерть замолчала и снова повела рукой, на которой не было линии жизни и вообще не было никаких линий, по не миру, где не было ничего, кроме песка, и где еще недавно было штук пятнадцать меня, занимающихся любовью с ней.
– А что? – спросил я.
Смерть помолчала, потом вдруг сняла эти свои Prada или Ray Ban, повертела их в руках и только потом ответила:
– Я уснула. На твоей руке. Такого у меня никогда не было – Она посмотрела на меня беззащитно обнаженными глазами и снова спряталась за очками. Ray Ban. Или Prada.
А я не знал, что ей на это сказать, и поэтому сказал, что у меня правый носок пропал. С фламинго. А смерть засмеялась застенчиво, но тут ее пейджер опять пискнул – и от ее застенчивости не осталось и следа. Смерть, от застенчивости которой не осталось и следа, глянула на экран и нахмурилась.
– Что-то случилось? – спросил я.
– Когда пищит это штука, – смерть показала на свой пейджер, – всегда что-то случается.
– А что? – спросил я.
– Избави нас Бог от подробностей, – истово помолилась пейджеру смерть, а мне сказала: – Подожди меня тут. Найдем твой носок. – И исчезла.
Консервный нож смерти
Ну и я ждал. Не из-за носка, естественно. Просто непонятно было, как из этого не мира выбираться. Вот я и ждал. Ждал в месте, где не было ничего, кроме меня и песка. И связи не было. Но был звонок. От Даши. Звонок был, но связи не было. Как и моего правого носка. Он был, но его не было. Ну я же говорю: и в не мире, и в мире все делается через П, А, Ж и О. Она, кстати, перестала болеть. Или я просто забыл, что я ее отбил о не мир и она должна болеть. Кажется, я вообще уснул. Вернее, не так. Я не знал, чем заняться в этом не мире, где не было ничего, кроме песка, и решил подсчитать количество песчинок. Думал, удивлю смерть, когда она появится. Не то чтобы я так уж хотел удивить смерть, но заняться в не мире было абсолютно нечем. Вот я и стал считать и уснул. Проснулся я от щекотки. Смерть сидела на корточках передо мной и щекотала мою правую пятку – ту, от которой носок потерялся. Я отдернул ногу и проснулся. А смерть – смерть засмеялась. Не застенчиво, а от души – не знаю уж, есть ли у смерти душа, но она засмеялась так, как будто эта самая душа у нее есть. И душе этой – лет пятнадцать от силы. Ну а потом мы со смертью носок мой искали. Ну не то чтобы прям искали – ходили по песку и разговаривали. Она мне многое о себе рассказала. Ну не то чтобы прям о себе – а просто о смерти. Рассказала, что когда хоронили Петра Мамонова, то его гроб не поместился в могилу. И что она сама не знает, что это значит, но не влез. Пришлось доставать гроб и могилу расширять. А я ей сказал, что Мамонов вообще никогда ни в какие рамки не помещался – со своей изломанной душой и изломанной пластикой, со своим запойным православием и страшными, бездонными глазами святого шута. А смерть полупропела – полупрошептала мне: возьми мой консервный нож и вырежи букву К. А я взял ее консервный нож и вырезал букву Д. А смерть снова пропела: возьми мой консервный нож и вырежи букву О. А я взял ее консервный нож и вырезал букву А. И соль на губах, и кровь на руке – все это было. Тогда смерть пропела: возьми мой консервный нож и вырежи букву Л. И я взял ее консервный нож и вырезал букву Ш. А смерть отобрала у меня свой консервный нож и сказала, что не знает, где Даша. И, мол, радуйся, что не знает, – значит, Даша жива. Потом снова тренькнул ее пейджер, и она снова исчезла. А носок мой мы так и не нашли. Но это было неважно. Важно, что Даша была жива. А, ну да: перед тем как смерть убежала по своим хлопотам, я взял ее консервный нож и вырезал букву А.
Последние слова
Хлопот у смерти хватало: каждый день в мире умирает примерно сто пятьдесят тысяч людей. По средам больше всего – это смерть мне сама сказала. И еще по праздникам. Ну, это понятно как раз. Умирающие хотят испортить близким праздник. Надо уважать последнюю волю умирающих. А вот почему людям нравится умирать по средам – этого не знает никто. Даже смерть. В общем, мы шли по не миру, искали правый носок, разговаривали. Смерть периодически исчезала – каждый день в мире умирает примерно сто пятьдесят тысяч человек. Хорошо хоть, не среда была. В общем, смерть исчезала и снова появлялась. И мы снова шли искать мой носок. По не миру. Смерть мне книжечку свою записную показала: туда она последние слова людей записывала. Перед смертью. Один раввин – там у смерти неразборчиво было записано, а сама она не помнила, – так вот раввин, имени которого смерть не помнила, сказал, что если все можно испортить, то значит – все можно исправить. И умер. И уже ничего нельзя было исправить. А Хамфри Богарт, умирая, сказал, что зря он перешел со скотча на мартини. Но уже ничего исправить было нельзя. А Сомерсет Моэм сказал, что умирать – скучно. А Вася из какого-то подмосковного городка сказал, что надо было стать алкоголиком. Он явно был философом, этот Вася. А еще один философ – Хрисипп – напоил вином осла, а потом умер от смеха, наблюдая за ним. А маленький бог без сисек Света сказала: ой, то есть блядь, – это уже я сказал. А смерть проверила по своей книжке и подтвердила: да, именно так все и было. «А Иона?» – спросил я ее. Смерть полистала книжечку и ответила: «Кирьят-Ата». Так сказал Иона перед смертью. Ну потому что Поллак научил его так ругаться: Кирьят-Ата. А может, потому, что Иона родился в этом городке. А Вероника Степановна из Новосибирска семидесяти трех лет спросила своих близких, собравшихся у ее кровати, – мужа, трех дочек, двоих зятьев (третий к этому времени уже умер), семерых внуков, двух правнуков и плюс еще нескольких соседей, пришедших из любопытства: «Знаете, почему мужчины трут на терке сыр и вообще всё – сверху вниз, а женщины – хаотично?» И умерла, не дожидаясь ответа. Ни от мужа, ни от соседей и родственников. А потом воскресла и добавила постскриптумом: «Не знаете? Вот теперь мучайтесь», – и снова умерла. Эта Вероника Степановна из Новосибирска была еще той сукой.
– Александр Липницкий… – Смерть наткнулась в своей книжице на это имя, и ее глаза увлажнились. – Я обещала Саше никому не рассказывать о его последних словах. – Смерть шмыгнула носом. – Но это было… он погиб, спасая свою собаку. Тирекса. И последние слова Тирекса к Саше я тоже не могу тебе передать. – Смерть снова шмыгнула носом. – Я обещала Тирексу.
Казалось, что сейчас она не сдержится и заплачет, но, слава богу, звякнул ее пейджер, и она отправилась убивать. А когда вернулась, рассказала, что Стив Джобс сказал, умирая: «Ух ты. Ничего себе. Ух ты!» – хотя ничего такого уж «ух ты» его не ждало. А я, вспомнив старый анекдот, спросил смерть про графа Шереметева. Ну, помните ту смешную рассказку: мол, генерал-фельдмаршал Шереметев, умирая, завещал потомкам назвать в его честь аэропорт. Смерть долго рылась в своей записной книжке, а потом подтвердила: да, это были его последние слова. А когда не знающие, что такое аэропорт, потомки спросили графа: какой аэропорт?! – граф сказал: оба. И умер. А некий Думиани из Нигерии сказал, что если у тебя есть дрель – ты можешь просверлить все, кроме дрели. Если же у тебя есть две дрели – ты можешь просверлить всё. «Не знаю, почему он так сказал, – добавила смерть, – у него вообще ни одной дрели не было». А Оскар Уайльд, умиравший в гостиничном номере, с тоской взглянул на безвкусные обои и иронично заметил: «Эти обои ужасны. Кто-то из нас должен уйти». Это были его последние слова.
Через два часа и восемь минут вы получите сообщение от абонента 8-925-170-73-10. Дослушайте его до конца. Это не спам. Это мои последние слова перед смертью. Я их записываю на диктофон моего айфона, сидя в бабушкиной квартире на Соколе. Того айфона, который изобрел Стив Джобс, последние слова которого были: «Ух ты. Ничего себе. Ух ты». Ну проверю, что там за «ух ты». Через два часа и восемь минут. Даже меньше уже чем через два часа и восемь минут.
А обои в квартире на Соколе, кстати, симпатичные. Не то что у Оскара Уайльда. Мы с бабушкой сами выбирали.
Пляшем
Ну а еще там, в не мире, смерть во время одного из своих возвращений рассказала мне, что специально поддалась тогда – в фильме Бергмана. Что она никогда не проигрывает ни в шахматы, ни в карты. И что в этом-то и есть смысл смерти – что она никогда не проигрывает. А еще смерть, которая никогда не проигрывает, еще и никогда не пьет. Ни водки, ни виски. Даже коньяк не пьет. Короче, вообще ничего не пьет. А вот кефир – любит. Трехпроцентный. Никогда я еще не чувствовал себя так странно, как чокаясь кефиром со смертью. Смерть, кстати, про мою смерть отказалась говорить. Спросила, причем зло как-то спросила: кого ты хочешь обмануть? А я ответил: не тебя. Только Бога. Вот тогда мы и чокнулись кефиром. Трехпроцентным.
А еще я ей про право-лево объяснил. Она пожаловалась, что никак не может запомнить, где право, где лево. И сено-солома не помогает. Это все Кастанеда виноват. Ну это смерть так сказала. Он рассказал всем, что смерть всегда за левым плечом. «Понятно, что он пошутил, но мне-то каково?» – возмущалась смерть. Мол, когда она появляется справа, – ей никто не верит. Приходится тратить лишнее время и силы, а у нее и так нервы расшатаны. Особенно по средам. Ну я и объяснил, что правая рука – это та, на которой большой палец справа. А смерть посмотрела на свои абсолютно гладкие руки – ни вен, ни линии жизни – и сказала, что поняла. И еще сказала, что я молодец. Что не зассал. А я плечами пожал. Ну потому что сначала – ну, когда меня штук пятнадцать или четырнадцать было, – я просто не успел. Ну, это – зассать не успел. Заняты мы были – все четырнадцать. Или пятнадцать. А потом – тоже не успел. Как-то не до этого было. Вот это все я хотел объяснить смерти, но как это все объяснить – вот я и плечами пожал. А смерть свою упаковку кефира подняла и сказала: безумству храбрых кефир возносим. Тост типа. Ну и мы выпили с ней залпом кефиру.
В общем, неплохо мы со смертью время провели: кефир пили, носок искали. Носок, правда, так и не нашли. А смерть сказала: похер, пляшем! И танцу меня научила – тому, на фоне грозового неба из «Седьмой печати» Бергмана. Этот танец можно и в одном носке танцевать. И я дотанцевал до двери. Она прямо на песке стояла. Как тогда – в другом филиале не мира, поменьше, когда ты и твой второй разрешили мне на письма отвечать. Официально и все такое. И в еще одном филиале не мира – в том, что в храме Гроба Господня, – там такая же дверь была. Тогда еще Недаша сказала, что мне туда, – и на дверь показала. А смерть – она тоже сказала, что мне туда. И тоже на дверь показала. Ну я и потанцевал в ту дверь. Потому что «похер, пляшем». Вернее, все не так. Меня вдруг снова стало пятнадцать. Или четырнадцать. И все пятнадцать меня – тот, кто занимался любовью с Дашей, и тот, кто с Недашей, те двое меня, что были с Таней и Леной, которые Pink Floyd, и тот я, который был с сумасшедшей Мариной, которая Том Уэйтс, и еще я, и еще, – все мы взялись за руки и на фоне грозового неба Бергмана потанцевали в ту дверь. Ну потому что похер, пляшем.
Кстати, танцевать мне осталось недолго – два часа и семь минут. Это сто двадцать семь минут. Ну, или семь тысяч шестьсот двадцать секунд. Похер, пляшем.
Носки с фламинго
Тогда, в не мире, когда я танцевал в ту дверь, – меня было штук пятнадцать. Или четырнадцать. Так и не успел посчитать. А когда я вышел из двери в мир – меня снова было одна штука. И эта одна штука меня оказалась в Иерусалиме на улице Шивтей Исраэль, 24. Ну, вернее, там, где на Шивтей Исраэль, 24, почта Бога раньше была. Причем с того времени, когда там был я и когда там была почта Бога, прошла, наверное, неделя. Ну так мне показалось: все обломки убрали, завалы расчистили. И уже даже начали что-то строить. И полностью охреневшая одна штука меня стояла в одном носке и смотрела, как на месте, где была почта Бога, уже начали что-то строить. Вообще, если бы не этот сгинувший в не мире правый носок – можно было подумать, что мне все это привиделось. Ну весь этот мой личный Забриски-пойнт. И почта Бога, засыпанная черными муравьями русского алфавита, тараканами английского, многоножками китайских иероглифов, черными метками немецкого и скарабеями иврита, и неподъемная тяжесть твоей подписи с росчерком, как у Фредди Меркьюри, вжимаемая мне в грудь тобой и твоим вторым, и Мартышка, спасшая меня от смерти, – все это мне приснилось. И сама почта Бога, взлетевшая на воздух четырнадцать или пятнадцать раз. Это мне тоже приснилось. И серый Buick Special 1952 года в сто семнадцать лошадиных сил, привезший меня туда, где кончился мир, а внизу был не мир. Ну и все то, что случилось в не мире, – мне тоже приснилось. И смерть, которой к лицу застенчивость, уснувшая на моей руке. А про тех пятнадцать или четырнадцать меня, занимавшихся любовью с Дашей, Недашей, не Дашей и, может быть, еще и с Дарьей из Забриски-пойнт Антониони, – я вообще молчу. Это мне точно приснилось. И я хотел бы так думать. Подумать и забыть. Но сгинувший в не мире правый носок доказывал обратное. Носок и ноющее ощущение в паху – как будто тебя расщепили на пятнадцать тебя и каждую часть трахнули. Под гитару Джерри Гарсия. Ну, может, не на пятнадцать, а на четырнадцать. А еще я, которого расщепили на пятнадцать или на четырнадцать частей и каждую часть трахнула смерть, притворившаяся женщинами, которых я любил, – так вот я, наскоро собранный в одного меня, стоял в одном носке и думал, что вот эти двери, постоянно возникающие в моей жизни, те двери, которые «тебе туда», так вот они очень похожи на те, что когда-то принес Ави – хозяин моей полуторакомнатной квартиры на Дорот Ришоним, 5. А я их на помойку выкинул. Что это значит – я не знал, но я стоял в одном носке и думал об этом.
Я и сейчас не знаю, что это значит. Может, конечно, смерть мне объяснит. Ну вот придет за мной скоро и объяснит. Смерть придет через семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь секунд. И объяснит. Я в секундах стал считать – ну, мне показалось, что так смерть не так быстро придет. Но это была ошибка. Я ведь говорил уже вроде, что живу с ошибками. Ну и вот – очередная. Да и вряд ли смерть будет терять время на объяснения. Хотя не знаю. Ну да я много чего не знаю. А еще носки эти. С фламинго. Я много раз пытался купить такие же носки, как тот мой правый, сгинувший в не мире. С фламинго. И не мог найти. Нет, в мире носков с фламинго до черта, но все они какие-то не такие. Вот вроде кажется сначала – такие, а берешь в руки – нет, не такие. Не знаю, как это объяснить. Но я много чего не знаю – про двери эти, например. Ну которые я на помойку выкинул и которые у тебя в филиалах не мира стоят. И про тебя – есть ты или нет – тоже не знаю. Ну, может, действительно смерть мне все объяснит через эти семь тысяч с чем-то секунд, и я пойму хоть что-то. Про тебя. Про носки с фламинго. Про двери. Или про себя хотя бы.
Избави нас Бог от подробностей
В общем, если я сейчас мало что понимаю из того, что произошло со мной, то тогда я понимал еще меньше. Вернее, вообще ничего не понимал. Причем не понимал не головой, хотя головой это вообще понять невозможно, я даже не знаю, как я не понимал. Наверное, не понимал, как курица, которой отрубили голову, но она не может это понять – ну потому что голову ей уже отрубили и понимать ей нечем, но она не может это понять и продолжает бежать без головы. Вот так и я. Голова у меня, правда, была, у меня только носок правый пропал, но я все равно ничего не понимал и продолжал стоять на улице Шивтей Исраэль и смотреть, как на месте почты Бога что-то строили. Не знаю, сколько я там стоял. А потом мой телефон включился. Ну в не мире связи не было же, а здесь – в мире – появилась. Нет, не Даша. Двадцать раз звонил Мордехай – мой начальник. Оставил пятнадцать голосовых сообщений. Я даже их прослушивать не стал. Избави нас Бог от подробностей, как говорила смерть своему пейджеру. Еще восемь звонков с незнакомого номера. Перезваниваю. Тупо как-то, на автомате. Незнакомый женский голос нежно заорал в трубку: «Идиот, где тебя носит?!» Идиот я не знал, как объяснить, где меня носит, и поэтому молчал. Ну и еще потому, что не знал, кто эта женщина, назвавшая меня идиотом. Хотя и был согласен. А голос не унимался: «Двигай скорей ко мне – муж в ночь ушел». Наверняка надо было так и сделать, но я был в одном носке, и к тому же это было бы непорядочно по отношению ко всем троим: и к незнакомому мне женскому голосу, и к мужу незнакомого мне женского голоса, который ушел в ночь, ну и еще по отношению к тому идиоту, которому звонил незнакомый мне женский голос, муж которого ушел в ночь. В общем, чувствуя себя еще большим идиотом, чем прежде, я объяснил все это незнакомому мне женскому голосу. Ну что она ошиблась номером и что я в одном носке, – на этом месте незнакомый мне женский голос повесил трубку. А потом позвонила Майя через алеф. Она сказала, что у нас – ну то есть у нашей группы «Лучше не будет» – скоро еще одно выступление. Что на нее вышел очень крутой продюсер и что я должен готовиться. Как именно я должен готовиться, Майя через алеф не сказала и повесила трубку. Ну, избави нас Бог от подробностей. А потом позвонила Недаша, сказала, что она – ну то есть она и ее муж, похожий на жопу носорога, – ну этого, про жопу носорога, она не сказала, конечно, – она просто сказала, что она и ее муж еще в Париже, муж ушел по делам, а она принимает ванну с видом на Эйфелеву башню. И сказала, что может включить видео и показать мне. Я не очень понял, что конкретно Недаша хотела мне показать: себя в ванной или Эйфелеву башню, но отказался от обеих. Ну потому как избави нас Бог от подробностей. А еще Недаша спросила: как там Мартышка? Видимо, Поллак рассказал уже, что отдал собаку мне. А я не знал, как там Мартышка, и не знал, как сказать об этом Недаше, и поэтому сделал вид, что пропала связь и я ее не слышу. Ну потому как избави нас Бог от подробностей.
А потом меня арестовали. Прямо в одном носке. По подозрению в теракте. Ну типа это я взорвал здание по адресу Шивтей Исраэль, 24. И требовали подробностей.
Кубизм, ебанутый на весь свой куб
Дальнейшее было похоже, ну, как будто ты начал исповедовать кубизм. Ты – это Бог. А кубизм – это направление такое в искусстве. Ну вот все выглядело так, как будто бы ты насмотрелся Пикассо, Фернана Леже и стал исповедовать кубизм. И заново мир создал. По канонам кубизма. Причем это был еще тот кубизм – ебанутый на весь свой куб. Ну и мир был такой же. Прямоугольник камеры; квадрат комнаты для допросов, куда меня таскали из прямоугольника камеры; непроницаемые ромбы следователей, допрашивающих меня в квадрате для допросов, куда меня приводили из прямоугольника камеры; ну и лестница. Та, по которой меня водили из прямоугольника камеры в квадрат, где меня допрашивали ромбы-следователи. Один ромб был всегда небрит и хорошим, второй же – женщиной и сукой. Ну это традиция такая у ромбов – хороший и плохой полицейский. Хотя я ведь даже не знал толком, кто меня арестовал – Моссад, Шабак или еще чего пострашнее. А ромбы не говорили, вернее, как раз говорили: тут мы задаем вопросы. Ну это тоже традиция такая. У ромбов. Вообще, было полное ощущение, что ромбы эти со мной в тетрис играли. И тот ромб, что небритый, и тот, что сука. Ромбы засыпали меня вопросами, я не отвечал – вернее, сначала я отвечал, но их не устраивали мои ответы, и они снова и снова задавали свои вопросы: откуда я взял взрывчатку, на кого я работаю и где мой второй носок, – в общем, я перестал отвечать, и вопросы быстро забивали всю мою голову. Ну и сгорали. Как в тетрисе. А потом меня отправляли из квадрата в прямоугольник. По лестнице. Лестница, соединяющая прямоугольник с квадратом, – ее вообще нарисовал Марсель Дюшан. Ну, помните его «Обнаженная, спускающаяся по лестнице»? Нормальный человек, правда, не видел там никакой обнаженной, а ненормальные не допустили эту картину к выставке с формулировкой «что обнаженная не должна спускаться по лестнице, она должна лежать».
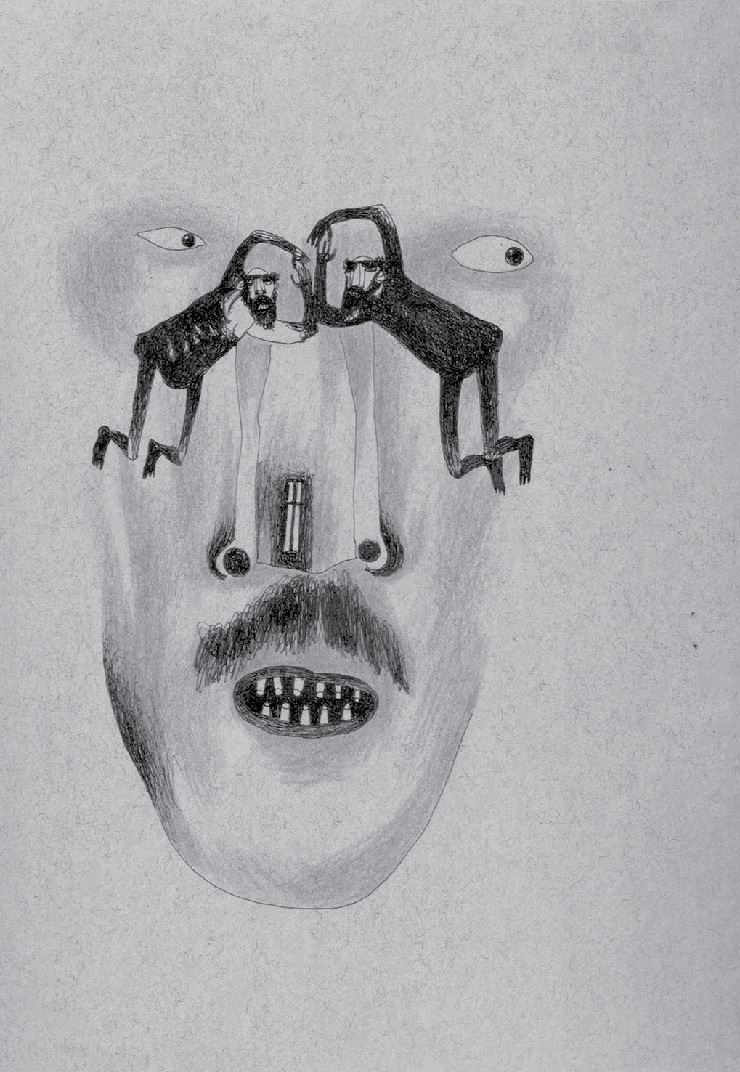
В квадрате я лежал на двухэтажной шконке, сделанной в форме многоугольника. Скорее всего, это был правильный додекаэдр. А может, неправильный додекаэдр, не знаю. Но я лежал в прямоугольнике камеры на первом этаже многоугольника тюремной шконки, как та обнаженная с картины Марселя Дюшана, которая, по мнению ненормальных кубистов, не должна идти по лестнице; а в голове по-прежнему тетрисом накапливались вопросы – не те, что мне задавали ромбы, и тот, что небритый, и тот, что сука, – а другие: что происходит; почему Даша не берет трубку, хотя этот-то вопрос я мог бы и не задавать – телефон у меня отобрали; как мне сказать Недаше, что я потерял Мартышку; как я должен готовиться к выступлению нашей группы «Лучше не будет»; и, естественно, почему я не куст сирени. На все эти вопросы у меня не было ответов, и они тоже сгорали у меня в голове; а потом я засыпал, или мне казалось, что я засыпал, и мне снилось, что меня нет, ну вот как нет этой самой обнаженной на картине Марселя Дюваля «Обнаженная, спускающаяся по лестнице», а может, это мне и не снилось, и меня действительно не было, но потом меня будили и отправляли по лестнице в квадрат для допросов. И так повторялось изо дня в день. Картины в стиле кубизма асимметричны и неправдоподобны, созданы грубыми штрихами и лишены реалистичности. В них не учтены перспективные аспекты и приглушена колоритная гамма. Вот и моя жизнь была асимметрична и неправдоподобна, без всякой перспективы.
Ну я ж говорю: кубизм, ебанутый на весь свой куб.
Относительность Эшера
А еще в кубизме практиковали относительность. Двадцать минут, после обеда. На обед, кстати, в кубизме был борщ. Всегда. Не знаю, почему борщ, и не знаю, почему всегда и как это вписывается в концепцию кубизма, ну если, конечно, в кубизме вообще есть какая-то концепция, – но на обед в кубизме всегда был борщ. Вкусный. Завтраки и ужины в кубизме были дерьмовые, полдника вообще не было, а вот борщ был… ну, как будто его Хуан Грис готовил или Жорж Брак. Вот такой борщ. Ебанутый на весь борщ. Как и сам куб.
Но я не про борщ сейчас, а про относительность. В кубизме практикуют относительность Эшера. Который Морис Корнелиус. А это вам не относительность Эйнштейна, с которой все свыклись. Да, не понимают, но свыклись. А Эшер, который Морис Корнелиус, – с ним сложнее. Во-первых, он голландец. Любой, кто хоть раз посещал кофешопы Амстердама, понимает разницу между этими относительностями. А во-вторых, этот самый голландец Эшер придумал и нарисовал мир, в котором законы нашей реальности не работают. И сказал, что это хорошо. Ну, может, и не сказал, но законы нашей реальности в его мире не работают. Кроме закона пищеварения. Поэтому меня после борща отправляли в относительность Эшера на прогулку. У Мориса Корнелиуса на литографии «Относительность» в одном мире объединены три реальности, и в каждой из этих реальностей сила тяжести перпендикулярна силе тяжести другой реальности. Ну я ж говорю – голландец. А еще у Эшера на картинке разные реальности соединены лестницами, и для людей, живущих в эшеровском мире, но в разных реальностях, одна и та же лестница – разные лестницы. Для одних она ведет вверх, а для других – вниз. Это неудобно. Поэтому в Моссаде решили эту проблему кардинально. Ну или в Шабаке решили эту проблему кардинально. В кофешопах Амстердама – там вообще все проблемы кардинально решают. В общем, Шабак это или Моссад, не знаю, но они убрали вообще все лестницы в этой относительности. Тебя просто выпускали в какой-то внутренний двор кубизма – если бы это было в Испании и в этом дворике были бы фонтаны и официанты, то это называлось бы патио; но фонтанов там не было, там вообще ничего не было, даже лестниц. А силы тяжести в разных углах этого дворика были перпендикулярны друг другу. Понимаю, что это невозможно понять, не будучи голландцем, ну или, по крайней мере, не побывав разок-другой в кофешопах Амстердама, но все было именно так. И пищеварению эта относительность Эшера действительно способствовала. Я думаю, что у кого-то из самых главных ромбов были нелады с желудком, и он испытывал на нас какую-то секретную разработку израильских медиков. Ну или это была секретная разработка израильских медиков совместно с амстердамскими кофешопами.

