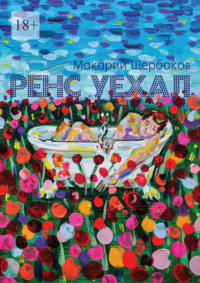
Ренс уехал
– Мне холодно.
Я безвольно выполняю приказы, понимаю, что лучше не сопротивляться. Поворачиваюсь, вижу надпись – она в таком устрашающем готическом стиле, и, надо признать, достаточно красивая. Я опускаю руки, отрешённо смотрю на брусчатку. Солнце в это время дня не попадает сюда – тут создалась добротная тень от дуба и влажно, на дорожках неистребимый мох. На нём-то я и спасаюсь от ледяных камней. Босыми ногами я пытаюсь сгрести под собой листья, чтобы выжить. Джейн умудряется ходить в лёгких туфлях.
– Есть. Ты молодец. Похож на сонного воробья.
– Какого?
– Сонного!
– Главное, ты довольна.
– Тобой – всегда. Распечатаешь в большом формате. Папина лаборатория ещё существует?
– Да. Мама надеется, что я плотнее займусь фотографией и перестану гипнотизировать людей.
– А ты?
– А я не перестану. Можно я пойду в дом? Я не чувствую ног.
Избавившись от прилипших к ступням дубовых листьев, я возвращаюсь домой. Сейчас он кажется особенно уютным и наполненным.
Я купил дом у престарелой пары, сами они отправились жить в Рим. Перспектива умереть именно там почему-то казалась им лучше. Перед продажей они долго расспрашивали меня о том, чем я занимаюсь и кто вообще такой, откуда у меня деньги и где моя семья. Пришлось представлять себя немного в лучшем свете. Им понравилось, что я владею компанией, люблю маму и что у меня есть недорогой автомобиль, а главное – я не иностранец. Также что у меня есть невеста и что у нас скоро свадьба и всё вытекающее. Хорошо, что мы в этот момент были на улице, иначе старый дом не выдержал бы такой лжи и похоронил бы нас в руинах. К слову, увидев наличность, они быстро всё подписали и растворились.
Дом действительно старый, в момент покупки требовал замены коммуникаций, ремонта крыши и окон, всё скрипело и воняло. Я понял, что купил не сам дом, а скорее возможность находиться на этой земле. Без лишних размышлений я приступил к ремонту. Изменения внешнего облика, например фасада, могли не разрешить в муниципалитете, поэтому снаружи я оставил всё как есть, даже сгнившие ставни висели до последнего, пока не обрушились в кусты роз.
В гостиной был большой камин. Он, как и всё в доме, нуждался в ремонте. Джейн сказала, что именно такие камины использовали для обогрева в Царском селе Ленинграда. Я поверил на слово. От старых хозяев остался большой дубовый кулисный стол с точёными ногами. За него можно посадить человек десять, и это примерно на девять больше, чем бывает в этом доме. Конечно же, таких слов, как «кулисный», я не знал до ремонта, но после того как Джейн повторила их примерно девяносто девять тысяч раз, у меня не было шансов не пополнить свой убогий словарный запас, в котором, кроме «синапсов» и «апперцепций», почти ничего не было. А нет, были ещё бесконечные названия кинофильмов и названия трамвайных остановок. Всё это лежало в трёхэтажном старом деревянном ангаре и ждало случайного пожара.
В доме было много старинной мебели, которую хозяева, по всей видимости, коллекционировали. Ничем другим такое обилие хлама не объяснить. Мы решили, что выглядит она мрачновато, и отвезли часть в галерею Джейн. Откровенное барахло постепенно утилизировали – оттащили на задний двор и под бутылку вина разгромили до нужной кондиции и сожгли. Кажется, именно тогда соседи впервые обратили на нас внимание.
В целом интерьер получился эклектичным, поэтому я предложил добавить немного современной мебели, так как этим старьём невозможно полноценно пользоваться – ящики комодов не открываются, постоянно отваливаются куски резьбы и шпона. Письменный стол – единственная старая мебель, к которой я подхожу ближе чем на метр. К счастью, я требую от него немного, а именно – просто быть.
Балки, открывшиеся после сноса перекрытия, неплохо сохранились, но всё же требовали обработки от насекомых. Сами насекомые от таких событий сразу сбежали, с ними даже не пришлось бороться. Джейн сказала, что старые хозяева увезли их с собой в бровях. В них же, видимо, они увезли и раздражавшую меня коллекцию фаянсовых башмачков, на которую я с презрением косился, пока был тут гостем. Только из-за неё я так яростно торговался и врал, что за цену вдвое меньше мне предложили дом через дорогу. Вот что могут сделать с человеком обычные омерзительные башмачки.
С обратной стороны дома есть веранда. В отличие от самого дома, она располагается почти сразу на земле, и кое-где в щелях между досками прорастает трава. Нам с Джейн это понравилось, и мы решили оставить так, поменяв лишь сгнившие доски. Сама же веранда используется летом, а зимой в ней стоят растения и садовый инвентарь. Мы не сразу поняли, что изначально веранда была остеклена, так как старые хозяева стёкла сменили на фанерные листы, и она предстала нам в довольно угрюмом виде. Мы вставили стекла в металлический каркас, и появились ажурность и свет. Между гостиной и верандой большое окно с деревянной рамой, разделённой на прямоугольные секции. Примерно на высоту роста окно прозрачное, поэтому веранда хорошо видна из гостиной. Выше – квадраты из стекла разного цвета. При желании это большое окно можно закрыть плотными шторами, которые любит Каризма. Во время заката солнце находится на этой стороне и примерно час светит сквозь веранду. На белой стене появляется красивая цветная полоска.
В центре гостиной стоит огромный бархатный фиолетовый диван с золотистой бахромой и пуговицами. Немного вычурно, но в чём я разбираюсь?
Любовь Джейн к брутальному уюту и коврам не обошла стороной и это место. Ковры тут на любой вкус – персидский в гостиной, различные циновки в ванной и прихожей, гладкие турецкие и пушистый ковёр в спальне. Каризма уважает его как соперника – постоянно охотится за ним, будто тот подвижен.
Стены в ванной отделаны квадратной плиткой, на полу плетёная корзина и голубой ковёр с нелепой длинной бахромой. Сам пол, как и во всём доме, из лиственницы – старые широкие доски с трещинами и сучками. Ванна стоит в центре, так что к ней можно подойти с любой стороны. Сушилкой для полотенец служит старая деревянная стремянка с красивой фурнитурой. Эта стремянка – единственное, что мы с Джейн отреставрировали сами. Занимались этим примерно два месяца. Ванная комната достаточно большая, даже поместилось размашистое кожаное кресло, деревянная вешалка и небольшой шкаф со всякой ерундой. Тут же стоит столик, который в прошлом, видимо, был частью интерьера зубного или процедурного кабинета. Символично, ведь именно с зубоврачебных кабинетов мы когда-то начинали с Брайаном. И самое главное – в ванной есть окно. Точнее, целый балкон. Никаких занавесок не нужно: снаружи всё густо заросло виноградом и подглядывать особо некому. В общем, эта ванная ощутимо превосходила масштабы моей личности и прекрасно подходила для поднятия самооценки в трудный период. Такой, как сейчас.
При всей любви Джейн к изобразительному искусству, в моём доме она сдержалась. Картин тут немного, всего около восьми, точнее, ровно восемь – наивное трио из цветов в прихожей, неизвестные мне импрессионисты в коридоре, а на кухне репродукция Снейдерса – лошадь, покушающаяся на капусту. В моём кабинете висит картина в духе Эдварда Хоппера. Она не вписывается в провинциальный интерьер, но мне нравится. Есть в ней нужная лаконичность и тоска. В кабинете установлена стереосистема, и туда же выходит задняя часть камина – по сути, такой же камин, только поменьше. Рядом с ним стоит модернистское кресло и торшер. Почти во всю стену, от входа в кабинет до окна, – шкаф с книгами, которые принадлежат в основном Джейн и больше не помещаются в её крошечной квартире.
На второй этаж из прихожей ведёт винтовая лестница с узкими дубовыми ступенями. По ней мы поднимаемся только в ванную, поэтому теснота лестницы нас не сильно тревожит. Под этой лестницей есть ещё одна – в подвал. Там находятся бойлерная и импровизированный винный погреб, в котором пока что стоят одни ящики с пивом. Вино в этом доме выпивают сразу, как только видят.
Дуб, который мешал Джейн сфотографировать меня, растёт у самого входа. Он заставил меня переехать из спальни на втором этаже в гостевую на первом: ночью по крыше барабанят жёлуди. Причём дробь эта слышна круглый год, будто крыша уже сама по себе запомнила этот звук, привыкла к нему и записала, словно на плёнку.
Кое-где по периметру двора мы посадили вязы, привезли их из питомника. От прежних жильцов остались кусты роз – настолько старые, что существуют уже сами по себе, – а также заросшие клумбы неясных очертаний и содержания.
От дороги нас отделяет небольшой хлипкий забор и поредевшая живая изгородь, которая служит скорее для поддержания этого забора. Машину ставлю во дворе, но, наверное, стоит смастерить навес, как у соседей: с ёлок постоянно падает жёлтая липкая пыльца.
Из окна кухни видны четыре свежие грядки. Джейн решила, что иметь землю, пусть даже такой небольшой участок, и совсем ничего не выращивать – хамство. Пока на грядках ничего нет, кроме пары торчащих палок.
К слову, Джейн, женщина, которая всё это придумала и вместе со мной создавала, в конце концов сообщила, что жить тут не собирается. Сделала она всё это для того, чтобы иметь, как она выразилась, возможность приезжать сюда в отпуск и не превращать пребывание здесь в повседневность. Жить она будет, как и прежде, в своей маленькой квартирке в Шпангене, в районе с иностранцами и иммигрантами, а мой дом для неё – склад книг, одежды и временное пристанище. Последнее я, конечно, додумал сам.
Зато у меня есть Каризма. Когда мне странно от дивана, картин или штор, я представляю, что всё это принадлежит ему. Нравственные установки не отягощают его быт. Его решение о том, где он будет спать, зависит лишь от расположения согретого солнцем участка ковра.
5. «Новая верность»
Рано утром раздался телефонный звонок. Я аккуратно выполз из-под одеяла, стараясь не разбудить Джейн, и по прохладному полу отправился в прихожую, где стоит телефон.
– Добрый день, я из газеты «Новая верность». Хотел бы задать пару вопросов о вчерашнем инциденте.
– Что за «Новая верность»? И сейчас семь утра.
– Что? Да, я знаю. Так вы можете ответить на вопросы?
– Вы говорите «добрый день», а сейчас раннее утро. Какие вопросы?!
– Наш корреспондент случайно стал свидетелем происшедшего. Я про вашу невесту, которая разрисовала стену вашего дома. Что означает написанное? В каких вы отношениях? Почему она так себя вела?
– Подождите, это не моя невеста! Я знаю не более того, что видел ваш корреспондент.
– Хотелось бы получить больше комментариев.
– Я не знаю эту девушку, сейчас с ней разбирается полиция. Прощайте!
Я бросил трубку и пошёл обратно в спальню, по дороге схватив Каризму под брюхо: он, как обычно, ошивался рядом и клянчил еду. Ему придётся ещё часок подождать.
Как только я зашёл в спальню, раздался второй звонок. На этот раз из-за открытых дверей он звучал пронзительнее, и Джейн проснулась. Я быстро зашагал обратно.
– Да.
– Всё-таки скажите, как она нашла вас? Какие у неё претензии? В Блумендале не каждый день такое происходит. Это связано с вашей работой?
– Издеваетесь? Я вам всё сказал, хватит названивать!
– Но вы не ответили ни на один вопрос.
– Я ничего не знаю!
– Вы узнали в этой девушке одну из своих клиенток или это ваша бывшая подруга?
– Я же сказал – никаких сплетен для вашей «желтухи» у меня нет.
– Мы будем вынуждены самостоятельно провести расследование. Сейчас я даю вам шанс на это повлиять. Случившееся обеспокоило соседей и ваших клиентов, они имеют право знать, что происходит.
– Вы даёте мне шанс? А как насчёт шанса пойти на хрен?
Я снова бросил трубку.
Поняв, что со сном на сегодня покончено, пошёл на кухню кормить кота. Поставил кофейник на плиту, отправился в бойлерную: за ночь в доме стало прохладно – нужно растопить котёл. Пока я возился с дровами в подвале, наверху раздался третий звонок. Я всё кинул и в бешенстве, роняя тапки, побежал наверх.
– Вашу мать! Что вам ещё непонятно? Я не…
– Ренс. Это твоя сестра Корнелия. Тётя вчера умерла. Ты же помнишь её?
– О, Корнелия, привет, прости, мне тут назв…
– Во вторник похороны, она тебя вроде как любила. В детстве. Если хочешь… В общем, есть возможность прийти попрощаться. Я не настаиваю.
– Я… Хорошо, да, мы придём. Какое кладбище?
– «Уд-Эйк-ен-Дуйнен». В восемь.
– Договорились.
– И ещё кое-что. Она не очень-то справлялась с делами последнее время, так что накопились долги. Сами по себе они никуда не денутся, так что если ты, в память о ней, смог бы… ну, понимаешь.
– Хорошо. Да, я понимаю. – На самом деле я не понимаю.
– Есть ещё кое-что, расскажу при встрече. – Корнелия прервала связь, не дождавшись слов прощания.
Положив трубку, я недолго смотрел в одну точку на стене прямо над телефоном – на стебель цветка. В какой-то момент видимые очертания его потеряли былой смысл, я медленно и сонно вытер пальцами глаза, вздрогнул от холода и пошёл в гостиную.
Джейн уже встала и готовила завтрак на кухне. Каризма, сытый, валялся у неё в ногах и вытирал морду лапами.
– Кто это названивает всё утро?
– Те, кто не умеют принимать отказы.
– Много таких знаю, чего же они хотят от тебя?
– Слышала про газету «Новая верность»?
– Значит, есть и старая?
– Вот и я нет. Хотели наскрести материала для своих мерзких статеек. Но я был непробиваем, и говнюк остался ни с чем.
– О, эти падальщики найдут чем поживиться, и ты узнаешь много нового о себе. Может, зря ты им ничего не сказал. Я говорю тебе это, так как имею опыт общения с так называемыми «обозревателями культурной жизни». Лучше что-то из себя вытащить, даже если не хочется, иначе они придумают своё – совершенно бездарное.
– Где же ты была всё это время?
– Где и положено – в твоей кровати.
– Ещё звонила Корнелия. Тётя умерла. Зовёт на похороны. Хочет каких-то денег.
Джейн в предвкушении борьбы с моими этическими терзаниями берёт кофе и усаживается за стол, закинув ногу на соседний стул. На ней безразмерный свитер на голое тело и нелепые вязаные носки, которые совершенно непонятно откуда взялись.
– Рассказывай. Вижу, всё непросто.
– Говорит, у тёти накопились долги и теперь они на ней, а я должен компенсировать. Она не сказала это прямо так, но понятно – она думает, что я в долгу перед тётей.
– Откуда эта глупость?
– Кажется, в детстве тётя любила меня больше Корнелии. Это в двух словах. Всё сложнее, но, видимо, сейчас она пытается спекулировать именно этим.
– Классика. Что будешь делать?
– Принесу немного и дам понять, что меня это не волнует. Как я вообще узнаю, что история про долги не выдумка и это именно долги тёти, а не самой Корнелии? Не хочу в этом разбираться. И есть ещё что-то, о чём она намерена рассказать при встрече. Я заинтригован, так что придётся идти. Пойдёшь со мной?
– О да, обожаю похороны! Люблю их даже больше свадеб. Всегда интересно наблюдать за фальшивыми эмоциями. К тому же надо выгулять некоторые чёрные вещицы. Ты в чём пойдёшь? Будем, как в кино, в одинаковых очках и плащах?
– Не уверен, что формат подразумевает возможность щегольнуть, ты же знаешь моих родственников. Да и не люблю дразнить людей.
– Как хочешь, а я приоденусь. Такой повод нечасто бывает. Вдруг рядом будут другие похороны и на них люди будут одеты модно, а я не пойми в чём. Сам понимаешь.
– Не переборщи. Полагаю, будет нервозная обстановка.
– Я питаюсь любой энергией.
В детстве мама отвозила меня на Юг, к тёте. На всё лето. Ездить туда на меньшее время смысла не было. В городе, кроме Рика, я никому не был нужен, а дорога до дома тёти занимала два дня. Долгий путь на поездах и автобусах. Мать привозила меня, оставалась на неделю и уезжала.
Я был предоставлен самому себе. За каникулы успевал покрыться загаром и заметно одичать: на языке местных я не говорил, а природа вербального контакта не требовала. Я наблюдал за окружающими, вёл дневники поведения разных персонажей, живущих неподалёку, дружил с крупным рогатым скотом, кошками и избегал встреч с гусями, ездил на велосипеде на море ковырять палкой песок, находил и отбирал коряги и прочий природный мусор, появившийся из воды. Из нормальных детских занятий я любил строить шалаши и оставлял пометки на крупных камнях и деревьях – для составления карты. Я старался не пересекаться с другими детьми, так как немного опасался их. Казалось, у них тут что-то вроде детской мафии, а, как известно, с мафией шутки плохи.
Совсем избежать общения не получилось, и однажды, когда я болтался на заброшенном футбольном поле с мячом, группа из пяти мальчишек и двух девчонок всё-таки прилипла ко мне. Их, наверное, заинтересовала моя экзотическая внешность, но что более вероятно – новый футбольный мяч. До появления ребят я играл сам с собой, пиная мяч об стену. Наконец мне пригодились мои домашние тренировки, и даже языковой барьер не сильно мешал нам проводить время. Мы починили развалившиеся ворота, выкорчевали кое-где проросшие кусты и стали часто приходить на это поле.
Всё было хорошо до момента, пока одна из девчонок не увидела мой дневник и не узнала в примитивном портрете на полях свою мать. Далее последовал странный разговор дома с тётей и мамой этой девочки. Сложно было понять, за что именно меня ругают, но, кажется, нужно было устыдиться рисунков. Долго выясняли, что же написано в дневнике, но тётя меня не сдавала – говорила, что это стихи и, вероятно, все эти люди мне нравились. Ход оказался неочевидным, и это сыграло дурную роль в моём общении с ребятами: их ужимки говорили о том, что испытывать любую симпатию к людям – позорно. Мне было сложно объяснить написанное в дневнике. И дело не только в языковом барьере, но и вообще – сложно объяснить это даже самому себе.
С тех пор я понял одно – любое внимание к эмоциям людей будет воспринято как попытка разоблачения, выявления слабости. Будто до момента написания об этом на бумаге или фиксации в виде портрета люди скрыты от меня за матовым стеклом, а чернила, как вода, делают это стекло прозрачным. Если ты обладаешь недовольной рожей, никто об этом не узнает, пока маленький мальчик не сделает лёгкий набросок этой самой рожи. Недовольных рож вокруг много. Но интересны они не столько своим недовольством, сколько тем, как реагируют на разные события. В чём отличие их реакции от реакции людей вполне довольных?
Технически мой дневник был устроен так. Вначале я описывал явление, например кота, который любил ходить по всем соседям и выпрашивать еду. Это был общий кот, знали его под кличкой Зора. Потом я писал про людей, которые взаимодействовали с этим котом – кормили, прогоняли или только гладили. Кто-то был нейтрален – выставлял блюдца на пути следования Зора, не общался с ним и принимал это как устоявшийся порядок. Кто-то был эмоционален – разговаривал с котом, гладил, но не кормил. Но были и такие, кто постоянно гонял кота, матерился, однако при внимательном наблюдении выяснялось – они пускают кота не просто за забор, а иногда к себе в дом, где кормят его тем, что едят сами, иногда вычёсывают колтуны с зада и дёргают клещей. Такие люди интересовали меня больше всего. Я понимал, что их поведение определяется собственными представлениями о справедливости и равновесии, согласно которым эти люди пытаются выстроить жизнь вокруг себя и которые в данном случае распространяют на кота Зора: ты получаешь все доступные блага, но не забывай, что мир жесток. Такие люди уверены, что испытать жестокость и страдания – необходимый этап, пройдя который ты сможешь чуточку приблизиться к счастью, и грош цена благам, полученным иным путём. Конечно же, свою доброту эти люди всячески скрывали, и не дай бог, чтобы кто-то раскусил их, нашёл мягкое место – сразу там будет торчать стрела с ядом. Тем не менее многие, в основном старые, люди, за которыми я вёл слежку, не казались счастливыми в конечном итоге, а итог их близился. Будто они так сильно увлеклись процессом инвестирования в страдания, что уже не могли выйти из сделки и обналичить прибыль. В детстве я, конечно, не мог подобрать подобные метафоры, так что ограничивался простым непониманием.
Мне сложно было найти собеседника и выяснить, так ли на самом деле несчастны эти люди, и вообще, обсудить вопрос счастья, понять, есть ли другие варианты человеческого существования, кроме обмена страданий одного вида на страдания другого. Я понимал, что разговоры со взрослыми так или иначе приведут к попытке указать мне на моё место, праздное времяпрепровождение и, наконец, к вечному аргументу, что я не дорос до подобных рассуждений. Сверстники не дотягивали до моего уровня, старость для них была чем-то несбыточным, обсуждать это никому не хотелось.
Мы с тётей жили в доме вдвоём, иногда приезжала Корнелия, и это было странно, ведь она родная дочь тёти. Как выяснилось позже, она предпочитала проводить лето с бабушкой. Иногда Корнелия приезжала с отцом, и я был свидетелем их эмоционально бедных отношений.
Отец Корнелии, дядя Марк, занимал меня всякими делами, которыми, как ему казалось, должны заниматься дети в моём возрасте и чего я недополучаю по причине отсутствия рядом отца. Так, мы оборудовали небольшую столярную мастерскую в опустевшей кладовке и делали разные мелкие изделия. Он купил инструменты, учил меня настраивать рубанок и огромную лучковую пилу, точить стамески и ножи. Пилой мы распиливали небольшие яблоневые брёвна, учились делать соединения, и получались скамейки и табуреты, подставки под цветы и прочая ерунда. Такая нехитрая практика помогла мне понять одну вещь – ничего и никогда ты не сможешь сделать в этой жизни так, как запланировал, и придётся радоваться любому, даже далёкому от идеала, результату, а значит, придумывать иные смыслы, помимо прикладных и очевидных. У меня не было высоких требований, но самая первая реакция на процесс заключалась в том, что вложенные тобой силы никогда не окупятся результатом, если под результатом ты имеешь в виду объект труда. Важен не путь, не цель, а какой-то ореол вокруг всего этого. И интенсивность этого ореола задаётся тобой самим. Эта идея обосновалась в голове так прочно, что в дальнейшем я масштабировал её на многие процессы в жизни, в том числе на разработку и реализацию проекта ERA.
С этим багажом я возвращался с Юга домой и пытался использовать его в жизни, но получалось не всегда. Многие вещи требовали, так сказать, прямого целеполагания. Опыт летних наблюдений помог разобраться с перспективами на дальнейшее обучение. Настоящие серьёзные технические науки с моим подходом казались не по зубам. Вообще, всего, что имело только одно решение и требовало предельной точности, я старался избегать. С одной стороны, это слишком сложно, а с другой – совершенно непонятно, зачем решать задачи, которые заведомо имеют только одно решение, и кто-то умный с этим уже разобрался. Наверное, меня не впечатляли дамбы и прочие вопросы контроля водной стихии. В общем, я всегда был близок к науке, но никогда не принимал в ней непосредственного участия из-за страха неисправимой ошибки. Как оказалось, допуск к ошибкам и их цена от точности наук не зависят.
Разобравшись с планами насчёт похорон и наглых репортёров, мы с Джейн провели воскресенье дома, а утром в понедельник отправились в центр: я – на работу в офис, а она – на встречу с художниками по поводу новой выставки, что-то про Ренессанс и Африку. По дороге она попросила остановиться у аптеки, а я ради интереса решил зайти посмотреть, как представлена наша продукция. Сам того не ожидая, я запустил процесс по распутыванию клубка с загадочными сумасшедшими, вести о которых стали поступать всё чаще.
На прилавке рядом с кассой я увидел каталог ERA. Каталог предназначался для внутреннего использования, но лежал он не со стороны кассира, а снаружи – так, что любой желающий мог его пролистать. Фармацевтам надоело отвечать на вопросы о том, какие бывают разновидности ERA, и участились случаи, когда люди приходят и не знают, какой именно номер препарата им нужен. Кассиры не хотят брать на себя ответственность – пусть покупатели сами выбирают подходящий вариант. Каталог весьма невзрачен, без логотипов и красивых картинок, всё напечатано на простой бумаге, единым шрифтом, что-то обведено ручкой, некоторые страницы загнуты и заляпаны. Меня это возмутило, я даже не знаю, что больше – факт такого нарушения логики продажи или подрыв образа нашего предприятия убогими мятыми каталогами, которые по сути и не каталоги вовсе. Прежде чем устраивать скандал, я решил разобраться на совещании: вдруг у партнёров иной взгляд на проблему.
Многие препараты сгенерированы на основе наших с Брайаном старых исследований и потребностей клиентов, но нужно придумывать новые, а для этого изучать рынок – просматривать опросы, письма тех, кто не смог найти подходящую разновидность ERA. Мне нравится их читать – представлять жизнь людей. Я открыл для себя много способов делать нечто осознанно, но при этом совершенно бессмысленно. Жениться, рожать детей, учить языки, учиться играть на инструментах и заниматься всякой ерундой, которая лично у меня потребовала бы устойчивой мотивации. Пассивное наблюдение за клиентами напоминает работу в «Синераме»: я тогда тоже не понимал, зачем ходить на комедии и не смеяться. В мои рабочие обязанности также входит просматривать еженедельные отчёты по тестам препаратов и различным исследованиям, обсуждение с Брайаном новых идей и изучение конкурентной продукции.