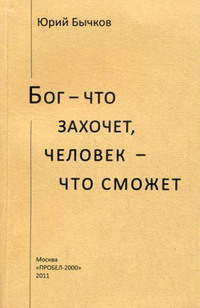
Бог – что захочет, человек – что сможет
Высказался: «Огрызок!» Да, огрызок, но какой ценный! Последние годы картошкой с этого «огрызка» весь дачный период питается семья, приезжающие в гости родные и знакомые.
Пока официально через Троицкий сельсовет за нами не закрепили все тридцать соток усадьбы Ширшиковых, обходились землёй, непосредственно окружавшей дом с подворьем. Здесь и развели первоначально порядочный огород. На этом пространстве в своё время располагался с посевом огородных культур, включая капусту, которую солили и квасили на зиму бочками, рачительный хозяин, наш предшественник, Фёдор Ширшиков. Какой славный, трудолюбивый человек – мастер на все руки, талантливый плотник, выстроивший полдеревни. Хозяин. По сей день чувствуется его присутствие в рубленной руками большого мастера избе, просторном и ладно выстроенном заедино с домом хозяйственном дворе. Вечная память ему творениям рук его, а душе Фёдора Ширшикова в Божьих угодьях пусть будет радостно всегда!
В двадцать девятом его кобылу Зорьку (старший сын, Андрей Фёдорович, рассказывая мне историю семьи, упомянул кличку лошади) свели на колхозную конюшню. Подарок судьбы то, что Фёдор, пока лошадь была при нём, успел построить дом с двором для всех хозяйственных надобностей. Отменного качества крестьянская постройка! На причелине Фёдор Иванович выжег раскалённым кованым гвоздём: «1928 год». Изба и по северному обычаю под единой крышей с ней столь же добротно выстроенный двор со стойлами, хлевами и закутами для живности стоит, не покосившись, не шелохнувшись, восемьдесят с лишком лет. Знатная работа высококлассного плотника! В Криушкине произносят «мы плотники», с ударением на последнем слоге. Не ради шика это так делается, а как признак самостоятельности местного говора.
В последние годы, после того, как я под все углы дома подвёл кирпичные фундаментные столбы и прогнал по периметру дома и двора каменную ленточку, зять Владимир Николаевич Николенко, прирождённый инженер, кандидат технических наук, спец по компьютерным технологиям, спроектировал на вычислительной машине новое, просторное, светлое, отвечающее современным санитарно-гигиеническим нормам жилище, привязанное к фундаментам, о которых только что сказал, и к срубу классическому (шесть на шесть) избы. К избе Владимир Николаевич проявил подчёркнутое почтение: сруб, клеть (особое помещение для хранения вещей и продуктов) и сени сохранены в неприкосновенности как памятники русского деревянного зодчества, и притом каждое брёвнышко, каждая половица (округлый брус в полбревна) очищены от пыли и копоти времени и покрыты тонирующей мастикой. Что за строение в итоге сотворилось? Современный двухэтажный коттедж со встроенной в него первозданной конструкцией – избяным срубом.
Ясное дело, пребывать в созданной Фёдором Ширшиковым избе, не подвергнув её переосмыслению, мы не собирались. В первый день хозяйствования разобрали перегородку, выделявшую маленькую кухоньку при печи от остального пространства.
Досок, из коих сооружена была в своё время перегородка, чистых, отменно гладких, сухих, легких, прогонистых хватило на то, чтобы по всему периметру избы, исключая печной угол, устроить подпотолочные выставочные полки, торцы которых для важности я выкрасил киноварью. Яркий красный цвет «поджёг», несколько разогнал серый избяной сумрак, по которому экспозиторы, я и Женя, ударили всей красочной силой многочисленной игрушечной рати. За пятнадцать лет супружеской жизни в путешествиях по родной стране (так тогда выражались с ёрническим привкусом молодые интеллигенты) была собрана неплохая коллекция произведений народных мастеров. Они и стали первым вкладом в преображение жилища Ширшиковых в дом Бычковых. (За последующие десятилетия подрастающие поколения – дети, внуки, племянники и их сверстники – не просто любовались, а жили в обнимку с этим игрушечным царством и перекалечили всё, что им было по силам сломать и расколотить: ноги, головы, хвосты сказочных, диковинных зверей и птиц приходилось склеивать, связывать, сшивать разными способами, но, думаю, что при близком общении с творениями художников-фантазёров эстетическое сознание, вкус, фантазия подрастающего поколения нашей фамилии возрастало, а мои дети и внуки в свою очередь передавали своим детям и внукам ответственную роль играющих с высококлассными образцами народного искусства. (Примером возврата долга, ответом добром на добро я считаю организованную и с блеском проведённую в Государственном музее «Царицыно» выставку «Дети нашего двора», в которой приняли участие известные московские скульпторы, живописцы и закопёрщиком которой стал мой сын Сергей Бычков, выросший в известного мастера скульптуры в числе других плодотворных влияний и благодаря общению с глиняной игрушкой.) Конечно, в домах коллекционеров из числа тех, кто не удосужился обзавестись детьми, игрушки музейного достоинства пребывают в благости, тишине и покое. Однако мы с супругой Евгенией Серафимовной не сожалели, не огорчались до слёз, оттого что дети и внуки практически превратили в глиняные руины подаренные мне в далёкие шестидесятые годы знаменитой каргопольской мастерицей Ульяной Бабкиной двадцать работ. Не сомневаюсь в том, что Сергей Бычков, основательно постиг самобытную пластику Ульяны Бабкиной.
Мой друг, загорский художник Иван Сандырев, побывав в апреле семьдесят пятого года в Криушкине, оставил на память о себе сложносочинённое монументальное произведение «Сусанна и старцы». Библейский сюжет – старцы, подглядывающие за уснувшей под сенью смоковницы юной красавицей Сусанной, – композиционно был решён Сандыревым оригинально, изобретательно. Сусанна контуром с изящной моделировкой форм лица и тела была написана на белёной печи, в один приём, ала прима. Так пишут фрески – композиции по сырой штукатурке. Нечто подобное представлял собой боковой фасад русской печи, накануне выкрашенный белой-пребелой извёсткой. Запёчатлённая лаконично, одной непрерывающейся линией, роскошная, совершенная фигура молодой женщины пленяла, восхищала, очаровывала. Старцы, по воле художника, попали в раму однополотенной входной двери, что возбуждало зрительскую фантазию. Открывающаяся и закрывающаяся то и дело дверь рождала эффект суетливой озабоченности старцев. Они, их изображения в раме двери, снуют туда-сюда в стремлении охватить лукавым подглядыванием всю фигуру прелестницы, полюбоваться ею в разных ракурсах.
Сусанну и старцев Иван Тарасович писал в солнечный апрельский день. Мы с Евгенией, пока он работал, выставили зимние рамы, и я распахнул створки смотрящего в сад окна. Подобно тому, как густой, радостной толпой, теснясь, подпихивая друг друга, вваливаются в дом долгожданные, приехавшие издалека, желанные гости, так в избу из сада хлынул вольный, напористый воздух, согретый весенним солнышком, настоянный на ароматах начавших раскрываться духовитых листьев смородины, черёмухи, вымахавшей из земли пряной крапивы, источающей травяной дух сныти, изливающих снеговую свежесть первоцветов, толпящихся в середине апреля на крохотных полянках прореженного вишенья и старых яблонь. Крепко запомнился мне Ваня Сандырев, сидящий в избе у отрытого окна, вдумчивый и просветлённый.
В мастерской Сандырева довелось мне познакомиться с лидером и одним из основателей школы владимирских живописцев Кимом Бритовым. Открытый, звучный, сильный в тональном отношении цвет. Краски не смешиваются, а кладутся рельефными мазками – так достигается особая пластическая выразительность. Так, подобно нотам в музыке, строятся цветовые созвучия. На холсте или картоне зритель, разглядывая работу живописца, видит, что сохраняется форма мазка, которую придаёт ему кисть или мастихин. Мощный, рельефный красочный слой обеспечивает цветовую интенсивность, эмоциональную напряжённость картине. Ким Николаевич так же картинно, запоминающе рассказывает о себе.
– Я коренной житель владимирской земли, – с гордостью произносил он. – Детство моё прошло в Коврове. Пейзаж как основное направление в творчестве появился не случайно. В детстве проводил целые дни в пойме, где кристально чистая и глубоководная в то время река Уводь вливала свои воды в Клязьму. Ночные рыбалки, дубовая роща, на берегу реки, большой остров напротив текстильной фабрики, полный щебета птиц, – тогда я испытал удивительное чувство слияния с природой.
– А древние города с могучими крепостными стенами, толпы народа на площадях…
– И это тоже издалека идёт, из времён ранних лет моей жизни… Например, когда жили в Коврове, врезались в память торжища на четырёх – пяти площадях, необстроенных, больше похожих на пустыри. Я, мальчик, жадно наблюдал базарную толкотню, эту невероятную пестроту, которая непрерывно менялась, смешивалась, двигалась. В конце тридцатых наша семья переехала во Владимир. Цвет владимирской вишни, владимирский пейзаж со своими архитектурными памятниками, имеющими всемирное признание, влияли на моё сознание, да ещё как! Есть художники, которые работают сразу во многих жанрах, не задумываясь над тем, что же для них главное. Я – пейзажист, пейзажист по призванию.
Как-то Бритов вместе с товарищем по творческим поездкам Володей Гольцеым воспользовались моим гостеприимством в мартовскую пору, когда наблюдается цветение снегов, писали по целым дням начало весны, а в вечернее время к их услугам – деревенская баня. В знак благодарности, на память они расписали створки дверей привезённого из Москвы старого буфета. Приятели принялись за работу поутру, и не прошло трёх часов, как раз к обеду с водкой, щами из той самой, с Сусанной, русской печи, с рассыпчатой картошкой и неподражаемыми огурчиками из дубовой бочки, что пребывала в подполе, два шедевра были сданы заказчику с рук на руки. Написанный по памяти Кимом давным-давно освоенный сюжет – оживлённое, залитое солнцем, бурлящее торжище на фоне красных стен города-монастыря – много добавил красочного огня, вконец разогнав серый сумрак интерьера избы Аграфены и Фёдора Ширшиковых.
– Я, отображая старину, – принялся разъяснять Ким Николаевич, – стараюсь вымётывать на холст то, что живёт во мне, а не просто зарисовывать сейчас увиденное.
Володя Гольцев темой взял особый, располагающий к душевным излияниям уют вечернего деревенского чаепития. «Наша ветхая лачужка и печальна и темна, что же ты, моя старушка, приумолкла у окна», – зазвучал во мне романс на пушкинские стихи, когда разглядывал Володин живописный дар. На картине Гольцева за столом у самовара я и Евгения Серафимовна, преображённые в «старика» и «старуху». Вдаль глядел художник! «Лампочку Ильича», голый стеклянный баллончик, вскоре заезжий дизайнер «упрятал» в деревянно-стеклянную люстру ручной работы.
Немного времени прошло с начала обживания на наш манер дома Ширшиковых в Криушкине, как преображение ускоренным темпом пошло к своему завершению. Оставалось бельмом в глазу возвышающееся рядом со входом в избяной простор современное мебельное диво – одностворчатый платяной шкаф, высокий, узкий, белый-белый. Его безукоризненная, незапятнанная белизна воспринималась как вызов цветному, живописному миру, овладевшему всем пространством русской избы с тёсаными, гладкими золотисто-коричневыми стенами, пленявшими всех без исключения благородным тоном.
Однажды, явившись на уик-энд из Москвы в Криушкино, мы с изумлением не признали за свою вещь тот самый, белый-белый, как пословичная белая ворона, предмет мебели. Платяной шкаф превратился в расписанную сверху донизу, по фасаду и с боков, драгоценную шкатулку очень большого размера. А каковы сюжеты росписей! В парадной колеснице восседают ОН и ОНА в богатых купеческих нарядах и с блаженством на молодых лицах. Так выглядела разделанная под городецкую роспись дверца шкафа. Праздничную композицию венчала стилизованная под девятнадцатый век надпись: «Слава Бычковым!» На боковых стенках, распластав радужные крылья, парили жар-птицы. Что за чудеса? Каким образом произошло преображение «белой вороны»? На столе, под божницей, лежало письмо, в котором Валентин Никольский сообщал: «Это я в отсутствие хозяев испортил аккуратненький беленький шкаф».
В пору расцвета наших с ним дружеских отношений написано стихотворение «Се человек», которое не считаю зазорным привести здесь в доказательство того, что меня Никольский и его домашние пленили, утопили в своём чистосердечии; как к степени их доброты приблизиться, не знал и вот разразился стихами:
Глава семьи – Никольский Валька.В среде художников – почтенный Валентин.От всей души, друзья, давайте-каЕго труды и дни почтим.Прикован, словно Прометей, к скале,Он навсегда к коляске инвалидной.Мать да сестра – в оконце светВ сей юдоли печальной и незавидной.Дом для всех открыт, без изъятъя —Заблудшим, жаждущим беседы.Сюда я приводил приятелей,Здесь знал триумфы и победы.Таланты открывая зряшные,Они любовью их дарили.Дела надрывные, сердешныеМы на их головы валили.Ему пристало бескорыстие.Как мало их, кто любит сирых больше, чем себя.Он православным был воистину —Христа, как истину, всем сердцем возлюбя.И не с брюзжаньем, а с заботой,Любой большой вопрос страныВ семье Никольского обсудят:«Что наверху там скажет кто-то!Мы сами голоса не лишены».Знакомство моё с Валентином Михайловичем Никольским, художником-графиком, удивительной доброты, душевной щедрости человеком произошло в начале шестидесятых. В сознании моём этого человека – по всем данным, сверхпочтенную личность – держу с игривым благоутробием за Вальку Никольского, как его величал Володя Великанов, который нас познакомил. Но всё по порядку…
Третья книга трёхчастной саги «Предназначение», как бы автор ни вольничал, перескакивая порою с одной эпохи в другую, подобно юным храбрецам в половодье, во время ледохода, прыгающим со льдины на льдину, общий поток времени в повествовании имеет место быть. Вполне осязаема в первой части («Сказать да не солгать») эпоха тридцатых – сороковых годов, и отчётливо, рельефно проступают контуры эпохи пятидесятых в книге «На дороге стоит – дороги спрашивает». Автор намерен, как в его жизни и в жизни страны происходило, в третьей книге «Бог – что захочет, человек – что сможет» по возможности последовательно, как течёт река времени, рассуждать, вспоминать, рисовать картины характерного проявления черт эпохи политических старцев, а затем и эпохи исторического перелома восьмидесятых – девяностых годов. Намерен использовать все, доступные мне, формы литературы, способы писательства. Профессионалом стал я, по моей прикидке, в начале шестидесятых, когда пришёл в газету «Советский спорт» на штатную работу в качестве литсотрудника, где моим наставником на первых порах оказался Володя Великанов.
Володя Великанов… Фамилия не редко посмеивается над носителем вензеля (В. В. в данном случае) в родовом гербе. Ростом он в великаны не вышел, но и – «коротышка, метр, с кепкой» – это не про него. Тихо, приглушённо, как бы под сурдинку, скажу: «Мужчина ниже среднего роста». У него, в самом деле, всё ниже среднего роста. Всё написанное им не оставило следа, потому что сиюминутное, неприметное, так, кое-что, о промелькнувшем и не запомнившемся. Одёжа на нём как бы подрубленная, снизу и сверху. И это, на удивленье, шло к нему. Он носил тупоносые ботинки, и оттого казалось, будто они с обрубленными носами – нарочно, для смеху, с обрубленными носами. Соответственно, и брюки коротенькие и зауженные. Кургузый пиджачок. Так и хотелось бесстыдно сострить: «недомерок Великанов». Но острота – не, ах, какая – всякий раз застревала в горле.
– Старик, – чуть-чуть картавя, обратился он ко мне, не поднимаясь из-за стола, не прекращая своего вечного занятия – прочистки растянутой в металлический стерженёк канцелярской скрепки, служившей чем-то вроде банника, коим пушкари после боя чистили укороченные медные стволы мортир; Великанов извлекал с помощью этого стерженька из коротышки-мундштука нагар, густую тёмно-коричневую массу, ядовитую смолу – табачный сок. Прочистив канал, по которому в его лёгкие посредством затяжки втягивался вонючий густой дым, он втискивал в мундштучок коротышку-сигаретку сорта «Новые» и укороченными фразами озадачивал меня:
– Шеф, уходя по делам, тебе приказать изволил взять интервью у композитора Аркадия Островского. Повод – «Футбольная песенка», им написанная.
– Знаю, помню… «На лучистом, чистом-чистом небосводе…»
– Заткнись, – прервал он моё пение. – Хорошо, что помнишь. О чём с композитором говорить, ты знаешь лучше меня…
– Скажи, Володя, он, как все знаменитые музыканты, живёт в доме Шульберта на Неждановой?
Ресторан в полуподвале дома, в котором жили именитые композиторы, в обиходе журналистов-газетчиков по памятной всем реплике Бывалова, персонажа кинофильма «Волга-Волга», прослыл, как «подвал в доме Шульберта».
– Ага, – не отвлекаясь от основного в жизни занятия, курения, промычал Великанов. Он вновь сладострастно затянулся, пыхнул в мою сторону дымом и благожелательно улыбнулся пухлыми губами, прокуренными зубами, прищуренными глазами.
– Покури на дорожку.
Тогда все курили, не разбирая, в общем, где, когда, в каких обстоятельствах совершается это самое курение. В помещениях дым стоял коромыслом, ходил волнами, тянулся в постоянно открытые окна и форточки.
(По крайней мере лет двадцать продолжалось массовое, массированное курение в офисах. Помню себя в роли и образе главного редактора издательства «Искусство». 1984 год. В моем обширном кабинете верстается, детально обсуждается годовой план. Все в офисе курят. Мужчины и женщины. Решив раз и навсегда оставить в прошлом эту вредную для себя и окружающих привычку принимаю административные меры. Сотрудники изо всех сил сопротивляются. Я враг нации курильщиков. Вот уже четверть века не курю и дивлюсь на тех, кто остается рабом этой отвратительной, губительной привычки. У меня на глазах один за другим, сжигая, отравляя себя табачным дымом, очень рано уходили на тот свет мои коллеги, товарищи по работе, друзья. Моё «ученичество», моё общение с Володей Великановым оказалось весьма недолгим – укороченное дыхание, физическая немощь и трагический финал.)
Великанов, прокашлявшись, сообщил мне, неофиту, то есть новичку в газетном производстве:
– Да, чуть не забыл тебе сказать. Иткинд просил нас зайти к нему переговорить насчёт преддипломной практики студентов журфака МГУ.
Час от часу не легче! Мне, месяц всего проработавшему в «Советском спорте», рискнувшему поступить в популярную массовую газету, не имея журналистского образования, ответственный секретарь Иткинд желает, видите ли, поручить обучение дипломников МГУ. Хочет вывести на чистую воду Василь Палыча Палёнова, взявшего в отдел общественно-политической жизни «человека с улицы»? Улица ещё та, Сущёвская – редакционно-издательский комбинат «Молодая гвардия». Андрей Давидянц, в молодости блестящее перо «Комсомолки», а в мою пору заведующий отделом очерка и публицистики журнала «Молодая гвардия», где я публиковался не единожды, на просьбу устроить меня, инженера, толкущегося со своими писаниями в молодёжных журналах, куда-нибудь, где хлеб насущный добывают пером и службой в профессиональной газете, предложил не выбор корреспондентские должности в «Сельской жизни», «Советской России» и место литсотрудника в отделе Василия Павловича Палёнова в «Совспорте». Согласился я на последнее – здесь открывалась возможность писать на темы: спорт и искусство, спорт и литература, где у меня уже были кое-какие наработки.
Мы с Великановым, заместителем Палёнова, предстали пред очи всегда жутко занятого ответственного секретаря газеты. Возле стола Иткинда, заваленного корректурами и материалами из машбюро с пометками «В номер» стояли, переминаясь, три добрых молодца.
– Знакомьтесь. Вам, Юрий Александрович, предстоит направлять их работу над дипломными заданиями. Срок представления продукции – три месяца.
За три месяца (хитрый Иткинд о масштабах моего опыта газетчика не сообщил дипломникам) у ребят не было повода усомниться в компетентности наставника – Иткинду не на что было пенять Палёнову, а мне краснеть.
…Бог – что захочет, человек – что сможет. В справедливости пословицы визит к Аркадию Островскому позволил лишний раз мне убедиться.
– Проходите в кабинет, – жестом указала, куда идти, жена композитора.
Дверь приоткрыта. Мне в первые секунды почудилось, что находящиеся в кабинете прослушивают магнитофонную запись.
А у нас во двореВсё пластинка поётИ вечерней поройМне заснуть не даёт.Ровно, как по струнке, сильно, стабильно, с соблюдением всех нюансов росписи композитором вокальной партии звучал красивый бархатный баритон. И песня, как будто, знакомая. Я вошел в кабинет – большую комнату, в которой находились двое: сидевший за роялем композитор и стоявший в концертной позе молодой человек с пышной шевелюрой, певец. Островский показал на свободный стул, приглашая присесть, и продолжил расставлять акценты в новой своей песне «А у нас во дворе».
Идеально, без сучка и задоринки, вёл вокальную партию молодой человек, стоявший в артистической позе у рояля. Лёгкий, летящий ввысь голос. Уверенность, покоряющая завершённость внешнего облика. Строгий костюм. В облике артиста, индивидуальности, характерности сценического образа, отчетливо проявляющейся ранней человеческой самостоятельности, высокой вокальной культуре и внешней, казовой, демонстрации чувства собственного достоинства – всего в достатке, и всё говорило о сильной воле, стойкости, упорстве в достижении поставленных целей. Разумеется, при разительной, бросающейся в глаза завершённости, феноменальности этого редкостного явления – студент четвёртого курса Гнесинки, уже стопроцентно готовый к успехам, свершениям, яркий эстрадный вокалист. Но в его образцовости, эталонности проглядывала перспектива соскользнуть к стереотипности. «Далеко пойдёт за счёт своей образцовости, трудолюбия, отзывчивости на запросы времени, однако, собственных красок, небывалости, когда по одной пропетой фразе угадываешь: Лемешев, Утёсов, Шаляпин, Каллас, Бернес, Шульженко, Пугачёва. «Где-то находим, а где-то теряем», – заключил я, впервые увидев и, главное, услышав Иосифа Кобзона. Чего мне недоставало в его вокализме, так это задушевности, обаяния, неповторимого шарма. Конечно, пение Иосифа Кобзона не дистиллированная вода, в нём изобилуют оттенки сердечности, однако превалирует брутальность, которую певец не желает принять за индивидуальность его как вокалиста. А тем не менее характерных красок, обертонов недостаёт, звучание голоса разочаровывает со стороны духовной.
Молодой вокалист, уходя, спросил Аркадия Ильича:
– В котором часу завтра запись на радио?
– В двенадцать.
Прощаясь, певец поклонился и мне.
– Студент выпускного курса Гнесинского института. Хороший профессионал. Талант. Большой талант, – пояснил Аркадий Ильич, ласково глядя в сторону двери, которую только что закрыл за собой Кобзон.
Вижу на экране ТВ внешне очень мало изменившегося Кобзона, вспоминаю шапку его роскошных кудрей и ностальгически произношу есенинские строки:
Ах, ты, молодость, буйная молодость,Золотая сорви-голова.Когда год – два тому назад в продолжавшемся весь вечер, огромном сольном концерте Иосиф Кобзон исполнял подряд и вразбивку свой необозримый репертуар – патриотические и лирические, русские народные и еврейские одесские песни, романсы и популярные танго, шлягеры, сегодняшние и позабытые, – уверенно, непобедимо, не покидая эстрады битых три часа, это невольно вгоняло в задумчивость: «Вот как встал, будто врос в пол возле рояля композитора Аркадия Островского пятьдесят лет тому назад, так и стоит, и поёт ровным, сильным, бархатным баритоном. Поёт всё подряд. Готовность петь всё на свете, что ли?»
Исполняемое им не даёт возможности что-то выделить и сказать убеждённо: «Это песня Кобзона», как с уверенностью произносим: «Репертуар Вертинского, песни Магомаева, Владимира Бунчиков, Вадима Козина».
Как Кобзона на всё хватает? Разве что виноват феномен всеядности – талантливейший Иосиф Давидович? Он интерпретатор музыки огромного временного диапазона? Возможно, это ценное качество…
Только я появился в редакции, Великанов, пришедший с летучки, которую проводил главный редактор Новоскольцев, ни с того ни с сего, объявил:
– После работы едем к Вальке Никольскому. Нас ждут. Я рассказал о тебе кое-что.
– Что именно?
– Бычков выпить не дурак. Охотно и умело поддерживает компанию. Пишет стихи. Трепач первоклассный. Так что, едем. Готовься!
– Как прикажешь готовиться?
– Морально, – Великанов ёрнически хихикнул. – Прихватим бутылочку трёхзвёздочного армянского, чтобы не чувствовать себя неловко при знакомстве, и айда на проспект Мира.
– Одеться бы надо попарадней…
– Ничего, и так сойдёт… По примеру Пушкина ты читал, конечно, Апулея, а Цицирона не читал?
– Он, что, оракул, провидец, человековед – этот твой Валька Никольский?
– Оставь иронию, Юрка. Ты не отойдёшь, не отлипнешь от него.
Ко многому в жизни равнодушный, Великанов, видать, на Вальку Никольского, как теперь говорят, запал всерьёз и надолго.
– А вот на что указывает Апулей в своей бессмертной «Апологии»: «Тьма безвестности заслоняет тебя от всякого, кто мог бы подвергнуть тебя оценке». В доме Никольского ты, следуя логике Апулея, окажешься в ярко освещенном месте, и у Валентина Михайловича будет возможность рассматривать тебя из темноты, по его доброте и ради твоей защиты.