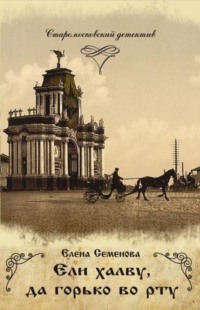
Ели халву, да горько во рту
– Пройдёмте же и мы, – пригласил Родя гостя. – Вы не взыщите, что я говорю столь пространно. Это мой грех, я знаю, утомлять любого своими суждениями.
– О, что вы! – Жигамонт протестующе поднял руку. – Мне было бы весьма интересно продолжить этот разговор. Я не слишком сведущ в вопросах религии, но то, что вы говорите, мне показалось верным и интересным.
– Спасибо. Ах, доктор, мне больно видеть, в каком положении находится наша церковь. Монастыри развращаются, учёные богословы и даже священники впадают в католицизм, эту гангрену христианства, туда же склоняется просвещённая публика, в которой веру подменил мистицизм, основанный на чувствах и лишённый духа, или уж вовсе – материализм, превращающий человека в гордого своей слепотой слепца… Простые священники, особенно в провинции, часто невежественны, распущены, даже пьяны. Наши литераторы потратили немало чернил, высмеивая попа. Это крайне, крайне дурно, но, однако же, нет дыма без огня, и, надо признать, что сами недостойные служители Божии дают тому причину. Ах, какой бедой это всё может обратиться для нас!
– Так вы твёрдо решили оставить семинарию?
– Не знаю, доктор. Признаться, я растерян. Конечно, Богу научить нельзя, это понятно, ибо его можно только сердцем узнать, но, вот, легко же отвратить. Знаете ли вы, что среди семинаристов есть такие, кто в Бога не верит? Они учатся там, чтобы лучше изучить предмет, который потом намереваются ниспровергать…
– А что же вы намерены делать далее? Хотите быть священником? Или поступить в монастырь?
Родион поднял на доктора крупные, как у матери, только светло-серые, глаза и, помедлив, ответил:
– Нет, доктор… Я, в сущности, не имею желания становиться ни тем, ни другим, но я хотел бы проповедовать Бога, нести его учение людям. Этого сейчас ужасно не хватает. Правда, не уверен, вправе ли я… Ведь сам я столь черён, столь растерян, что сумею ли выразить то, что хотел бы? Нет, я не хотел бы писать учёных статей, спорить… Я, вообще, очень не люблю, когда о Боге спорят. В спорах Бог теряется… Но лишь нести Слово Его, исполнять Его Волю.
– В таком случае, вам остаётся положиться именно на Его Волю…
– Да-да. Вот, и отец Андроник говорит мне то же самое. Отец Андроник с недалёкого времени служит в нашем приходе. Это удивительный человек. Вам непременно нужно с ним познакомиться!
– Уверен, что так оно и будет, потому что надеюсь задержаться у вас на какое-то время. Раз уж, наконец, я вырвался навестить вашу любезную матушку, так уж и загощусь, сколь обстоятельства позволят.
– Матушка будет очень рада, – улыбнулся Родион. – И я тоже. Ах, я всё-таки бессовестно рассеян! Ведь матушка же наказала распорядиться насчёт обеда, а я утомляю вас своими разговорами. Приказать подать обед в столовую?
– Не стоит беспокоиться, – ответил Жигамонт. – Я не столь великая птица, чтобы брезговать кухней.
– Тогда идёмте, – кивнул молодой князь.
Родион провёл Георгия Павловича на кухню, где хлопотала молодая румяная девушка с полными руками и весёлым лицом.
– Даша? А где Фоминична?
– Так вышла она, Родион Александрович. Скоро возвертается. Что прикажите? – отозвалась девушка, с любопытством косясь на гостя.
– Подай нам с доктором что-нибудь пообедать.
– Извольте, барин. Нынче ушица стерляжья у нас есть, отбивные телячьи, пирожки со вчерашнего дня оставались… Сейчас Фоминична придёт – будем с нею ужин готовить. А насчёт обеда нынче не распоряжались…
– Подавай, что есть, – махнул рукой Родион. – Садитесь, Георгий Павлыч.
Жигамонт сел, откинувшись на спинку стула, привычно внимательно разглядывая всё вокруг.
– Вы не подумайте дурного, доктор, – продолжал молодой человек. – У нас с обедом странная история. Непонятно, обед то или ужин. А всё потому, что вся семья живёт по своим правилам, мучая бедную Фоминичну. Матушка вечно занята, и к обеду даже редко показывается, приказывая принести себе что-либо в кабинет. Дядюшка часто бывает болен и тоже редко спускается и обедает у себя. Антон и Володичка ведут такой образ жизни, что и сами не имеют понятия, где будут через полчаса. А Владимир у нас англоман. Он обедает вечером, то есть тогда, когда вся остальная семья имеет обыкновение ужинать. И жена его соответственно. Только за ужином и собирается наша семья вместе. Завтракают все тоже в разные часы. Матушка поднимается в шесть утра, а Антон, к примеру, спит до полудня… Так-то и живём…
Между тем, проворная Даша уже разлила по тарелкам золотистую уху, от аромата которой сладко щекотало внутри, подала отбивные, пирожки, сыр, овощи и фрукты, нарезала свежий хлеб, кокетливо поглядывая на доктора, и, наконец, замерла, ожидая других указаний.
– Спасибо, Даша, – улыбнулся Родион. – Ты у нас настоящая искусница.
– Полно вам, барин. Это Фоминична искусница, а я так… – махнула рукой Даша.
– Не скромничай. Дашенька, пожалуйста, отнеси княгине кофе и её любимый грильяж. Она просила.
– Сию минуточку, Родион Александрович, – кивнула Даша.
Ветер слегка колыхал занавески, и дышащие свежестью ветви растущей под окном берёзы врывались в комнату, ласково шелестя листвой. Алексей Львович Каринский, надвинув на глаза очки, внимательно просматривал листки бумаги, исписанные чётким, ровным почерком и довольно кивал седовласой головой:
– Дивно, душечка, дивно! Се экселент!1 У тебя прелестный почерк, дитя моё. Я уверен, что с твоей помощью, наконец, осилю мои воспоминания для семейной хроники и в назидание потомкам.
– Я счастлива, дедушка, что могу хоть чем-то отплатить вам за ваши благодеяния ко мне, – тихо ответила стоящая у окна русоволосая девушка в простом сером платье.
– Ах, брось, брось! – замахал руками Каринский. – Ты просто обижаешь меня, душечка, подобными словами. Отплатить! Мои благодеяния! Разве же ты чужая мне? Ты моя родная внучка. Ты Марья Алексеевна Каринская! И у меня нет человека роднее тебя! Я уж не говорю о том, что с твоим появлением моя, едва не уничтоженная смертью обоих сыновей жизнь вновь обрела смысл! Ты радость моя, мой луч света!
Маша опустилась перед Алексеем Львовичем на колени, прижалась губами к его морщинистой руке:
– Я так люблю вас, дедушка!
– И я тебя, душечка, – ответил Каринский, гладя её по голове. – Что бы я без тебя делал! Вероятно, не жил бы… Дитя моё, прожить долгую жизнь – это, может быть, великое счастье. Но лишь в том случае, когда есть для кого жить. Иначе жизнь становится непосильной ношей. Величайшее горе пережить всех своих близких и друзей. Ещё год назад я горестно роптал, что Бог покарал меня долголетием, но ныне я всякий день благодарю Его за то, что послал мне тебя.
– Бог милостив, дедушка…
– Да, душечка. И я молюсь, чтобы Он не оставлял тебя. Знаешь, дитя моё, что я подумал?
– Что, дедушка?
– Тебе пора выходить в свет!
– Нет, дедушка! – испуганно вскрикнула Маша.
– Отчего же нет?
– Меня никогда не примут в благородное общество… Ведь я… Моя матушка была всего лишь ключницей…
– Но твой отец был моим сыном! И я твой дед! И я выведу тебя в свет, и никто не посмеет дурно отозваться или даже посмотреть на тебя! – ответил Каринский, снимая очки. – Тебе пора подумать о замужестве. Найти хорошего человека! Я уже стар и хочу быть спокоен за твою судьбу, а спокоен я буду, лишь зная, что есть человек, которому я могу вверить тебя.
– Разве хороший человек непременно должен быть знатен? Бывать в свете?
– Совсем нет. Твоим мужем станет тот, кого ты полюбишь, и кто полюбит тебя, ма анфан2. Но ты не должна дичиться людей. Тебе пора привыкать к ним. Это неизбежно, мой ангел.
В глазах Маши заблестели слёзы:
– Я не хочу… Но всё будет так, как вы прикажите, дедушка.
– Ну, ангел мой! – сплеснул руками Алексей Львович. – Перестань плакать немедленно! Пощади старика! Я не могу видеть твоих слёз!
В дверь постучали. Маша быстро утёрла слёзы и отвернулась к окну.
– Антре3! – громко произнёс Каринский.
В комнату впорхнул внучатый племянник Алексея Львовича Родион, а следом вошёл незнакомый старику человек:
– Здравствуйте, дядюшка! – сказал Родя. – Позвольте представить нам нашего гостя. Георгий Павлович Жигамонт, врач. Из Москвы.
Каринский надел очки, протянул гостю руку и приветствовал его радостно:
– А! Вот, и вы, шер ами! Же суи контант дё ву вуар!4 Лиза говорила мне, что вы приедете, и я с нетерпением ждал вас!
– Бесконечно раз знакомству с вами, Алексей Львович, – с поклоном ответил доктор.
Каринский с первого взгляда с удовлетворением определил в госте человека благородного и наделённого большим вкусом. Его костюм был пошит по последней моде, элегантный лёгкий пиджак коричневого цвета прекрасно гармонировал с галстуком. Лицо доктора имело тонкие черты, которым морщины лишь придавали благородства, а умные глаза его смотрели внимательно и участливо. «Милейший человек!» – решил про себя Алексей Львович и, подозвав внучку, представил её:
– Это Машенька, ма птит фий5.
Жигамонт учтиво поклонился и легонько пожал девушке руку. Машенька зарделась, присела в реверансе и, не поднимая глаз, пробормотала нечто приветственное и вновь отошла к окну. Каринский поманил доктора и, когда тот наклонился, шепнул ему на ухо:
– Машенька ещё очень юна и всех дичится…
Георгий Павлович понимающе улыбнулся.
– Присаживайтесь, шер ами, – пригласил Алексей Львович, указывая на глубокое кресло, стоявшее напротив него. – А тебе, Родя, я полагаю, не очень хочется слушать мою стариковскую болтовню, которую ты уже слышал бесчисленное множество раз?
– Что вы, дядюшка… Я всегда рад…
– Ну-ну, се не па врэ6, – улыбнулся старик. – У тебя, наверняка, найдутся занятия интереснее. Я думаю, доктор не будет возражать, если ты нас покинешь. Не так ли, доктор?
– Разумеется, – кивнул Жигамонт.
– Ступай, мон шер! Увидимся за ужином!
Родион удалился, и Алексей Львович, сняв очки, обратился к Георгию Павловичу:
– Ах, шер ами, в нашем доме так редко бывают гости… Когда я был молод, в доме моего отца всегда собирались люди, и у себя я поддерживал тот же хлебосольный обычай. Каринские – не самый знатный род в России. Титулов мы не имеем… Наши давние предки были простыми воинами. Но один из них, Даниил Феодорович, стяжал себе ратную славу при нашествии поляков. Он служил под началом самого князя Скопина-Шуйского и был им отличаем. Есть во Владимирской губернии Каринское поле. Там в 1609-м наши славные войска разбили латинян. В той битве Даниил Феодорович отличился особенно. Он был сильно изранен. И за отвагу свою пожалован потомственным дворянством, землёй и получил фамилию – Каринский. Вот, оттоль мы и пошли…
– Историю прекрасней всего изучать по следам своих предков, – промолвил Жигамонт.
– О, вы правы, голубчик! Как вы правы! – с чувством произнёс Алексей Львович. – Потому-то я и вознамерился написать воспоминания. Всё-таки я прожил на этом свете скоро девяносто лет и кое-что видел на своём веку. А не станет меня, и кто-то вспомнит, кто будет знать? А самая полная история слагается не пером одного летописца, хоть бы он был и самим Нестором, но живым потоком множества голосов. Вы понимаете меня, шер ами?
– Безусловно, и, поверьте, совершенно разделяю ваше мнение.
– Маша очень помогает мне в работе. Я уже скверно вижу, и мне сложно писать самому. Тан пи!7 А у неё прелестный почерк. И, с Божьей помощью, мы с нею окончим наш труд, – старик покосился на внучку, склонившуюся над вышиванием.
– А много ли уже написано? – спросил доктор.
– О, совсем нет! То пока лишь воспоминания моей молодости, – улыбнулся Каринский. – Но они-то и наиболее интересны. Так приятно вновь окунаться в дни своей юности… Вы, голубчик, ведь не можете знать, что это было за время! Вы тогда ещё не родились. А я уже был прелестным юношей, кавалергардом! Совсем недавно были разбиты французы, и все мы, мальчишки, грезили о ратных подвигах. Какой высокий дух патриотизма царил тогда в сердцах! Сейчас принято дурно отзываться о временах Императора Николая Павловича, а я вам скажу, что то были благословенные времена. Государь безо всякой охраны прогуливался по улице, ездил в санях… Можно ли теперь вообразить такое? Ведь до чего дошло: на Царя, на Помазанника охотятся, как, прости Господи, на зайца! Государя среди бела дня разрывает бомбой, брошенной каким-то мерзавцем. И это – прогресс? Нет, реформы были нужны, я не спорю… Но, если такой результат… – Алексей Львович пожал плечами. – В моё время и вообразить себе нельзя было подобного.
– А как же восстание декабристов?
– Скорбная страница нашей истории. И всё-таки это несколько иное. Знать, гвардия и прежде активно участвовала в переворотах. Хотя декабристы, возможно, стали предтечами нынешних… Многих из них я знал лично… – Каринский вздохнул. – Мы встречались в различных собраниях, служили вместе… Это были умные, смелые и достойные люди. Для меня было большим огорчением, что дело так повернулось. По счастью, меня тогда не было в столице. Я был в отпуске, и мне не пришлось делать горький выбор между моими друзьями и моим Государем. Но я никогда бы не изменил моей присяге, это безусловно. Я, доктор, как и многие, любил нашего Государя и боготворил его. Это был настоящий рыцарь, воплощённое Самодержавие. Я до сей поры храню его портрет.
Жигамонт повернул голову и увидел небольшой писанный маслом портрет Императора Николая Павловича. Каринский также посмотрел на него и продолжал:
– Теперь просвещённая публика упрекает его в жестокости. А о какой жестокости идёт речь? Ведь даже семействам государственных преступников, коими, к прискорбию, оказались многие мои приятели, был назначен пенсион, их детям по велению Государя к Рождеству дарились подарки, они направлялись в лучшие учебные заведения… Представьте, если бы в любой европейской стране случилось нечто наподобие Сенатской площади! Да и случалось же! И таковые восстания топились в крови. И это ни у кого, заметьте, не вызывает возмущения. Только русский Царь не имеет права карать врагов престола. А как любезен был Государь! Мне трижды посчастливилось говорить с ним. Это было огромное счастье. Я готов был умереть за него. Нет, что и говорить, чудное было время… Кстати, Георгий Павлович, не желаете ли наливочки? Лечебной?
– Не откажусь, – улыбнулся Жигамонт. – Покорнейше благодарю.
– Машенька, ангел мой, принеси, пожалуйста, нам с доктором наливочки и что-нибудь закусить.
– Да, дедушка, – девушка поднялась и вышла, так и не подняв глаз.
– Под наливочку и разговор слаще, – лукаво подмигнул Каринский. – До ужина ещё много времени… Кстати, я всё говорю, а вас не спросил, что нынче нового в Первопрестольной и в столице?
– О столице немногое могу сказать, так как моя практика целиком проходит в Москве, а Москва всё та же. Даже и не знаю, какие новости я мог бы рассказать, о чём бы не писали газеты.
– Я читал пару лет назад о памятнике Пушкину… Жаль, что не был на его открытии, не видел его. А вы были?
– О, да, конечно! – кивнул доктор. – На это торжество собралась вся читающая публика. Это был прекрасный день! Особенно потрясла всех речь господина Достоевского. Признаться, я и сам слушал её, затаив дыхание, боясь пропустить хотя бы слово. Он был тогда уже очень болен, и говорить ему было тяжело, но что это была за сила духа, что за мысли! После него никто более не решился тотчас брать слово, а в толпе прошёл слух, будто писателю сделалось дурно, будто он даже умирает. Но, к счастью, это оказалось вздором.
– Я читал эту речь в одном из журналов. Лиза выписывает всё, что выходит. Самой ей, правда, читать некогда, зато читаю я, Родя, Машенька… Иногда Владимир с супругой… Впрочем, он выписывает себе заграничную прессу. Как будто бы мало своей… О чём это я? Ах, да, речь… На меня она также произвела впечатление. Я Машеньку просил перечесть трижды. И как точно там было о смирении, о нашем общем скитальчестве, о гордыне… Фёдор Михайлович был величайшим писателем. Жаль, что он ушёл так рано… Се домаж8…
В комнату вошла Маша, неся поднос, на котором стоял графин с наливкой, блюдо с фруктами и печенье. Поставив поднос на стол, девушка вновь заняла своё место у окна.
– Прошу вас, доктор, отведайте, – Каринский разлил наливку по рюмкам.
Жигамонт выпил напиток мелкими глотками.
– Ну-с, что скажете?
– Превосходно, Алексей Львович! Выше всяких похвал!
– Это фамильная наша наливочка, – гордо сказал старик. – Угощайтесь!
– Благодарю.
– Я, шер ами, очень ценю литературу. В юности я и сам грешил виршами… Я ведь имел счастье быть знакомым со многими настоящими литераторами. И с Пушкиным, и с Жуковским…
– Что вы говорите!
– Близкими друзьями мы, разумеется, не были, но, однако же, встречались, беседовали. У меня даже сохранилась одна записка ко мне Александра Сергеевича, в которой он благодарит меня за одолжение, которое я ему сделал.
– Какое же одолжение, если не секрет?
– Сущие пустяки, – рассмеялся Каринский. – Мы оказались вместе в одной компании, и Пушкин проиграл крупную сумму в карты. Ему не хватало, чтобы заплатить, и я с радостью ссудил его необходимыми деньгами, тем более что мне в тот вечер везло.
– Поразительно, – с искренним интересом произнёс Жигамонт. – Вам, действительно, нужно непременно записать всё это. Вы знали стольких выдающихся людей…
– Да, было время, – вздохнул Алексей Львович. – Машенька, к слову, очень любит Пушкина и Жуковского. Отчего-то прозу она жалует меньше. Достоевский слишком тяжёл для её светлой и юной головки. А поэзию она обожает, целые поэмы наизусть может читать. Может, и вас уважит, прочтёт, если вы попросите.
– Я буду счастлив, но только если сама Мария Алексеевна этого пожелает.
Маша подняла глаза и чуть-чуть улыбнулась:
– Спасибо, господин Жигамонт. Я непременно что-нибудь прочту для вас.
– Умница, – похвалил старик внучку. – Знаете ли, доктор, иногда мне кажется, словно моя жизнь мне приснилась. Самому не верится, что я мог видеть столько всего. На моей памяти весь уходящий век. Все мои сверстники уже почили… У князя Вяземского есть чудные стихи:
Смерть жатву жизни косит, косит
И каждый день, и каждый час
Добычи новой жадно просит
И грозно разрывает нас.
Как много уж имён прекрасных
Она отторгла у живых,
И сколько лир висит безгласных
На кипарисах молодых.
Как много сверстников не стало,
Как много младших уж сошло,
Которых утро рассветало,
Когда нас знойным полднем жгло…
А мы остались, уцелели
Из этой сечи роковой,
Но смертью ближних оскудели
И уж не рвёмся в жизнь, как в бой.
Печально век свой доживая,
Мы запоздавшей смены ждём,
С днём каждым сами умирая,
Пока не вовсе мы умрём.
Сыны другого поколенья,
Мы в новом – прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим – в них сочувствий нет.
Они, что любим, разлюбили,
Страстям их – нас не волновать!
Их не было там, где мы были,
Где будут – нам уж не бывать!
Наш мир – им храм опустошенный,
Им баснословье – наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.
Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.
Вот, так и я теперь… Бог знает, может, это всем старикам кажется, что их время было лучше. А так ли на самом деле? Может быть, оно кажется нам прекрасным просто потому, что тогда мы были молоды, бодры, и впереди у нас была целая жизнь. Но всё-таки николаевская эпоха, при всех своих недостатках, была блистательна. Я помню, как пустили первый поезд в Царское. Теперь поезда стали обыденным делом, ими никого не удивишь. А тогда это было подлинное чудо! На поезде катали желающих… Для удовольствия. И билет стоил аккурат семьдесят пять копеек. Большие деньги, между прочим! Я тогда только что женился и решил сделать моей супруге подарок: прогулка до Царского на поезде. Несмотря на то, что жалование моё было невелико, и я всё время нуждался в деньгах, я купил два билета, мы сели и поехали. Какой восторг был написан на её милом лице! Мон дьё!9 Какая это была дивная прогулка! Под конец моя милая жена поцеловала меня и сказала: «Милый Алексис, эта прогулка навсегда будет одним из лучших воспоминаний моей жизни!» Я чувствовал то же. А первая наша фотография! Тогда она впервые появилась в столице. Напротив Казанского собора. Заказчиков вначале было очень мало. И немудрено! Шутка ли сказать: двадцать пять рублей за карточку. И, вот, в очередную годовщину нашей свадьбы я повёл мою Елену Михайловну фотографироваться. Она вышла на той карточке чудно хорошенькой! Вы можете взглянуть: эта фотография стоит на полке, в рамочке.
Доктор поднялся и приблизился к полке. На ней, действительно, стояла старая фотография, на которой были запечатлены статный господин средних лет в мундире и с пышными усами и бакенбардами и женщина, не утратившая красоты, несмотря на годы, с лицом, чем-то напоминающим Сикстинскую мадонну.
– Хороша, не правда ли? – улыбнулся Каринский.
– Да… – протянул Жигамонт.
– Она родила мне троих сыновей и дочь. Девочка умерла ещё ребёнком, а сыновья… – старик вздохнул. – Машенька немного похожа на неё, вы не находите?
– Сходство, определённо, есть, – кивнул доктор.
– Скажите, голубчик, вы долго собираетесь пробыть в Олицах?
– Надеюсь задержаться на какое-то время.
– Это дивно, дивно! – обрадовался Алексей Львович. – Только позвольте вас предостеречь, дорогой Георгий Павлович.
– От чего?
Каринский поднёс палец к губам и прошептал с заговорщическим видом:
– В нашем доме появился призрак! Да-да, голубчик! Машенька видела его собственными глазами и ужасно перепугалась. Фоминична потом отпаивала её лечебным настоем. И ещё три человека видели этот фантом! Только они все не знают, что это. А я знаю!
– Знаете?
– Знаю!
– И что же есть этот фантом?
– Это белая дама! – торжествующе объявил старик, внимательно следя за реакцией собеседника.
– Белая дама? – изумился тот.
– Абсолюман10, голубчик!
– А кто такая белая дама?
– О, мой милый! Сразу видно, что вы не служили в гвардии! – Каринский нагнулся к уху Жигамонта и прошептал уже совсем тихо: – Белая дама – это смерть, доктор! В полку наш командир часто повторял нам: «Кавалергарды, берегитесь: Белая Дама смотрит на вас!»
– Ах, дедушка, какие страшные вещи вы рассказываете! Мне опять будут сниться кошмары, – подала голос Маша, не отрываясь от рукоделья.
– Прости, душечка. Я лишь хотел предупредить доктора, чтобы уберечь его от неприятной встречи. Мой вам совет, голубчик, не выходите поздней ночью из вашей комнаты и запирайте её на ключ. От греха, как говорится, подальше.
– Спасибо за заботу, Алексей Львович. Хотя, признаться, мне было бы любопытно взглянуть на эту белую даму…
– Браво, браво, голубчик! – просиял Каринский, успевший за время недолгой беседы уже полюбить гостя. – Слова настоящего гусара! Будь я немного моложе, и сам бы нарочно вышел ночью в коридор, чтобы выследить наше привидение! Если вы вдруг решитесь на такое, чего я вам всё-таки не посоветую, то не ведите себя вызывающе. Может, и обойдётся.
– Спасибо за совет, дорогой Алексей Львович. Я непременно учту его, если всё-таки решусь на это отважное дело!
– В таком случае предлагаю тост за боевой дух! – рассмеялся Каринский, разливая наливку. – Ей-богу, голубчик, вы мне очень понравились!
– Будьте уверены, что это взаимно.
Елизавета Борисовна Олицкая была женщиной неутомимой и деятельной. Большой знаток женской души, Иван Сергеевич Тургенев, разделивший образованных русских людей на «гамлетов» и «донкихотов», с огорчением отмечал, что среди мужчин превалирует первый тип, тип углублённых в себя мыслителей, не способных к действию, тогда как русские женщины часто являют собой обратное. Немало деятельных женщин вывел писатель на страницах своих книг. Одни из них искали мужчину, дабы идти за ним и сопутствовать в любых испытаниях, вдохновляя своего избранника и внушая ему веру в себя, другие эмансипировались, ударялись в революцию… Елизавета Борисовна всю свою энергию отдавала ведению хозяйства. Муж княгини был старше её на целых тридцать лет и был сверстником дяди Алексея Львовича, с которым приятельствовал. Склонности к ведению хозяйства князь не питал никогда, предпочитая предаваться более благородным занятиям, а потому не мог нахвалиться на молодую жену, взявшую бразды правления поместьем в свои руки. Прежде Олицким принадлежало гораздо меньше земли, и она была приведена в изрядное разорение. Однако, княгиня исправила это положение, продав собственное родовое имение Каринки, а на вырученные деньги скупив земли окрест Олиц.
Елизавета Борисовна сама вникала во все тонкости ведения хозяйства, не ленясь объезжать свои владения, не брезгуя разговаривать со своими мужиками, изучая литературу, посвящённую аграрным вопросам.