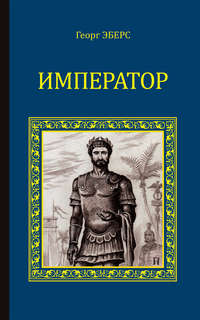
Император
Наибольшие затруднения причиняли не только ему, но и избранным распорядителям празднеств никогда не прекращавшиеся раздоры между языческой и еврейской частями александрийского населения, а также распорядок торжественного шествия, потому что ни одна часть не хотела быть последней, ни один член ее – быть третьим или четвертым.
Наконец на одном совещании все мероприятия, вследствие строгого вмешательства префекта, были бесповоротно одобрены, и затем Титиан отправился в Цезареум к императрице, требовавшей, чтобы он ежедневно являлся к ней.
Он был рад, что достиг по крайней мере такого результата, потому что прошло уже шесть дней с тех пор, как были начаты работы в Лохиадском дворце, и время прибытия императора приближалось.
Префект застал Сабину возлежавшей, по обыкновению, на кушетке, но она скорее сидела, чем лежала, прислонясь к подушкам. По-видимому, она оправилась от утомительного морского пути; в знак лучшего самочувствия она положила больше румян на щеки и губы, чем три дня тому назад, а так как она только что принимала у себя скульпторов Папия и Аристея[44], то велела сделать себе прическу Венеры-Победительницы, с атрибутами которой она за пять лет до этого позволила (хотя и неохотно) изобразить себя в мраморной статуе.
Когда копию этого изваяния выставили в Александрии, чей-то злой язык бросил замечание, часто затем повторявшееся среди местных граждан:
– Афродита действительно победоносна: тот, кто видит ее, спешит убежать подальше. Ее следовало бы назвать Кипридой, обращающей в бегство.
Титиан явился к императрице, взволнованный ожесточенными спорами и неприятными выходками, при которых он только что присутствовал. На сей раз он застал ее без посторонних, кроме постельничего и нескольких прислужниц. На почтительный вопрос префекта об ее здоровье она, пожимая плечами, ответила:
– Как мое здоровье? Если я скажу «хорошо» – то будет ложь; а если скажу «плохо» – увижу соболезнующие физиономии, на которые неприятно смотреть. Жизнь нужно терпеть так или иначе. Однако множество дверей в этих комнатах убьет меня, если я буду вынуждена долго здесь оставаться.
Титиан взглянул на двери покоя, в котором пребывала императрица, и принялся выражать сожаление по поводу изъяна, которого он не заметил; но Сабина прервала его и сказала:
– Вы, мужчины, никогда не замечаете того, что нас, женщин, огорчает. Наш Вер – единственный человек, который это чувствует и понимает… вернее, угадывает чутьем. Тридцать пять дверей находятся в занимаемых мною покоях. Я велела сосчитать их! Тридцать пять! Если бы они не были так стары и сработаны из драгоценного дерева, я бы подумала, что они устроены в насмешку надо мною.
– Может быть, некоторые из них можно заменить драпировками.
– Оставим это! Несколькими пытками больше или меньше в моей жизни – не все ли равно? Покончили ли александрийцы со своими приготовлениями?
– Надеюсь, – ответил префект со вздохом. – Они из кожи лезут вон, чтобы сделать получше, но в своих усилиях протиснуться вперед каждый из них ведет войну против каждого, и я нахожусь еще под впечатлением отвратительной перебранки, при которой должен был присутствовать целыми часами и нередко укрощать ее грозным «Quos ego!»[45].
– Да? – спросила императрица и улыбнулась, точно она услышала что-нибудь приятное. – Расскажи мне подробнее об этом собрании. Я скучаю до смерти, так как Вер, Бальбилла и другие просили у меня позволения посмотреть на работы, которые производятся на Лохиаде. Я привыкла наблюдать, что людям приятнее быть где угодно, только не со мною. Могу ли я удивляться, если мое присутствие недостаточно даже для того, чтобы заставить друга моего мужа забыть легкую дисгармонию, какие-то мелкие неприятности. Мои беглецы что-то долго не возвращаются: на Лохиаде, должно быть, есть на что посмотреть.
Префект сдержал свое неудовольствие; он ни одним словом не выдал своего опасения, что архитектору и его помощникам могут помешать, и тоном вестника в трагедии начал:
– Первый спор поднялся по поводу распорядка шествия.
– Отступи немножко назад, – сказала Сабина, прижав правую, покрытую кольцами руку к уху, как будто чувствуя боль.
Щеки префекта слегка покраснели, но он повиновался и, понизив голос, продолжал:
– Итак, спокойствие было нарушено сперва по поводу шествия.
– Я уже это слышала, – отвечала матрона и зевнула. – Я люблю процессии.
– Но, – сказал с легким волнением префект, – люди и здесь, как в Риме и везде, если они не подчиняются приказанию одного человека, являются сынами раздора и отцами распри даже в том случае, когда дело идет об устройстве какого-нибудь мирного празднества.
– Тебе, по-видимому, неприятно, что Адриана желают почтить такими пышными празднествами?
– Ты шутишь. Именно потому, что я особенно желаю, чтобы они вышли как можно блистательнее, я самолично вхожу во все подробности, и, к моему удовольствию, мне удалось укротить даже строптивых. Едва ли я по должности был обязан…
– Я думала, что ты не только слуга государства, но и друг моего супруга.
– Я горжусь тем, что имею право называть себя этим именем.
– Да, у Адриана стало много, очень много друзей с тех пор, как он носит багряницу. Ну, теперь ты забыл свое дурное расположение духа? Ты, должно быть, сделался очень впечатлительным, Титиан; у бедной Юлии очень раздражительный супруг.
– Она не столь достойна сожаления, как ты думаешь, – возразил Титиан с достоинством, – так как моя должность до такой степени погружает меня в заботы, что жена редко имеет возможность замечать мое возбужденное состояние. Если я забыл скрыть от тебя свое волнение, то прошу простить меня и приписать это моему горячему желанию обеспечить для Адриана достойный его прием.
– Не думай, что я сержусь на тебя… Однако вернемся к твоей жене. Значит, она разделяет мою участь. Бедные, мы не получаем от своих мужей ничего, кроме объедков после государственных дел, которые все поглощают. Но рассказывай же, рассказывай!
– Самые тяжелые часы я пережил из-за неприязни между евреями и другими гражданами.
– Я ненавижу эти проклятые секты евреев, христиан, или как они там называются! Не отказываются ли они внести свою долю пожертвований для приема императора?
– Напротив, алабарх[46], их богатый глава, вызвался взять на себя все издержки на целую навмахию[47], а его единоверец Артемион…
– Ну? Так пусть возьмут от них деньги, пусть возьмут!
– Эллинские граждане чувствуют себя достаточно богатыми, чтобы принять на свой счет все издержки, которые будут составлять много миллионов сестерциев, и добиваются того, чтобы исключить евреев везде из своих процессий и зрелищ.
– Они правы.
– Позволь мне спросить тебя: справедливо ли было бы помешать половине александрийцев оказать почет своему императору?
– Адриан с удовольствием откажется от этой чести. Титулы «Африканский», «Германский», «Дакийский» служили к славе наших победителей, но, после того как Тит разрушил Иерусалим, он не позволил назвать себя «Иудейским»[48].
– Он поступил так потому, что его пугало воспоминание о потоках крови, которые он вынужден был пролить, чтобы сломить упорное сопротивление этого народа. Приходилось ломать побежденному сустав за суставом, палец за пальцем, прежде чем он наконец решил покориться.
– Ты опять говоришь почти как поэт. Уж не выбрали ли тебя эти люди своим адвокатом?
– Я знаю их и стараюсь оказывать им справедливость, как всем гражданам этой страны, которой управляю от имени государства и императора. Они платят такие же подати, как и другие александрийцы, даже больше других, потому что между ними есть очень много богатых людей, они прославились в области торговли, ремесел, науки и искусства, и потому я мерю их тою же меркой, какой и остальных жителей этого города. До их суеверия мне так же мало дела, как и до суеверия египтян.
– Но оно выходит из границ. В Aelia Capitolina[49], которую Адриан украсил многими зданиями, они отказались принести жертву статуям Юпитера и Геры. Это значит, что они отказываются воздавать честь мне и моему супругу.
– Им запрещено служить какому-либо другому богу, кроме их собственного. Aelia была выстроена на развалинах их Иерусалима, а статуи, о которых ты говоришь, стоят на священнейших для них местах.
– Какое нам дело до этого?
– Тебе известно, что и Гай не мог убедить их поставить свою статую в святая святых их храма. Даже наместник Петроний должен был согласиться, что принудить их к тому – значит поголовно истребить их[50].
– В таком случае пусть будет с ними то, чего они заслуживают. Уничтожить их! – вскричала Сабина.
– Уничтожить? – спросил префект. – В одной Александрии почти половину граждан, то есть несколько сот тысяч верноподданных… уничтожить?
– Так много? – спросила императрица с испугом. – Но это ужасно! Всемогущий Зевс! Что, если эта масса восстанет против нас? Никто не говорил мне об этой опасности… В Киренаике и в Саламине на Кипре они грабили десятки тысяч своих сограждан.
– Их раздражили до крайности, и они оказались сильнее своих угнетателей.
– А в их собственной стране, говорят, восстание следует за восстанием.
– Все из-за тех жертвоприношений, о которых мы сейчас говорили. Теперь легатом в Палестине Тинний Руф[51]. У него, правда, противный, резкий голос, но, по-видимому, он не такой человек, чтобы позволить шутить с собой, и сумеет укротить это опасное отродье.
– Может быть, – сказал Титиан, – но боюсь, что одной строгостью он не достигнет цели, а если достигнет, то обезлюдит целую провинцию.
– В империи слишком много народа.
– Но полезных граждан никогда не бывает достаточно!
– Мятежные ненавистники богов – полезные граждане?
– Здесь, в Александрии, где многие из них вполне применились к нравам и образу мыслей эллинов и все усвоили их язык, они, конечно, полезные граждане и, несомненно, искренне преданы императору.
– Принимают ли они участие в празднествах?
– Да, насколько позволяют им эллины.
– А постановка морского сражения?
– Им не будет дана; но Артемиону дозволено поставлять диких зверей для игрищ в амфитеатре.
– И он не выказал скупости?
– Ты бы поразилась его щедрости. Должно быть, этот человек умеет, подобно Мидасу[52], превращать камни в золото.
– И много подобных ему между вашими евреями?
– Изрядное число.
– В таком случае я желаю, чтобы они попытались взбунтоваться, потому что, если возмущение уничтожит богатых, нам достанется их золото.
– А до тех пор я постараюсь сохранить их живыми как хороших плательщиков податей.
– Разделяет ли это желание Адриан?
– Без сомнения.
– Твой преемник, может быть, внушит ему другие мысли.
– Адриан всегда действует по своему собственному разумению, а я еще состою в должности, – гордо сказал Титиан.
– И да сохранит тебя в ней иудейский бог на многие лета, – насмешливо отвечала Сабина.
VII
Прежде чем Титиан успел открыть рот для ответа, главная дверь осторожно, но широко отворилась и претор Луций Элий Вер, жена его Домиция Луцилла[53], юная Бальбилла и историограф Анней Флор вошли в комнату. Все четверо были в веселом возбуждении и желали тотчас же после первых приветствий дать императрице отчет о том, что они видели на Лохиаде; но Сабина сделала рукою отрицательный знак и прошептала:
– Нет, нет, подождите; я чувствую себя изнеможенной… долгое ожидание, а потом… Мой нюхательный флакон, Вер! Стакан воды с фруктовым соком, Девкиппа! Но только не такой сладкой, как обыкновенно!
Гречанка рабыня поспешила исполнить приказание. Поднося к носу изящный флакончик, вырезанный из оникса, императрица сказала:
– Не правда ли, Титиан, целая вечность прошла с тех пор, как мы с тобою беседуем о государственных делах? А вы ведь знаете, что я откровенна и не могу молчать, когда встречаю превратные понятия. В ваше отсутствие я принуждена была много говорить и слушать, Это может отнять силы даже у людей более крепких, чем я. Удивительно, что вы не находите меня в более жалком состоянии. В самом деле, что может быть изнурительнее для женщины, как защищаться с мужественной решительностью против мужчины. Дай мне воду, Девкиппа.
В то время как императрица, беспрерывно шевеля тонкими губами и как бы смакуя, маленькими глотками пила фруктовый сок, Вер приблизился к префекту и шепотом спросил его:
– Ты долго оставался наедине с Сабиной?
– Да, – ответил Титиан и при этом стиснул зубы так крепко и сжал кулак так сильно, что претор не мог не понять его, и тихо сказал:
– Ее нужно пожалеть; и в особенности теперь на нее находят часы…
– Какие часы? – спросила Сабина, отнимая стакан от своих губ.
– Такие, – быстро отвечал Вер, – в которые мне нет надобности заботиться о сенате и о государственных делах. Кому другому обязан я этим, как не тебе?
При этих словах он подошел к матроне и, подобно сыну, внимательному к своей уважаемой больной матери, с сердечной услужливостью принял от нее стакан, чтобы передать его гречанке. Императрица несколько раз благосклонно кивнула претору в знак благодарности и затем с оттенком веселости в голосе спросила:
– Ну, что же вы видели на Лохиаде?
– Чудеса! – проворно отвечала Бальбилла, всплеснув своими маленькими ручками. – Рой пчел, целый муравейник вторгся в старый дворец. Белые, коричневые и черные руки в таком множестве, что мы не могли и сосчитать их, заняты там деятельной работой, и из многих сотен людей ни один не мешает другому. Подобно тому, как предусмотрительная мудрость богов направляет звезды по их путям в часы «всемилостивой Ночи», так что ни одна из них никогда не остановит и не толкнет другой, всей этой толпой руководит один маленький человек…
– Я вынужден вступиться за архитектора Понтия, – прервал девушку претор, – он как-никак человек среднего роста.
– Итак, скажем, чтобы удовлетворить твое чувство справедливости, – продолжала Бальбилла, – итак, скажем: ими всеми руководит человеческое существо среднего роста со свитком папируса в правой руке и стилем – в левой. Нравится ли тебе теперь мой способ выражения?
– Он мне всегда нравится, – отвечал претор.
– Позволь же Бальбилле продолжать рассказ, – милостивым тоном приказала императрица.
– Мы видели хаос, – продолжала девушка, – но в этом беспорядочном смешении уже чувствуются условия для будущего стройного творения; да, их даже можно видеть воочию.
– И оступиться об них, – засмеялся претор. – Если б было темно, а работники были червями, мы бы передавили половину их, до того кишели ими каменные полы.
– Что же они делали?
– Все, – с живостью отвечала Бальбилла, – Одни полировали попорченные плиты; другие укладывали новые куски мозаики на места, откуда были похищены прежние; искусные художники расписывали гладкие гипсовые поверхности пестрыми фигурами. Каждая колонна, каждая статуя была окружена лесами, доходившими до потолка, и по ним всходили люди, напирая друг на друга, подобно матросам, взбирающимся на борт неприятельского судна во время какой-нибудь навмахии.
При живом воспоминании обо всем виденном щеки хорошенькой девушки раскраснелись, и во время своей речи она выразительно жестикулировала и встряхивала высокой кудрявой прической, которой была увенчана ее головка.
– Твое описание становится поэтичным, – прервала императрица свою наперсницу. – Не вдохновляет ли тебя муза еще и к стихотворству?
– Все девять пиэрид[54] представлены в Лохиадском дворце, – сказал претор. – Мы видели восемь; но у девятой, у помощницы астрономов и покровительницы изящных искусств, небесной Урании, было вместо головы… как бы ты думала что? Позволь мне просить тебя отгадать, божественная Сабина.
– Что же такое?
– Пук соломы!
– Ах! – вздохнула императрица. – Как ты думаешь, Флор, нет ли между твоими учеными и кропающими стихи собратьями кого-нибудь, похожего на эту Уранию?
– Во всяком случае, – возразил Флор, – мы предусмотрительнее богини, потому что содержание наших голов скрывается под твердой покрышкой черепа и более или менее густыми волосами. Урания же выставляет свою солому напоказ.
– Твои слова, – засмеялась Бальбилла, указывая на массу своих кудрей, – отзываются почти намеком, что мне в особенности необходимо скрывать то, что лежит под этими волосами.
– Но и лесбосский лебедь[55] был назван «лепокудрою», – возразил Флор.
– А ты – наша Сафо, – сказала жена претора Луцилла и с нежностью привлекла девушку к себе.
– Серьезно, не думаешь ли ты изобразить в стихах то, что видела сегодня? – спросила императрица.
Тут Бальбилла слегка потупилась, но бодро ответила:
– Это могло бы подстегнуть меня: все странное, что я встречаю, побуждает меня к стихам.
– Но последуй примеру грамматика Аполлония, – сказал Флор. – Ты Сафо нашего времени, и поэтому тебе следовало бы сочинять стихи не на аттическом, а на древнем эолийском диалекте.
Вер расхохотался… А императрица, которая никогда громко не смеялась, хихикнула коротко и резко. Бальбилла спросила с живостью:
– Неужели вы думаете, что мне не удалось бы это выполнить? С завтрашнего же дня я начну упражняться в эолийском наречии.
– Оставь это, – попросила Домиция Луцилла. – Самые простые твои песни всегда были самыми прекрасными.
– Пусть же не смеются надо мною, – своенравно отвечала Бальбилла. – Через несколько недель я буду в состоянии владеть эолийским диалектом, потому что я могу сделать все, что захочу, все, все…
– Что за упрямая головка скрывается под этими кудрями! – сказала императрица и милостиво погрозила ей пальцем.
– И какая восприимчивость! – воскликнул Флор. – Ее учитель грамматики и метрики говорил мне, что его лучшим учеником была женщина благородного происхождения, и притом поэтесса, Бальбилла.
Девушка покраснела от этой похвалы и радостно спросила:
– Льстишь ли ты, или же Гефестион[56] в самом деле сказал это?
– Увы! – вскричал претор. – Гефестион был и моим учителем, а следовательно, и я принадлежу к числу учеников мужского пола, посрамленных Бальбиллой. Но это для меня не новость, потому что александриец говорил и мне почти то же самое, что и Флору; и я не настолько кичусь своими стихами, чтобы не чувствовать справедливости его приговора.
– Вы подражаете различным образцам, – заметил Флор, – ты – Овидию, а она – Сафо; ты пишешь стихи по-латыни, а она по-гречески. Ты все еще по-прежнему возишь с собой любовные песни своего Овидия?
– Постоянно, – ответил Вер, – как Александр своего Гомера.
– И из благоговения к своему учителю, – прибавила императрица, обращаясь к Домиции Луцилле, – твой муж при содействии Венеры старается жить согласно его творениям.
Стройная и прекрасная римлянка отвечала только пожатием плеч на эти слова, имевшие далеко не дружественный смысл; но Вер, подняв соскользнувшее на пол шелковое одеяло Сабины и заботливо прикрывая им ее колени, сказал:
– Величайшее мое счастье состоит в том, что победоносная Венера удостаивает меня своим благоволением. Но мы еще не кончили нашего отчета. Наш лесбосский лебедь повстречал в Лохиадском дворце другую птицу: некоего художника-скульптора.
– С каких это пор ваятели причисляются к птицам? – спросила Сабина. – Самое большее, с чем их можно сравнить, это – с дятлами.
– Когда они работают над деревом, – заметил Вер, – но наш художник – помощник Папия и оформляет благородные материалы в высоком стиле. На сей раз, правда, он создает свою Уранию из составных частей весьма странного свойства.
– Вер, вероятно, потому называет нашего нового знакомого птицей, – прервала Бальбилла, – что, когда мы приблизились к загородке, за которой он работал, он насвистывал песенку так чисто, так весело и так громко, что она покрывала шум, производимый работниками, и звонко раздавалась по обширной пустой зале. Соловей не может свистать прекраснее. Мы остановились и слушали, пока веселый молодец, не подозревавший нашего присутствия, не замолчал. Услыхав голос архитектора, он крикнул через перегородку: «Теперь нужно приняться за голову Урании. Я уже вижу эту голову перед глазами и в три дюжины приемов покончил бы с нею, но Папий говорит, что у него есть голова на складе. Мне любопытно посмотреть на слащавое дюжинное лицо, которое он напялит на шею моему торсу. Достань мне хорошую модель для бюста Сафо, которую мне велено восстановить. У меня идеи так и роятся в голове. Я так возбужден, так взволнован! Из всего, за что я примусь, теперь выйдет что-нибудь стоящее!»
При последних словах Бальбилла старалась подражать низкому мужскому голосу и, увидев, что императрица улыбается, продолжала с одушевлением:
– Все это вырывалось так непосредственно из глубины сердца, готового разорваться от переполнявшей его веселой, необузданной жажды творчества, что мне сразу стало легко на душе, и все мы подошли к загородке и стали просить ваятеля показать нам работу.
– Что же вы нашли? – спросила Сабина.
– Он решительно запретил нам врываться за перегородку, – сказал претор, – но Бальбилла лестью выманила у него позволение. Долговязый малый действительно научился кое-чему. Складки одежды, прикрывающей фигуру музы, совершенно соответствуют натуре; они набросаны роскошно, энергично и притом отделаны с изумительной тонкостью. Урания плотно окутывает свое стройное тело плащом, точно защищает себя от ночной прохлады, пока созерцает звезды. Когда он покончит со своей музой, ему придется восстановить несколько изуродованных бюстов. Беренике он сегодня же приставит готовую голову, а для Сафо я предложил ему Бальбиллу в качестве натурщицы.
– Хорошая мысль, – сказала императрица. – Если бюст будет удачен, я возьму его с собою в Рим.
– Я охотно буду служить ему моделью, – вскричала девушка, – весельчак мне понравился.
– А Бальбилла – ему, – прибавила жена претора. – Он глазел на нее, как на чудо, а она обещала ему, если ты разрешишь, завтра на три часа предоставить свое лицо в его распоряжение.
– Он начинает с головы, – сказал Вер. – Однако что за счастливец этот художник! Ему она без всякого неудовольствия позволяет поворачивать свою голову, менять складки на пеплуме; а между тем, когда нам сегодня приходилось обходить целые болота гипса и лужи свежих красок, она едва приподнимала край своего платья, а мне, который так охотно пришел бы ей на помощь, она не позволила даже перенести ее через самые грязные места.
Бальбилла покраснела и сказала с раздражением:
– Серьезно, Вер, я не могу позволить, чтобы ты говорил обо мне в таком тоне. Знай же раз навсегда: ко всему нечистому я чувствую так мало расположения, что мне и без посторонней помощи будет легко обойти его.
– Ты слишком строга, – прервала императрица девушку, неприятно улыбаясь. – Не правда ли, Домиция Луцилла, ей следовало бы предоставить твоему мужу право ухаживать за нею?
– Если императрица считает это приличным и уместным, – быстро возразила Луцилла, выразительно пожав плечами.
Сабина поняла смысл ее слов и, снова принужденно зевнув, сказала небрежно:
– В наше время следует быть снисходительным к мужу, который выбрал себе в качестве самых надежных спутников любовные песни Овидия. Что там такое, Титиан?
Еще во время рассказа Бальбиллы о встрече с ваятелем Поллуксом постельничий подал префекту важное, не терпевшее отлагательства письмо. Сановник удалился с ним в глубь комнаты и только что дочитал его до конца, как императрица задала ему этот вопрос.
От острых глаз Сабины ничего не ускользало из происходившего вокруг нее; поэтому она заметила также, что наместник, сворачивая письмо, сделал беспокойное движение.
Письмо должно было заключать в себе важные известия.
– Безотлагательное письмо, – отвечал Титиан, – вызывает меня в префектуру. Я прощаюсь с тобою и надеюсь в скором времени сообщить тебе нечто приятное.
– Что заключается в этом письме?
– Важные известия из провинции, – отвечал Титиан.
– Можно узнать, какие?
– К сожалению, я должен отрицательно ответить на этот вопрос. Император повелел хранить это дело в совершенной тайне. Выполнение его требует величайшей поспешности, и поэтому я, к сожалению, принужден тотчас же оставить тебя.
Сабина с ледяной холодностью ответила на прощальный поклон префекта и велела провести себя во внутренние покои, чтобы переодеться к ужину.
Бальбилла последовала за нею, а Флор отправился в «Олимпийский стол» – превосходную поварню Ликорта, о которой гастрономы в Риме рассказывали ему чудеса.
Оставшись наедине с женою, Вер подошел к ней и ласково спросил:
– Можно мне проводить тебя до дому?
Домиция Луцилла бросилась на диван, обеими руками закрыла лицо и не отвечала ни слова.
– Можно?
Так как жена упорствовала в своем молчании, то он подошел к ней ближе, положил руку на изящные пальцы, которыми она прикрывала лицо, и сказал:
– Ты, кажется, сердишься на меня?

