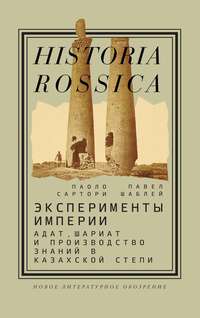
Эксперименты империи
Теперь обратимся к несколько иному контексту. В последнее время исследователи, пишущие о том, что в имперской ситуации не существовало монополии на производство знаний, больше внимания уделяют так называемым местным или «туземным» голосам. Особый интерес здесь представляет проблема «колониального посредничества»[94]. Ян Кэмпбелл показал, что Российская империя в своем стремлении модернизировать Казахскую степь не могла обойтись без местных представителей (ставших переводчиками, чиновниками, военными и прочими колониальными деятелями), которые, приняв императивы модернизации, тем не менее «сохраняли степень интеллектуальной автономии и деятельности»[95]. Такой подход, адаптированный Я. Кэмпбеллом из работ Бернарда Кона[96] и Кристофера Бейли[97], призван продемонстрировать, что «знание в колониальных контекстах должно неизменно зависеть в некоторой степени от туземных акторов, сетей и пониманий; хотя результаты этой кооперации не всегда предсказуемы и прямолинейны»[98]. Конечно, подобного рода анализ является показательным, если мы представляем колониальное воздействие как широкий круг возможностей и сферу достижения взаимных интересов. С этой точки зрения местные элиты могли рассчитывать на карьерный успех в российских бюрократических ведомствах, а также получали возможность перераспределить ресурсы экономического, политического и иного влияния. Для имперских ведомств услуги местных жителей играют особенно важную роль в тех сферах, которые связаны с текущими политическими и административными задачами: составление карт, перепись, изучение обычного права и др. Однако само по себе колониальное посредничество как разновидность знания (колониальное vs «туземное») идентифицировать чрезвычайно сложно. Поэтому исследователи часто определяют его особенности скорее в условных, чем в строгих понятийных и аутентичных формах. В случае Казахской степи эта проблема осложняется еще и тем, что казахский язык занимал по сравнению с татарским и русским менее привилегированное положение. В XVIII – первой половине XIX в. мало было и местных переводчиков[99]. В колониальных учреждениях в основном была представлена казахская элита, прошедшая русские учебные заведения. Однако данных о том, как такое посредничество функционировало в условиях смешанного опыта и разного интеллектуального фона – например, наличие сразу и мусульманского, и русского образования, – мало. С другой стороны, не проясняется и сам опыт элиты иного качества – мулл, кади, аксакалов, биев, дистанцированных от изучения русского языка, системы знаний и привилегий, обеспеченных империей. Если мы не имеем здесь ясной картины, то возникают только фрагментированные или упрощенные представления о формировании «туземных знаний» в период колониальной зависимости, например рассмотрение казахской поэтической традиции «Зар-заман», усиливавшей исламские элементы, только в виде реакции на колониальную политику[100], не допуская, следовательно, что колониальная тематика могла стать составной частью более древней интеллектуальной традиции, развивавшейся в рамках собственных ориентиров. Сталкиваясь с подобного рода трудностями, мы признаем, что будет заблуждением искать путь к интерпретации «туземных знаний» через дихотомические вариации – например, противопоставление модерности и традиции. Очевидно, что «туземные знания» имели гибридный характер и являлись продуктом многих обменов. При этом «туземные знания» одного региона могли стать колониальными в другом[101]. Подобного рода сравнения можно найти и в истории Российской империи. В 1840‐е, когда обсуждалась идея кодификации обычного права для казахов оренбургского ведомства, в качестве образцовых должны были использоваться сборники адата, предназначенные для народов Восточной Сибири (тунгусов, остяков, самоедов, бурятов и др.)[102], составленные по указанию М. М. Сперанского в 1820‐е гг.[103]
Определенного рода заблуждением является и суждение о том, что «туземные знания» нетрудно вычленить из колониального контекста и с их помощью найти «достоверный» язык описания местного общества. В действительности же это очень сложная задача. Местные жители, описывая себя и свое общество через понятия «традиция», «род», «племя» и другие категории, апеллирующие к прошлому и доколониальному опыту, часто скрывают свои истинные намерения, тесно связанные с современным политическим и идеологическим контекстом[104].
Полагая, что понятие «туземные знания» может смутить читателя этой книги, мы не пытаемся его артикулировать в каком-то узком автономном смысле. Производство знаний в Казахской степи – это не настолько очевидное, как может показаться на первый взгляд, противопоставление разных традиций и эпистем (колониальное vs туземное, адат vs шариат, Казахская степь и центральноазиатские ханства), а скорее их смешение и взаимопроникновение. В связи с этим следует подчеркнуть, что гибридность сознания и разнообразие стратегий поведения проявлялись не только среди казахской кочевой элиты. Имперские чиновники, востоковеды, военные действовали в колониальной истории по-разному. Становление отдельных личностей, особенности их мышления, подходы к изучению реальности развивались в разнообразных и зачастую противоречивых условиях. Стремление к совершенствованию колониальной системы управления и политический прагматизм могли сочетаться с научной рациональностью и щепетильностью, а также с требованиями здравого смысла. Все это в совокупности обеспечивало релятивистское представление о знании, основанное на поиске адекватного для той или иной имперской ситуации языка описания реальности. Очевидно, что И. Я. Осмоловский, рассматривая адат как часть исламской правовой культуры, руководствовался не только научным подходом к делу, но и современным политическим прагматизмом, который учитывал необходимость русификации Казахской степи. Однако этот прагматизм и вытекавшая из него оценка действительности были несколько иного характера, отличными от представлений о них В. В. Григорьева, В. А. Перовского и других администраторов. Поэтому сближение адата и шариата и совершенствование языка и методики изучения кочевников, представлявшихся в качестве очевидного ресурса колониального управления для одних имперских деятелей, не было настолько же очевидным для других – тех, кто, прежде всего из‐за политических рисков и бюрократического формализма, не готов был выйти за рамки единых и линейных схем понимания реальности.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Государственный архив Оренбургской области (ГАОО). Ф. 6. Оп. 10. Д. 5716. Л. 54–55.
2
Батунский М. А. Россия и ислам. Т. 2. М., 2003. С. 276–277; Ремнев А. В. Российская империя и ислам в казахской степи (60–80‐е годы XIX в.) // Расы и народы: современные этнические и расовые проблемы. Вып. 32. М., 2006. С. 241–242.
3
Перовский Василий Алексеевич (1795–1857) – оренбургский и самарский генерал-губернатор.
4
Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в. Астана, 2008. С. 466–581.
5
См. об этом: Frank A. Shari‘a Debates and Fatwas among Nomads in Northern Kazakhstan, 1850–1931 // Islamic Law and Society. 2017. Vol. 24. P. 63. См. также третью главу данного исследования.
6
«Жеті Жарғы» («Семь уложений») хана Тауке. См.: Материалы по казахскому обычному праву. Сборник / Ред. С. В. Юшков. Алма-Ата, 1948. С. 22; Спасский Г. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой Орды // Сибирский вестник. 1820. Т. 9, 10.
7
Такая интерпретация местного права приобретает устойчивый характер в первой половине XIX в. См.: ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5716. Л. 54–55.
8
См.: Валиханов Ч. Ч. Записка о судебной реформе // Ч. Ч. Валиханов. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. Алма-Ата, 1985. Нет сомнений, что подобные мнения имели влияние на руководителей местных административных ведомств. Так, в 1852 г. оренбургский и самарский генерал-губернатор В. А. Перовский поддержал приоритет суда биев в разборе исковых дел казахов, заявив, что кочевники «ни в каком отношении» не подведомственны ОМДС. См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 821. Оп. 8. Д. 602. Л. 6 об.
9
Woodman Gordon R. A Survey of Customary Law in Africa in Search of Lessons for the Future / Eds. J. Fenrich, P. Gallizzi, T. Higgins. The Future of African Customary Law. Cambridge, 2011. P. 15–17. Эту же идею ясно отразил сборник И. Я. Осмоловского.
10
Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области: юридический быт. Т. 1. М., 2011. С. 34. Первое издание: Гродеков Н. И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области: юридический быт. Т. 1. Ташкент, 1889.
11
Сызранов А. В. Ислам в Астрахани: история и современность. Астрахань, 2007; Sultanova R. From Shamanism to Sufism: Women, Islam and Culture in Central Asia. London, 2011.
12
См.: Басилов В. Н. Исламизированное шаманство народов Средней Азии и Казахстана. М., 1991.
13
DeWeese D. Shamanization in Central Asia // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2014. Vol. 57. P. 340–348.
14
Например, практика совершения зикра (песнопение, заключающееся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей прославление Аллаха) в суфизме, историческая связь которой с шаманизмом не представляется настолько очевидной, как это пытались доказать советские этнографы. Девин ДеУис убедительно продемонстрировал, что особенности суфийского зикра можно изучить с помощью источников XV–XIX вв. См.: DeWeese D. Shamanization in Central Asia. P. 349–359.
15
Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе: специфика универсального. М., 2009; См. введение к: Ислам на территории бывшей Российской империи. Энцикл. словарь / Ред. С. М. Прозоров. Т. 1. М., 2006.
16
Одна из них – это культ предков (казахское слово аруақ – культ аруаков – имеет арабское происхождение (аруах, рух) и переводится как «души, духи») у казахов. Существуют большие сомнения, что эта религиозная практика была адаптирована к исламу по какому-то предсказуемому сценарию, например на основе своей связи с шаманизмом. Можно предполагать, что суфийская традиция, имевшая глубокие исторические корни в Центральной Азии, контекстуализировала исламский характер культа предков на более ранних этапах его развития, чем предполагают некоторые исследователи. См.: Privratsky B. G. Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory. London; New York, 2001. Р. 114–153.
17
Такой анализ можно сравнить с особенностями использования понятия салт (обычай, традиция, нрав) в современном Кыргызстане. Антрополог Джудит Бейер считает, что любая общая дискуссия о салте задается его нормативными понятиями (закон, легальная система). Когда к салту обращаются в конкретных ситуациях (в повседневных условиях), он приобретает более многозначительный смысл – моральность, обычай, политическая система. См.: Beyer J. The Force of Custom: Law and the Ordering of Everyday Life in Kyrgyzstan. Pittsburg, 2016. P. 6–8.
18
Sartori P., Shahar I. Legal Pluralism in Muslim-Majority Colonies: Mapping the Terrain // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2012. Vol. 55. P. 637–663.
19
Cotterrell R. Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory. Aldershot, 2006. P. 36.
20
Griffiths J. What Is Legal Pluralism? // Journal of Legal Pluralism. 1986. Vol. 24. P. 3.
21
Moore S. F. Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Object of Study // Law and Society Review. 1978. Vol. 7. P. 719–746.
22
Benton L. Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History: 1400–1900. Cambridge, 2002. Р. 1–31. Критику этого подхода см.: Sartori P. Constructing Colonial Legality in Russian Turkestan // Comparative Studies in Society and History. 2014. Vol. 56. No. 2. P. 419–447.
23
Преобразования, которые наряду с другими задачами преследовали цель временно сохранить значение суда биев (народный суд) и снизить влияние ислама и шариата на Казахскую степь. См.: Материалы по истории политического строя Казахстана. Сборник документов и материалов. Т. 1 / Сост. М. Г. Масевич. Алма-Ата, 1960. С. 332–333, 339–340.
24
Martin V. Law and Custom in the Steppe. The Kazakhs of the Middle Horde and Russian Colonialism in the Nineteenth Century. London; New York, 2001. Р. 104–106.
25
Ibid. Р. 106.
26
См. о таких взглядах у Ч. Ч. Валиханова и М. С. Бабаджанова. Оба были известными казахскими этнографами, которые работали в колониальной администрации. См.: Валиханов Ч. Ч. О мусульманстве в степи // Ч. Ч. Валиханов. Избранные произведения: библиотека казахской этнографии. Т. 1. Астана, 2007; Бабаджанов М. С. Заметки киргиза о киргизах // Этнография казахов Букеевской Орды: библиотека казахской этнографии. Т. 19. Астана, 2007. О том, что их критика ислама не всегда укладывалась в рамки политической конъюнктуры, а имела более сложную природу, см.: Privratsky B. G. Muslim Turkistan: Kazak Religion and Collective Memory. Р. 17–19; Frank А. Muslim Religion Institutions in Imperial Russia: The Islamic World of Novouzensk District and the Kazakh Inner Horde, 1780–1910. Leiden; Boston; Köln, 2001. Р. 280–281.
27
Ряд источников показывает другую перспективу – оценивает изменения, сложившиеся вследствие имперских реформ 1868 и 1891 гг. (уменьшение влияния татарских мулл и исключение казахов из ведомства ОМДС), через кризисные тенденции, например рост коррупции и моральное разложение общества, связь которого с шариатом стала слабеть. См.: Баб ал-Фатава // Мәгълүмат. 1910. № 44. Б. 1086–1087; Ғылмани С. Заманмызда болған ғұламалардың ғумыр тарихтары. Т. 1 (Biographies of the Islamic Scholars of our Time. Vol. 1). Жауапты шығ арушылар: Муминов, Ə. Қ. Франк, А. Дж. Алматы, 2013. Б. 431–432; Борисов С. Беседа с указным муллой // Томские епархиальные ведомости. 1889. № 13. С. 10–11.
28
См.: Мажитова Ж. С., Ибраева А. Г. Суды биев и правовой плюрализм в Казахской степи (по материалам Оренбургской пограничной комиссии) // Вестник КазНПУ. 2017 // https://articlekz.com/article/18096 (последнее посещение 22.01.2019); Мажитова Ж. С. Шариат и/или адат в казахском праве (первая половина XIX в.) // Исламоведение. 2015. Т. 6. № 3. С. 25–33.
29
См., например: Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой половине XIX в. С. 132–138; отмеченные нами выше работы Ч. Ч. Валиханова, М. С. Бабаджанова, которые обычно используют многие исследователи для изучения ислама в Казахской степи.
30
Sartori P. Authorized Lies: Colonial Agency and Legal Hybrids in Tashkent, c. 1881–1893 // Journal of the Economic and Social History of the Orient. 2012. Vol. 55. No. 4–5. P. 688–693.
31
Так, мировой судья 1-го участка Кокчетавского уезда Акмолинской области Д. В. Кудревецкий отправлял свидетелей к мулле Н. Таласову для приведения к присяге. Эта практика, по словам местного уездного начальника А. И. Троицкого, была «вопиющим» нарушением имперского законодательства. См.: Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 369. Оп. 1. Д. 3822. Л. 19 об.
32
Kemper M. ‘Adat against Shari‘a: Russian Approaches toward Daghestani «Customary Law» in the 19th Century // Ab Imperio. 2005. No. 3. Р. 148–149; Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие. М., 2002. С. 137–141.
33
Sartori P. Vision of Justice. Shari‘a and Cultural Change in Russian Central Asia. Leiden, 2016. P. 19. Другой пример гибридности – это случай, когда русский закон не смог полностью заменить мусульманский вакф. Несмотря на попытку отказаться от его использования, в имперских юридических документах второй половины XIX в. (статья 261 Временного положения 1868 г. гласила: «Вакуфы не дозволяются»), мусульмане Российской империи по-прежнему оформляли вакфные сделки, заменяя термин «вакф» русским понятием «дарение». См.: ЦГА РК. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1268. Л. 1–7; Материалы по истории политического строя Казахстана. С. 340; Ross D. Muslim Charity under Russian Rule: Waqf, Sadaqa, and Zakat // Islamic Law and Society. 2017. Vol. 24. P. 93–100.
34
Интересный анализ правовой гибридности был сделан в недавней статье К. Балабиева и Ж. Турекуловой. См.: Балабиев К., Турекулова Ж. Гибридность и когерентность правовых практик у казахов: суд аксакалов в системе правовых институтов и практик (вторая половина XIX – начало XX вв.) // Ab Imperio. 2018. № 3. С. 187–214.
35
См.: Morrison A. Introduction: Killing the «Cotton Canard» and Getting Rid of the «Great Game». Rewriting the Russian Conquest of Central Asia, 1814–1895 // Central Asian Survey. 2014. Vol. 33. No. 2. P. 1–11; Абашин С. Н. и др. Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008; Васильев Д. В. Форпост империи. Административная политика России в Центральной Азии (середина XIX в.). М., 2015; Глущенко Е. А. Россия в Средней Азии. Завоевания и преобразования. М., 2010.
36
Morrison A. Russia, Khoqand, and the Search for a «Natural» Frontier // Ab imperio. 2014. No. 2. P. 171–178.
37
Ibid. Р. 172. См. также переписку чиновников Кокандского и Хивинского ханств с казахской элитой (султанами-правителями, биями), опубликованную в: История Казахстана в документах и материалах: Альманах. Вып. 3 / Отв. ред. Б. Т. Жанаев. Караганда, 2013. С. 18–86.
38
Как мы увидим в этой работе, некоторые элементы такой системы отношений использовала и Российская империя, взимая вместо закята кибиточный сбор и используя военные альянсы с местными родоплеменными группами.
39
Об этимологии этого понятия см.: Панарина Д. С. Граница и фронтир как фактор развития региона и/или страны // История и современность. 2015. № 1. С. 15–41.
40
См.: Barrett T. At the Edge of Empire. The Terek Cossacks and the North Caucasus Frontier, 1700–1860. Boulder, 1999; Jersild A. Orientalism and Empire. North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845–1917. Montreal; Kingston; London; Ithaca, 2002; Khodarkovsky М. Russia’s Steppe Frontier. The Making of a Colonial Empire, 1500–1800. Bloomington; Indianapolis, 2002.
41
С этой интерпретации начинается история теории фронтира. См.: Turner F. The Significance of the Frontier in American History // Тhe Frontier in American History. New York, 1920. P. 1–38.
42
Это попытался показать Ю. Маликов на примере взаимоотношений казахов, проживавших на территории современного Северного Казахстана, с казаками Сибирского казачьего войска. См.: Malikov Yu. Tsars, Cossacks, and Nomads: The Formation of a Borderland Culture in Northern Kazakhstan in the 18th and 19th Centuries. Berlin, 2011.
43
Об одной из удачных попыток построения сравнительной модели фронтира см.: The Frontier in History. North America and Southern Africa Compared / Eds. H. Lamar, L. Thompson. New Haven, 1981.
44
О таких взглядах у И. Я. Осмоловского и А. И. Макшеева см. в четвертой главе.
45
Схиммельпенник ван дер Ойе Д. Ориентализм – дело тонкое // Ab Imperio. 2002. № 1. С. 253–254; Schimmelpennick van der Oye D. Russian Orientalism: Asia in the Russian Mind from Peter the Great to the Emigration. New Haven; London, 2010; Idem. The Paradox of Russian Orientalism // Russia’s Unknown Orient: Orientalist Painting 1850–1920 / Eds. P. Wageman and I. Koutenikova. Groningen; Rotterdam, 2010.
46
Халид А. Российская история и спор об ориентализме // Российская империя в зарубежной историографии. М., 2005. С. 319.
47
Эткинд А. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio. 2002. № 1; Схиммельпенник ван дер Ойе Д. Ориентализм – дело тонкое; Knight N. Was Russia its own Orient? Reflections on the Contributions of Etkind and Schimmelpenninck to the Debate on Orientalism // Там же.
48
Так считает Адиб Халид, анализируя биографию исламоведа, инспектора народных училищ Туркестанского генерал-губернаторства Н. П. Остроумова. См.: Халид А. Российская история и спор об ориентализме. С. 310–311.
49
Knight N. Grigor’ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. 2000. Vol. 59. No. 1. P. 81–82.
50
Более логичным нам представляется подход Марии Тодоровой, согласно которому анализ ситуации не может быть сведен к простому разграничению между востоковедением как «чистой» наукой и ориентализмом как соучастником имперских акций. Взаимосвязь и неоднородность этих понятий можно выявить только в конкретных контекстах истории империи. См. подробнее: Тодорова М. Есть ли русская душа у русского ориентализма? Дополнение к спору Натаниэля Найта и Адиба Халида // Российская империя в зарубежной историографии. М., 2005. С. 352.
51
Особенно актуальной эта проблема была в советский период, когда исследователи стремились подчеркнуть добровольность вхождения казахских земель в состав Российской империи. При этом отношения между русским и казахским народами, складывавшиеся в ходе этого процесса, характеризовались как дружеские и братские. См.: Бекмаханов Е. Б. Присоединение Казахстана к России. М., 1957; История Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней): В 5 т. Т. 3. Алма-Ата, 1979.
52
Ерофеева И. В. Хан Абулхаир: полководец, правитель, политик. Алматы, 2007. С. 310–314.
53
Васильев Д. В. Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. XVIII – первая половина XIX века. М., 2014. С. 82, 434.
54
Там же. С. 102–120.
55
Жиренчин К. А. Политическое развитие Казахстана в XIX – начале XX века. Алматы, 1996. С. 9.
56
Gjersø J. F. The Scramble for East Africa: British Motives Reconsidered, 1884–1895 // The Journal of Imperial Commonwealth History. 2015. Vol. 43. P. 831–860; Moyd M. R. Violence Intermediaries: African Soldiers, Conquest, and Everyday Colonialism in German East Africa. Athens, Ohio, 2014.
57
Абашин С. Н. и др. Центральная Азия в составе Российской империи. М., 2008; Абдурасулов У., Сартори П. Неопределенность как политика: размышляя о природе российского протектората в Средней Азии // Ab Imperio. 2016. № 3. С. 118–164.
58