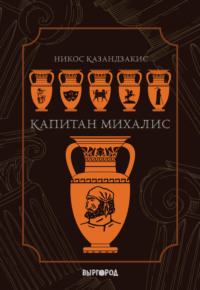
Капитан Михалис
Он, как и сестра, по дороге нет-нет да и остановится: то с одним, то с другим перекинется словом, посмеется, заломит еще больше феску и идет дальше бодрым шагом. Капитан Поликсингис упивался собой, своим сильным, гибким телом, которое пока что ни разу его не подводило. Да и голова лишними хлопотами не забита. Канарис верно говорил: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» И капитан Поликсингис, независимо от того, война была или мир, жил по тому же правилу, оттого, должно быть, ему всегда и во всем везло. На случай смерти он уже выстроил себе мраморный склеп, напоминавший небольшой винный погребок: по обеим сторонам каменные скамейки с подушечками, посредине невысокий столик, в стене вырублен шкаф, где всегда стояла бутылка ракии и рюмки. Так что и в жизни капитану Поликсингису этот склеп пригодился. Частенько он набирал закусок, приглашал закадычных дружков и устраивал в склепе веселую попойку.
А сейчас он летел как на крыльях. Вечер выдался на славу: кругом ни ветерка и теплынь как летом. Сады благоухали ароматом роз, только что политой земли. Сейчас выйдет он из цирюльни свежий, чисто выбритый, обрызганный лавандой, и будто двадцать лет с себя сбросит. И когда пройдется опять по тенистым улочкам, не одно женское сердечко сладко замрет.
– Эх, святой Георгий, ты один среди святых меня понимаешь! – вздохнул капитан Поликсингис. – Мы ведь тезки с тобой. Так яви же чудо – дай моей родине свободу! Сейчас дай, пока я не одряхлел, пока руки способны обнимать женщин и держать оружие! Через несколько лет я состарюсь и уж не смогу насладиться желанной свободой. Так не оставь наш остров, святой Георгий! Ты не думай, мы все как один встанем под твои знамена и будем драться не на жизнь, а на смерть! – Он упрямо сжал губы и свернул на Широкую.
Это была одна из самых оживленных улиц Мегалокастро. Начиналась она чуть западнее Ханиотских ворот и вела к Лазаретным, к большой площади Трех арок, на которой раскинулся дворец паши. Здесь же неподалеку среди деревьев была крытая деревянная веранда. Каждую пятницу на этой веранде играл турецкий военный оркестр. Другая центральная улица пересекала Широкую под прямым углом. Начиналась она у Новых ворот и вела на юг, к порту. На перекрестке двух этих улиц находилась главная площадь города. Широкая – это улица магазинов, аптек, мастерских, греческих кофеен; они сгрудились здесь так тесно, что торговцы весь день переговариваются из своих дверей, и вокруг стоит непрекращающийся веселый гомон. Беда, если мимо пройдет Эфендина или еще какой-нибудь убогий. Сапожники начинают разом грохотать своими молотками, подмастерья свистят и улюлюкают, со всех сторон беднягу забрасывают гнилыми лимонами и помидорами.
А в субботние вечера веселье здесь достигает пика. Вот и сегодня улица бурлит, как взбаламученная река. Хвала Всевышнему, еще одна неделя окончена. Лавочники развязывают фартуки, посреди тротуара льют воду друг другу на руки, умываются, отряхиваются, подкручивают усы и приказывают подмастерьям вынести на улицу скамейки, крепкий кофе и наргиле. Вскоре на улице появится арапка Рухени – черная лоснящаяся гора мяса. На ее лошадиной шее болтаются бирюзовые бусы, груди у нее свисают до живота и трясутся, когда арапка громоподобно хохочет, обнажая белоснежные зубы. На голове она держит лоток с кунжутной пастилой. А от родника Идоменеаса приплетется, как всегда, грустный и молчаливый пекарь Тулупанас с двумя лотками: на одном – пирожки со шпинатом, а на другом – бублики с корицей. Одним словом, Широкая улица стала больше похожа на дворец богача.
Капитан Поликсингис, остановившись, невольно залюбовался этой греческой улицей. В чистом воздухе (вокруг ни одного турка) раздавался певучий звон колоколов. Рай земной! – подумал Поликсингис. Всего здесь вдоволь, только греческого флага не хватает. Ну ничего, придет срок, и уж мы, критяне, позаботимся, чтобы он тут висел!
Кланяясь направо и налево, капитан Поликсингис вновь зашагал по улице к цирюльне.
Тени становились длиннее. На минарет поднялся муэдзин и призвал мусульман к вечерней молитве. Затем, прежде чем обратить свой взор к небесам, он немного постоял, поправил тюрбан, огляделся.
– О великий и всемогущий Аллах! – воскликнул он наконец. – Сколько бы добра ни создал человек, никогда ему не отблагодарить тебя за пару глаз, которую ты даровал каждому, чтоб любоваться миром!
Муэдзин облокотился о решетку минарета: внизу простирался пестрый многоголосый город с белыми куполами, садами, хоругвями. От избытка чувств толстопузый слуга пророка даже вздохнул.
– Чего только нет в этом благословенном городе! И женщины, и красавцы мужчины, такие, как Нури… Как погляжу на него да на его вороного коня, так сам бы в седло вскочил. А невинные мальчики, которые в кофейнях такие амане заводят, что голова идет кругом, и не знаешь, где же лучше прославлять Аллаха – в мечети или в кофейне… Клянусь Магометом, даже вонь городская и та радует сердце. Когда входишь в город через Лазаретные ворота и чувствуешь запах навоза, то душа расцветает, будто удобренный сад… Этот запах не променяю я ни на какие благовония! Вот ведь понюхает человек у себя под мышкой – кому, может, и вонь, а ему приятно!
Муэдзин снова вздохнул, зажал ладонями уши, и из груди его полился волнующий, страстный голос. Такой, пожалуй, мог бы поспорить с колоколами Мурдзуфлоса. Крик муэдзина то жаворонком взмывал к небу, раздирая его в клочья и пробиваясь к самому Аллаху, то, напившись небесной благодати, низвергался на Мегалокастро.
Под торжественный крик муэдзина Нури-бей, мрачный как туча, возвращался с хутора, куда ездил проветриться после минувшей тяжелой ночи. До сих пор стыд огнем жег ему грудь, и даже взмыленный конь под ним спотыкался, словно тоже чувствовал груз на сердце хозяина. Море играло закатными красками, кипело и пенилось, хотя на берегу ветра не было. Бей переехал вброд реку Йофирос. На виноградных лозах появились первые листочки, миндальные деревья уже отцвели, от смоковниц исходил пьянящий аромат.
– Да будь прокляты и море, и солнце, и деревья! – зло выкрикнул Нури-бей. – Нет мне в мире утешенья!
И впрямь, солнечный свет застила бею могучая фигура капитана Михалиса. Вспомнилось, как он ухватил рюмку двумя пальцами, и стекло треснуло пополам, а Эмине зашлась от восторга и бросила в лицо ему, законному своему супругу, такие жестокие слова…
О Аллах, как стереть в памяти эту пытку! Прошлой ночью он напился до бесчувствия и заснул на пороге. Его преследовали какие-то кошмары, кто-то истошно вопил над ухом. Утром арап растормошил его, отмыл от блевотины, переодел в чистое. Но минувшая ночь осталась в сердце, будто вонзенный нож.
Нури-бей ехал мимо турецкого кладбища. Мраморные фигуры в разноцветных тюрбанах, острые, как клинок, буквы на плитках. Казалось, огромное войско расположилось лагерем на подступах к Мегалокастро.
Он выхватил взглядом отцовскую могилу меж двух кипарисов. Мраморный тюрбан шевелится на голове у отца, как при жизни, когда свирепый Хани-али бывал в гневе. Все закружилось перед глазами у Нури-бея; конь, спотыкаясь, понес его прямо к могиле, он изо всех сил вцепился в гриву, чтобы не упасть. Задыхаясь, натянул повод; вороной громко заржал, встал на дыбы. Впервые за много лет животное отказывалось повиноваться хозяину – дурной знак!
Бей подумал, что надо бы слезть с коня и зайти поклониться праху отца, но ему вдруг стало жутко. В голове, как вспышка молнии, пронесся вчерашний сон: ведь это отец, грязный, босой, в лохмотьях, так страшно кричал во сне и потрясал черной костлявой рукою: «Сколько уж лет блуждаю я как тень в твоем растреклятом конаке! За двадцать три года мой сын, моя единственная надежда, не удосужился смыть кровь отца! Ты бы должен плакать, локти себе кусать от такого позора! А из твоего дома несутся амане и смех! Для чего же мы рождаем на свет сыновей? Чтобы забывали нас? Чтоб нашим душам за гробом не было покоя? Мало того, что ты не отомстил за меня – ты еще побратался с братом моего убийцы! Жене велел ему показаться без паранджи! Прочь с глаз моих, поганый гяур!»
Услышав такое страшное оскорбление, Нури-бей схватился за кинжал. Ну, хватит! Он хочет и из могилы мною командовать. Не выйдет! – чуть было не крикнул он, но слова застряли в горле. Только яростно ударил шпорами коня и понесся в город через Ханиотские ворота. Солнце быстро катилось к горизонту. Не заезжая домой, бей направился в греческий квартал.
А в это время с противоположной стороны, через Лазаретные ворота, в город въезжал капитан Михалис. Солнце садилось, и он едва не загнал кобылу, боясь, что закроют крепостные ворота. Издали он увидел, как из пыли и навозных куч поднимаются прокаженные. Целый день толпами сидели они у стен Мегалокастро, протягивая за подаянием полусгнившие руки. А когда солнце садилось, гуськом тянулись к себе в Мескинью. Сегодня их шествие возглавляли молодожены. Жутковато было глядеть на эту процессию: будто мертвецы, покрытые язвами, без носов, ушей, губ, повылезли из могил, услышав трубу архангела, дергались в адской пляске, и казалось, вот-вот они рассыплются по косточкам. Капитан Михалис с отвращением отвернулся. Для чего их земля носит? – подумал он. Только здоровые должны жить на свете.
Он послал вперед кобылу и проскочил через ворота как раз в ту минуту, когда стражники-низами, оборотившись на закат, затрубили в трубы и по флагштоку пополз вниз турецкий флаг.
Глава III
Ночь опять выдалась тяжелая. В удушливом неподвижном воздухе капитан Михалис никак не мог заснуть. Тихо, даже молодая листва не колышется на деревьях. Люди распахивали окна, бродили в темноте по комнатам, метались в постелях, разрывая ворот ночных рубах, – дышать все равно было нечем. Старухи выходили из домов и усаживались на пороге, обуреваемые недобрыми предчувствиями: неужто Мойра пробудилась и насылает несчастье на город! Тьфу, не сглазить бы! Все гнали от себя пугающие мысли, но невольно, шепотом выдавали свои страхи:
– Помнишь, в тот раз тоже ни один листок на деревьях не шелохнулся?
– Ох, помолчи, беду накличешь!
– А ты что, не чувствуешь, земля как гудит?
– Сказано тебе – замолчи!
Замирая от ужаса, жители ждали восхода как избавления.
И наконец из-за Ласифьотских гор выкатилось зловещее красное светило в просветах свинцовых туч. Обагрились, будто кровью, минареты и море. Мурдзуфлос ударил в колокола. В греческих кварталах просыпалась жизнь, распахивались двери, выходили празднично одетые, тщательно причесанные горожане: впереди разряженные дети – у мальчиков белые крахмальные платочки в кармашках, у девочек банты, – за ними под ручку родители, а позади бабушки.
Все шли поклониться конной статуе покровителя Мегалокастро, святого Мины, послушать воскресную проповедь митрополита, получить из его рук освященную просфору. Нынче для всех день отдыха, никто не торгует, лавки закрыты, всякому не мешает отрешиться от беса наживы и послушать слово Божье. Это дело бескорыстное, здесь ничего не теряешь, а завтра с самого утра снова аршин, весы, торговля – кто кого обдурит! Шесть дней дьяволу, один – Богу, на всякий случай поставим свечку обоим.
Церковь сияет, как небо весной, пахнет ладаном, внутри благословенная прохлада, хотя народу набилось как пчел в улье. Да еще не всем места хватило, многие православные стоят на паперти, а кое-кто и в церковном дворе. Митрополит – белобородый исполин в златотканом облачении и митре – возвышается у престола, словно посланец Господа, спустившийся на грешную землю для устрашения людей.
Отец Манолис в дорогой парчовой ризе уже стоит у царских врат и дребезжащим голосом читает Евангелие, а Каямбис только отпирает двери дома, чтобы отправиться с молодой женой в церковь. В прошлое воскресенье они отпраздновали свадьбу, вот почему на восьмой день, как велит обычай, молодожены в свадебной одежде должны прийти и поклониться покровителю города святому Мине и принести ему в дар большой сдобный хлеб, замешенный на корице, мастике и сахаре.
Домик их расположен поблизости от гавани, в квартале, открытом всем ветрам, – туда долетают даже соленые брызги волн. Гаруфалья повисла на руке мужа. Они выступают чинно, горделиво, кажется, их приветствует весь мир – и умытые улицы, и камни мостовой, и благоухающие мирты. Все точно оделось в свадебный наряд, даже колючки под заборами и те расцвели белыми цветами. Неужели это грязная, вонючая, порабощенная турками крепость с извилистыми бедняцкими улочками? Неужели правду говорят, что это сверкающее всеми красками море ненавидит людей? Гаруфалья подняла томные глаза на мужа. Господи, и зачем нам слушать всякие поповские бредни, когда в доме у нас и так настоящий рай?!
Они свернули на улицу, ведущую к церкви. Каямбис тоже посмотрел на жену, и сердце у него защемило. Она идет рядом, такая красивая, нарядная, под тонкой тканью он чувствует тепло ее тела, вдыхает ее аромат…
Восемь дней и ночей он не будет целовать эти губы, ведь проклятый капитан Михалис небось уже спустился в подвал и ждет гостей. Каямбис застыл как вкопанный посреди мостовой. Да какое ему дело до святого Мины, до местных обычаев – он и родом-то не отсюда, а из Сфакьи. К чему терять время по церквам, когда его так мало осталось?.. Ничего, Господь их простит! Каямбис сжал руку жены и порывисто зашептал ей на ухо:
– А не лучше ли нам, милая, пока не поздно, воротиться в наше гнездышко?
Гаруфалья залилась краской, потупила взор и ответила еле слышно:
– Как скажешь, Яннакис!
Они повернули обратно – и зашагали так быстро, как будто убегали от погони. Пересекли площадь, миновали Большой платан у дворца паши, по кривым переулкам спустились в гавань. Каямбис пинком распахнул дверь. Молодожены заперлись в доме и снова бросились на кровать.
Капитан Михалис действительно спустился в подвал еще утром и сидел там в полном одиночестве. Справа от него на двух толстых брусьях стояли три бочки вина. Слева – два глиняных сосуда: в одном оливковое масло, в другом зерно. К потолочным балкам были подвешены связки инжира, гранатов, айвы и желтые с зелеными прожилками зимние дыни. По стенам – пучки душицы, шалфея, майорана, мешочки с семечками. Скоро женщины принесут сюда вареных кур, осьминогов, колбасы, и подвал наполнится новыми запахами.
Капитан Михалис уселся на высокую скамью, прислонившись к стене головой, обвязанной черным платком, и застыл неподвижно. В голове туман, глаза ничего не видят, а в сердце незаживающая рана. Время от времени пальцы судорожно сдавливают край стола – еще немного, и тот сломается.
И что тебе неймется, капитан Михалис? Живешь вроде в достатке, жена – добрая хозяйка, люди тебя уважают. Сын – весь в отца, так что и помирать не боязно: есть кому продолжить твое дело. У парня те же густые, колючие брови, а глаза такие же круглые, смоляные и даже родинка на шее точь-в-точь как у отца. Отчего неспокойно у тебя на душе? Не умеешь ни посмеяться, ни слово ласковое сказать, ходишь как в воду опущенный.
Вспомнилось, как однажды вечером зашел к нему шурин Манолакис, веселый, разговорчивый, мастер шутки шутить. А он так глянул на него исподлобья, что бедняге не по себе стало. Посидел, поерзал, точно на раскаленных угольях, да и пошел себе восвояси. «Чего приходил? – буркнул капитан Михалис. – Думает, я буду с ним зубы скалить?! Вот добудем свободу для Крита, – то и дело мелькала у него мысль, – тогда придет и мой черед посмеяться!»
Нынче ночью приснился ему про это сон: Крит свободен, звонят колокола, улицы устланы ветвями мирта и лавра. В гавани с белого парусника сходит на берег святой Георгий и целует критскую землю. А он, капитан Михалис, подает ему на серебряном подносе ключи от Мегалокастро. И вот так глядит он на счастливый, свободный Крит, а душа все же не успокаивается. «Какого дьявола! – говорит он себе, едва не лопаясь от злости. – Чего еще тебе не хватает?» Глаза застилает кровавая пелена, и будто бы Крит уже не Крит, а чудовище, распластанное на волнах, – Горгона, сестра Александра Македонского[35]. Она отчаянно бьет хвостом, и от этого на море поднимается шторм… Капитан Михалис слушает вопли чудовища и чувствует, как в груди разрастаются корни Большого платана, а на ветвях его, точно колокола, качаются предки – босые, посиневшие, с высунутыми языками. Под бешеным ветром они гнутся к земле, и сам он будто склоняется перед ними. Но тут в один миг все исчезло, остался только фонарь с красно-зелеными стеклами, и под фонарем – Нури, угощающий его лимонной ракией и жареной куропаткой. А в углу комнаты, поводя черными бровями, заливисто смеется черкешенка…
Капитан Михалис вскочил и принялся молотить кулаками в стенку, так что весь дом заходил ходуном. Затем вдруг опомнился, вперил злобный взгляд в низенькую дверцу подвала, сквозь зубы выругался: шуты почему-то запаздывали.
Но бесился он напрасно: приглашенные уже спешили к нему со всех концов Мегалокастро. Первым явился Вендузос, хозяин таверны. Сегодня он проснулся рано утром и стал на колени перед иконой своей покровительницы Амбелиотисы[36]: пускай даст ему сил выдержать попойку, которая будет длиться восемь дней и восемь ночей подряд – от воскресенья до воскресенья. Много лет назад заказал он монаху Никодимосу икону Богоматери Амбелиотисы – то есть не кормящей с младенцем на руках, как обычно рисуют иконописцы, а матери с огромной гроздью винограда. Монах сперва отказывался: мол, такого не бывает, об этом в Святом писании не сказано, стало быть, грех. Но Вендузос прибавил к условленной оплате бутыль ракии да кучу вяленой трески, и монах не устоял: перекрестился, достал кисти и нарисовал Пречистую с виноградом. И вот Вендузос стоит перед ней босой, в одних подштанниках и молит:
– Пресвятая Дева Амбелиотиса! Иду на великую муку в подвал к капитану Михалису. Я не пожалел денег, ракии и вяленой трески, чтоб украшал мое жилище твой светлый образ! Помоги же мне и в этом испытании, не дай подохнуть как собаке в логове этого неукрощенного зверя! Боюсь, восемь суток мне не выдержать, так наставь же его на путь истинный, чтобы отпустил нас побыстрее. Аминь!
Вендузос умылся, оделся, достал из-за киота лиру и вышел во двор. Жене с дочерьми оставил денег на неделю да наказал проведывать его каждые два дня – кабы чего не случилось. Потом велел старшей дочери, грамотейке учительнице, написать несколько слов на клочке бумаги, засунул ту бумажку в карман, обвел грустным, будто прощальным, взглядом свое хозяйство и ушел.
По дороге заглянул в свою таверну, на самом видном месте прикрепил бумажку: «Закрыто на восемь дней. Владелец отлучился по личным делам». Ну вот, теперь можно и к Михалису поспешать, да, уже надо – он опаздывает. Этот дьявол и слова не скажет в упрек, а только сдвинет брови, так что мурашки у всякого по спине забегают.
Проходя мимо дома старшего брата, зажиточного купца, Вендузос прибавил шагу, разговаривая сам с собой: «Только бы этот мерин меня не заметил, а то опять осрамит при всем честном народе. Его хлебом не корми – дай меня поучить! Ну ничего, я ему тоже позавчера показал. Иду мимо его хоро́м, а он тут как тут – рожу скривил и ну меня поносить: мол, как тебе не надоест пить горькую, уж седина в голову, а ты все хлещешь и хлещешь! Ну, я собрался с духом, облокотился о стену, а то ноги не держали, и говорю: «Ох, это ты, твоя милость! И как тебе не надоест быть трезвенником, вон, брюхо какое наел, а все не пьешь и не пьешь!» Прохожие, какие тут случились, чуть животики не надорвали, а этот мерин только язык прикусил да быстрей в дом… Может, я бы и впрямь бросил пить, да, видать, на то Божья воля, чтоб я родился в страстную пятницу. Коли пошел бы по стопам отца – стал бы священником и теперь, как знать, может, до епископа бы дослужился. Так ведь это надо было учиться, корпеть над священными книгами. А мне это ни к чему, раз дал Господь талант играть на лире. Как заведу – камни и те в пляс пускаются. Ни свадьба, ни пирушка без меня не обходятся. Вот поневоле и привык прикладываться к бутылке, жить без нее не могу. Через это и таверну открыл, и Богородицу повесил в изголовье, какой ни у кого из православных нету. Другие-то в церковь ходят ей молиться, а у меня своя – никому не дам! Прошлый год прицепился ко мне этот паскудник, капитан Поликсингис: дай, мол, на время икону – копию снять. Как же, разбежался! «А ты, – говорю, – дашь мне на время свою кобылу?» «Что ты, – отвечает, – куда я без кобылы?» – «Так вот и я без Богородицы никуда!»
На углу улицы, прямо за родником Идоменеаса, владелец таверны столкнулся с Фурогатосом и Бертодулосом, которые тоже спешили на пирушку. Встреча была такой внезапной, что Вендузос выронил и едва не разбил лиру, а с Бертодулоса слетела шляпа.
– Эй, Вендузос, чего летишь будто к чертям на сковородку? – спросил, опомнившись, Фурогатос. – Давай-ка присядем, выкурим по цигарке, надо же малость с духом собраться.
Усевшись на мраморную плиту у родника, приятели достали кисеты. Фурогатос – верзила с колючими усами и здоровенными, как у слона, ножищами, когда шел плясать, вся критская земля дрожала. За это и прощали ему люди его позор – то, что он терпит женины побои.
Бертодулос – чистенький, благообразный старичок с острым, гладко выбритым лицом и короткими нафабренными бакенбардами – вновь водрузил на седую шевелюру щегольскую шляпу с жесткими полями и поправил на плечах накидку. Это был первый в городе, а может, и на всем Крите человек, который, не убоявшись ни Бога, ни людей, сбрил усы. Сначала критяне думали, что они у него просто не растут, но когда узнали, что он нарочно бреет бороду и усы, возмущению их не было предела. Неслыханно! И как у него только дерзости хватило нарушить обычай предков! Поди разбери, кто он такой – мужик, баба. На улице в него бросали камнями и гнилыми лимонами, друзья перестали с ним здороваться.
– Ну вот что, Бертодулос, мы, критяне, такого позора не потерпим! – бросил ему как-то в лицо Барбаяннис, подкручивая свои усищи. – У нас либо мужчин, либо женщин признают, а оборотней нам не надо!
А однажды в воскресенье, когда благодушный, улыбающийся Бертодулос с гитарой в руках чинно прогуливался по площади Трех арок, к нему подскочил пьяный Фурогатос и хотел спустить с него штаны – пускай люди убедятся, какого он пола: мужского или женского. Народ за него вступился, но Фурогатос и сам уже раскаялся – начал плакать, прощенья просить у старика. С того дня Бертодулос и Фурогатос стали неразлучны.
На счастье свое, Бертодулос родился не на Крите, а на Закинфе. Поговаривали, будто он знатного происхождения, что в роду у него графья (настоящее его имя и в самом деле было граф Мандзавино), а он уж и сам не помнил, как очутился в Мегалокастро. К здешней жизни он притерпелся, учил этих дикарей играть на гитаре, одна беда – холодов боялся: и зимой и летом не снимал своей просторной зеленоватой накидки. Его веселый нрав, чудный выговор и гитара поначалу были здешним в диковинку, но понемногу Бертодулос растерял всех своих учеников: закинфские канцонетты под гитарный аккомпанемент пришлись критянам как корове седло. Бедняга Бертодулос голодал, ковылял по кофейням на своих кривых ногах и рассказывал о былом величии Закинфа, затем брал гитару и тихонько наигрывал какую-нибудь нежную старинную мелодию в надежде, что хозяин расщедрится и угостит его чашкой кофе, кусочком лукума с сухариком, а то и с померанцевым вареньем. Иногда он аккуратно заворачивал угощение в чистую бумагу и уносил с собой, потому что у него ко всему прочему была на иждивении одна дряхлая, беззубая вдова и совесть не позволяла ему лакомиться одному: бедняжка так любит сладкое, а для лукума, благодарение Богу, зубов не надо.
Однажды, когда Бертодулос рассказывал в кофейне Триалониса о Закинфе – цветке Востока, – куда никогда не ступала нога турка и где родился гимн «Узнаю клинок расплаты, полыхающий грозой»[37], его услышал капитан Михалис и подумал: «Этот как раз подходит для моих пирушек».
– Вот что я хотел тебе сказать, кир Бертодулос, – обратился он к старику. – Человек ты знатный, благородный, а живешь впроголодь. Это же позор для всего города. Я назначаю тебе месячное жалованье с одним условием: по первому моему зову ты будешь приходить ко мне в подвал на пирушку.
– С превеликим удовольствием, мой повелитель, – ответил граф и, сняв шляпу, склонил перед ним голову. – Отныне я твой раб, прославленный капитан Михалис!
А сейчас этот старичок зябко кутался в накидку и в сильном волнении ерзал на месте.
– Держись, Бертодулос! – повернулся к нему Вендузос. – На жестокую битву идем. Говоришь, на Закинфе родился гимн «Узнаю клинок расплаты…»? Нет, он родился в подвале у Михалиса.
– Ничего, кир Вендузос, пробьемся как-нибудь! Я на всякий случай подготовился. Вот! – И он предъявил друзьям какой-то сверток, зажатый под мышкой.
– А что это? – поинтересовался Вендузос.
– Смена белья, – объяснил бывший граф, славящийся своей опрятностью.
– Ну ладно, – вмешался Фурогатос, бросая цигарку. – Перекурили, и будет. Пора в лабиринт Минотавра. Да поможет нам Бог!