
Между синим и зеленым (сборник)
Кто-то достал самодельную заточку, без которой передвигаться по части – почти смерть, и стал царапать, и вот почти появился зародыш буквы. Но нет. Никак нет. Ни в коем случае. Не потому, что страшно, что пришлось бы, в случае командирской облавы, умирать в нарядах или вовсе, не приведи бог, попасть на вахту за причинение ущерба госсобственности. Никто, ни один солдат, самый зашуганный или борзый, старый, молодой, самый обычный или мазанный капитанскими звездами, – не мог потревожить святую воинскую мощь.
Но теперь Костя был готов. Он был свободен, а значит, непобедим. Он был пьяным, в конце концов, и никто не мог его наказать. Во имя проклятых армейских командиров, за новую достойную жизнь, ради брата, будто бы в знак мести, окончательно поборов проснувшийся страх, долго и упорно шипел он розовым.
Танк безропотно молчал.
Брат тоже отказался от дачи показаний и лишь наблюдал сквозь решетку за высохшими матерями: своей и матерью того фуфлыжника, который перешел ему дорогу. Сраженные общей бедой, женщины по-разному чувствовали наступившее горе. Одна не хотела жить. Другая думала, как жить дальше.
«Костенька, сынок, только ты у меня остался».
Если бы он вспомнил про мать, случилось бы страшное. Может, кончилась бы краска, отсохли руки, уехал бы оживший танк.
Но Костя не вспомнил.
Уходил спокойно, не какими-нибудь киношными дворами, а самой прямой дорогой, с перепачканными руками, кипятком в груди.
– У тебя все в порядке? – спросила мама, когда Костя не стал завтракать, а курил в окно одну за другой, третью за второй. – Ты очень много куришь, сынок.
Костя не отказался бы пропустить домашней настойки, но пить на глазах матери не мог. Он следил за улицей и, услышав стройный вой полицейской сирены, готов был бежать к Старшому, узнать бы только, что делать дальше, куда прятаться, как скрыться.
Старшой долго не брал трубки, а потом прислал сообщение с просьбой перезвонить. «Пока не узнавал. Я сообщу, если что».
К вечеру в районной газете вышла заметка «Розовый Т-34».
– Ты видел, видел? – радовался Костя. – Я тебе говорю, Старшой, мне ничего не страшно. Возьми к себе работать, а?
– Да тише ты. Твою же мать.
Они встретились в новой кальянной. Костя впервые дымил проспиртованным молоком. Старшой глубоко вдыхал, лицо его то и дело скрывалось в плотном густом пару.
– Ты вообще забудь про эту ситуацию. Меньше трепа – больше дела.
– Понял-понял. – Костя говорил с паровым облаком, не в силах рассмотреть глаз Старшого.
– Зря ты, конечно, полез. Там, скорее всего, камеры. Сейчас везде глаза понатыканы.
– Да я выпил просто, – признался Костя. – Может, еще по пиву?
– Некогда, Костян, пиво распивать. Ты мне скажи лучше, как там брат?
– Не знаю. Надо ему написать, наверное. Я ни разу не писал.
– Ты напиши, чего же. Брат все-таки. А у матери не спрашивал про него?
– Да так, не особо. А чего спрашивать. Спрашивай не спрашивай, все равно сидеть.
– Ну да. Ну да, – бубнил Старшой, – ему сколько, два с половиной, что ли, осталось?..
Он расплатился, предупредив, чтобы Костя не палился. Лучше вообще не выходить из дома. Туда-сюда. А насчет работы он узнает. Все будет нормально.
– Это, Костян, – с казал Старшой на прощание, – узнай, как у брата дела. Напиши ему. Скажи, я интересовался. Мне же не все равно. Пусть знает.
Он пытался написать, но выходило так себе, будто брат отбывал наказание, совершив благо, а не особо тяжкое преступление. Ему бы стоило сказать, что вот вернулся, отслужил, все нормально. А получался волнующий треп, вроде как ты потерпи там, мы тебя ждем.
Мать сказала, что брат периодически звонит с разных номеров, а писанина не имеет смысла. Все равно администрация вскрывает конверты и зачитывает чуть ли не вслух каждое письмо.
– Надо к нему съездить, – сказала мама.
– А можно?
– Ведет он себя неправильно, Костя. Я уж сколько пыталась, а он там распорядок нарушает.
– Авторитет нарабатывает.
– Авторитет? Наверное, сынок, я уж не знаю. Может, заплатить кому. Да вот кому только, – задумалась мать, – да и заплатить-то…
Она не договорила, но Костя понял, что лишних денег сейчас нет, и почувствовал вину. Тогда он позвонил Старшому, и тот вновь попросил подождать.
«Я же сказал. Не все от меня зависит. Жди».
В конце месяца, возвращаясь домой после очередных поисков работы, Костя достал из почтового ящика повестку о вызове в РОВД.
Жизнь продолжалась.
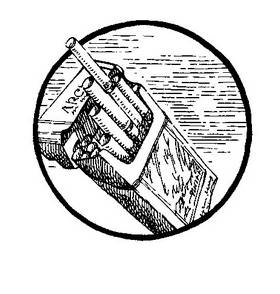
4
Может, и не крик вовсе разразил молчащий веками лес, а засвистели птицы или неведомый солдатам зверь так встретил очередную заслуженную весну. Утих трепет голых веток, задержал дыхание утренний ветер, и никого не осталось, кроме Вермута и Летчика.
Татаренко забрал водку и скомандовал разделиться на две группы.
– Проредим территорию. Не нравится мне это.
Костя отказался идти без алкоголя, но Татарин ответил коротко:
– Я тебя, щенок, нарядами загружу.
Летчик взял ошалевшего Костю под руку и повел в понятную неизвестность, где стволы гордых деревьев то и дело преграждали путь, клонясь от вечной усталости к родной матушке-земле.
Чуча поверил в счастливую армейскую судьбу. Сперва ему разрешили остаться на стреме, но обезумевший от случившегося расклада Татарин, не успев уйти, отставил команду и вновь бросил рокировку, заменив черпака на Ксиву. Так Чуча убедился в своем никчемно-хрупком существовании, а Ксива послушно хлопнулся на землю и скоро задремал крепким непродолжительным сном.
Татарин шел осторожно. Опустив голову, он искал под ногами ответ на вопрос, который не мог задать, но знал, что руководство обязательно подыщет нужную формулировку и при любой возможности обезглавит его умную трусливую голову.
Чуча держался в стороне.
– Не отставай, – твердил Татаренко, словно шел уверенно быстро, а не плелся с покорившей колени дрожью.
– Так точно.
– Глотай сочно, – вновь проснулся в лейтенанте язвительно-жгучий треп, – либо «есть», либо «никак нет». Но в твоем случае только – есть.
– Есть, – промямлил голодный Чуча.
Татарин бессильно матерился. Нужная злость дремала в его добром сердце. Попробуй разбуди офицерского зверя – ведь должен тот проснуться в такие вот моменты, когда только дикий рев может сразить противника, а не эта попутная вежливость, командирское слово, неписаный боевой дух.
Он взял Чучу с собой, чтобы вернуть того целым и невредимым в расположение. Всяко лучше, если молодая черепушка рванула в невидаль, оставь ту на милость покорившей рассудок свободы. Татарин и сам сбежал бы, да только вот пятилетний контракт обязывал трубить, а мысль о военной ипотеке искушала, как вырванная с боем бутылка.
– А мне можно? – рискнул Чуча.
– Можно за хер подержаться, – ответил Татарин.
Разбей группы правильно, пусти молодняк со старшим, возьми с собой Летова или Костю, вышел бы совместный бухой перегон. Осел бы страх, и стало безразлично хорошо настолько, что попадись ты, сбежавший потрох, откинулся бы на месте.
Через силу Татарин сделал глоток, занюхал в рукав, прокашлял и пошел дальше. Чуча усмехнулся, представив, как бы он пил, подари ему право на минутный гражданский отдых. Стояли пред глазами долгожданный дембель и накрытый стол, поднятый по случаю праздника хрусталь, огурчики маринованные, селедка под шубой. Так замечтался бедный Чуча, что не услышал слов лейтенанта и уверенно пошел вперед к невозможной по сроку мечте.
– На месте! Твою же душу! – грохнул наконец Татарин, и Чуча вернулся в прежнюю солдатскую серость молодого апрельского леса.
Лейтенанта накрыл алкогольный саван. Размякли ступни, заискрило цветной стружкой в глазах. Разнылся голодный желудок, заставив опуститься на корточки. Поймав равновесие, не разгибаясь – лишь бы утихомирить спиртованную власть – он объяснил:
– Я тебе орать не буду. У нас тут задача. Нельзя тут орать. Ты мне перестань самовольничать.
Чуча закурил и протянул Татарину сигарету.
Едва слышное спасибо выдал лейтенант и позволил табачному дыму окутать себя мнимым защитным шлейфом. Когда успокоился топот сердца и виски перестали жать, он поднялся кое-как, хватился за хрупкую ветку и, поймав равновесие, шагнул за дерево и за другое и, уже не видя Чучу, приказал тому сидеть на месте.
Лейтенант зажурчал. Мочился он, как школьник, поглядывая по сторонам, будто нарушал установленный запрет, словно лес мог рассердиться, приметив, как отливает Татарин на его непорочной территории. Блаженно откинув голову, заметил пепельное небо. Оно смотрело на него свысока, равнодушно пуская по ветру густеющие тучи. Не спрятаться, не скрыться. Лейтенант зажмурился, добив остатки, тряханул не глядя и, еле справившись с уставной застежкой на штанах, пошел обратно.
Ему бы не стоило открывать глаза, точнее, открой их, показалось бы, что лейтенант по-прежнему где-то в своей личной темноте, уютной незримой каморке, только лес шумел тишиной и крадущимся скрежетом юной травяной поросли.
Он снова закрыл глаза, протер их ладонью, но если сон только подкрадывался, заменяя усталость, то явь жила и побеждала. Не своим шепотом, лесным дыханием, он спросил кого-то: «Чуча?», и, когда Чуча не ответил и стоило уже кричать настоящим офицерским басом, Татарин вдруг понял, что не знает и фамилии черпака, а уж имени – подавно.
«Чуча! Твою мать! Чуча!..» – Лейтенант кричал, перебивая волны эха, но Чуча не откликался и сам, казалось, уплывал вместе с гулким звуком.
Татарин растерянно посмотрел в небо, как если бы Чуча мог оказаться на нем, в его серой дымке с размазанной камуфляжной краской. Лейтенант бы спросил, что теперь делать, но не верил в небесную власть, да и небо обязательно промолчало, кутая лес пасмурным саваном.
Когда сделал круг, когда сколько-то прошел туда и обратно, не потерять бы след, заметив, что вещмешок с сухпаем тоже исчез, он позволил все-таки признаться, что Чуча смотался. Сел на прежнюю землю, потянулся за добавкой к уходящей силе, но и бутылка ушла, не попрощавшись. Закрапал дождь, намокло лицо, компенсируя возможные слезы. Ну ладно, две или три гордые офицерские слезы.
Он уже хлопнул по карману и полез за телефоном, решив доложить о случившемся, напрямую сообщив ротному, но так и не смог подобрать оправданий, да и связь кромсала сигнал. Покрутив мобильник, в который раз пожалел, что не выдал телефоны Ксиве и Летчику, и, решив сдаться, укусил манжет и закричал непростительным бабьим ревом.
И лишь тогда он был счастлив, что остался один и никто не видит, как добивает изнутри стойкий нервяк, превращая офицера в половую тряпку, которой и полы не вымоешь в сортире.
Простонав и выслушав, как режет дождь набухшую землю, он решил вернуться на точку, где нес дежурство Ксива. Екнула надежда, что Чуча мог быть там, ведь некуда бежать из леса. И так приветлив стал ветер, что ноги понеслись, как при свежем дыхании на последнем километре марш-броска.
Небо мчалось за ним. Бежала одинокая тропа. Завистливо тянули ветвистые пальцы молодые деревья, не в силах сдвинуться с места. Ожившие стаи птиц выпорхнули, как лесные стражи, и где-то застыли вновь, не успев захватить офицерскую суету. Донесся колокол ручья, а после застучало под ногами – рухнуло одеяло веток, согревавшее тополя всю минувшую в память ночь. Случайно стрельнула из неба лучистая пыль, но тут же затянулась прежней хмурью, и преградила путь уснувшая насмерть, когда-то павшая от старости, стать громадного ствола.
Запыхавшись, Татарин остановился. Неведомая сила, угрюмо задышав, пустила ему навстречу густую охапку тумана. Зачем-то замахал руками, чуть не слетел с плеча автомат. Изо рта выпорхнула струйка пара, и сам лейтенант чуть не растворился в спирали воздушных мощей.
Он хорошо бегал в курсантские времена, а теперь, засидевшись в кабинетной тесноте, с красками и стенгазетами, забыл, как скоро забиваются икры ног, как столбенеют ступни и деревенеет тело.
Оглянулся, закурил. Курево ушло с Чучей, но валил изо рта кулачный пар, и пахло табаком. Совсем не табачная дурь нахлынула вдруг, булькнула с издевкой случайная мысль – ты теперь совсем один, и стало страшно настолько, что страх уже не проступал, а зажил внутри лейтенанта.
Ему не показалось. Одинаково безразличными стали деревья, крестами закружились тропы, тонущий в пропасть овраг остался позади, а куда идти дальше, лейтенант не знал. Он было крикнул с надеждой «ау», но ударение пало на первый звук, и нелепость окончательно покорила бедного Татаренко.
Показалось, что ли, может, впрямь услышал голоса. Нет же, никого. Лишь ухнул вдали птичий трепет.
– Так нельзя, – говорил вслух лейтенант, – я же солдат, я же офицер, твою же мать.
Он говорил и говорил, словно кто-то мог услышать его и поддержать разговор. Иногда ему казалось, что и впрямь доносится ответный скрежет с неразличимых уст этих бесконечных деревьев.
Лейтенант не знал, что лес действительно говорит с ним и, подбадривая ветер на кружево, сводит офицера с ума.
С высоты вековых деревьев он видел Татаренко. Осторожно ступал за лейтенантом, игриво подталкивая в спину, вроде иди же, иди. Татарин куда-то шел, а вместе с ним разливалась дорога, вторая и третья, и некуда, в общем-то, было идти. Стоило лейтенанту сделать шаг, когда вроде бы узнал вон тот случайный камень или поваленное дерево, как рождалась чащоба и бил в невидимой дали упорный клич родника. Потом открылась голая полость земли, и Татарин наконец вспомнил, что именно здесь еще час назад он шел с пропавшим Чучей. Казалось, что в сером облаке земляного пара он уже видел Ксиву, но птичье улюлюканье, налетевшее стаей на глубинную тишину, разрывало мнимую близость, и все повторялось опять и опять.
Лес хохотал, и смех звенел, закладывая уши Татаренко. Лес умывался росой, и расплывался в глазах офицерский мир, мутнела картинка, пелена заметала след. Лес наслаждался предстоящим цветением весны, и задыхался в ответ лейтенант.
Лес ошибся, подумав, что Татаренко обнаружил его. Лейтенант, повинуясь уставным приказам, сам себе скомандовал «кругом», развернулся через левое плечо и рванул в обратную сторону. Добежав до прежнего камня, сиганул влево и заметил вялый ручей, тогда снова бросился назад и гонял вокруг да около так, что лес перестал петлять дорогу, не зная, куда может рвануть обезумевший Татарин.
И лишь, когда Татарин опять перешел на шаг, когда неизвестность победила, опустив того на землю и заставив просто быть, лес понял, что человек не изменился, человек не смог его одолеть, человек остался человеком.
Наверное, стоило Татаренко вовсе лечь пластом, слившись с древесной падалью, и лежать так, пока тело его не врастет в землю, не пустит корни и само не прорастет стволом, не распушит крону, не коснется неба, не скажет лесу – я с тобой. Но лейтенант опять попробовал шагнуть. Идти ему нравилось больше. Да и лес не был готов принять офицера, а только рассмеялся с прежней силой, до узнаваемого грохота, звона и топота в груди, равнодушно махнул голой апрельской лапой и, задрав голову, бросил тяжелый взгляд на довольных дембелей.
Они шли, не зная леса, не задумываясь, как долго придется идти, прежде чем лес отпустит их, не готовых к вечной древесной тишине.
Костя подыскивал удобное местечко, такое желательно, чтобы не спалиться (хотя перед кем тут спалишься, перед деревьями, что ли?). Обрадовал же Леха, что прихватил на базе еще бутылку. И когда волнистые холмы сменились на ровные полянки и наконец зарядили сосновые столбики, Костя обозначил позицию – здесь самое то.
– Ну вот, зря психовал. – Довольный Летчик достал бутылку.
– И тушенка?
– Обижаешь.
– Скажи ведь, что Татарин охамел все-таки. Не ожидал, конечно. Ты вот думаешь, он прав?
– Да какая, братан, разница? Нам домой скоро. Пусть хоть ошакалится в корень.
– Твоя правда, – махнул Костя, – ну че, здравы будем?
– Здравы будем, бояре, и все ваше, кореша.
Пацаны рассмеялись. Смех лился живой и невредимый и почти касался гражданки, звенел надеждой в лучшую жизнь. Они выпили быстро и по-мужицки не закусывали после первой, но не сдержались и все-таки хапнули тушенку.
– Так-то уже пили, – оправдался Летов.
– Ну, – протянул Костя, – заиграло в груди свежее тепло и захотелось жить.
Разливался по лесу безразличный тупой стук. Так, наверное, билось лесное сердце, но солдаты не думали об этом и разве что теребили в руках случайные прутья, сжимали в ладонях сырые ошметки земли.
– Ты вот как жить планируешь после армии?
– Я-то? – спросил Летчик, будто особо жить не собирался. – Да я не думал, если честно. Ну, как-как. Да как все, работу найду. Женюсь, ну, все дела.
– А я вот первым делом напьюсь, – выдал Костя и глотнул смачной добавки.
Лес поплыл, накрыл волной, но Костя и не думал тонуть. Только Летчик сидел с нетронутой молчаливой улыбкой и, видимо, наслаждался мыслями о светлом будущем.
Не о чем было говорить пацанам. За столько месяцев наговорились они от души, что и теперешнее молчание дышало своей какой-то словесной жизнью. Не напрягай язык, просто будь рядом и знай, что тебя понимают.
Шли долго.
Упрямо смотрели под ноги. Земля таращилась в ответ. Она бы с удовольствием захватила парней в свою адскую пропасть, но лес не разрешал. Лес медленно плыл и наблюдал. Близорукий, долго присматривался, не различая Летчика от Кости, один камуфляж от другого. И не было меж ними разницы.
Леха часто представлял, как наступает война и как в первом бою несется он во вражеский упор, подрывая защиту, раскидывая на ходу одного за другим. Мелькнула первая воображаемая медаль, и заломило в глазах от света наградного металла.
Жажда подвига иногда поднимала его на ту запредельную высоту, до которой даже героический лес не мог дотянуться.
Лес плелся за пацанами и ветром щекотал Лехин затылок. Ветер играл и заигрывал и мог в одночасье исполнить Лехину мечту, но все думал, стоит ли толкать на встречу с солдатами недавнего зэка, беглого мужика.
Лес дышал, и ветер суетился. Прошедшая зимняя скукотища насытила его до шквалистого края, и теперь он просто не мог дождаться, когда, ну когда уже начнется привычная весенняя свиристель.
Ветер подмигнул, и лес ответил: потянулись ветви к густому небу, родниковые воды зашумели под лесной опорой.
Летчик заметил первым. Костя тоже разглядел почти сразу тощее тельце и похожую на свою, бритую голову, но решил, что забродил так алкогольный градус, выдав нежелательную картинку сбежавшего зэка. Летчик врос в землю, не двигаясь, он спустил с плеча автомат и заметил краешком глаза, как приседает Костя, не в силах справиться с такой вот встречей. Стоило, наверное, сказать что-то, перекинуться, по крайней мере, согласованным, что ли, взглядом, чтобы действовать совместно и уверенно. Но молча они смотрели, как прямо на них тащится мужик в уставном тюремном тулупе, пуская изо рта табачный ли, природный пар.
Костя эту монотонную робу сразу узнал. Он видел в такой же брата, когда тот тянул первый срок. Помнил белые полоски на рукавах и такие же в области ног – светом надежды сияли они в бездонной черноте униформы, а где-то под сердцем, на груди, блестела нашивка с фамилией.
Они бы разглядели обязательно фамилию этого лесного блудника, но так он стремительно двигался навстречу, что стоило, наверное, дать обратную и рвануть, куда только можно, куда ноги понесут, не нарваться бы на вышедшего, словно из спячки, зверя. Он видел солдат и чувствовал, как дрожит в затворе уже досланный патрон, различал частые рывки дыхания Кости и слышал, как в Летове просыпается сила, как топчется его дух, готовый броситься и победить.
Вспотевший не от страха – от подарка судьбы, – Летов почуял, что вот она, возможность. Бежать передумал, а только навел в сторону зэка уверенный ствол и скомандовал грубое: «Стой!»
Мужик остановился и, топчась на месте, нехотя поднял расслабленные руки. Без напряга, почти зевая, смотрел на пацанов, терпеливо дожидаясь, будут ли новые команды, рискнет ли кто-то из солдат открыть огонь или вообще хоть слово сказать. Но слово сидело взаперти. Не готовое на побег, дожидалось часа, когда снимут с него оковы понятного страха.
Бледный Костя прицел не держал, он вовсе забыл, что вооружен, и только следил не мигаючи, как пялится дохлый зэк, как протягивается лыба на скомканном его, остром лице и гуляют игриво пальцы с намеком, что победа, как ни крути, останется за бывалым. Мужик распрямил правую ногу, отодвинув ту с заметным усилием, как если бы мучила боль или сводил перелом или вывих. Он пожал плечами, извиняясь за такой вот вынужденный поворот, покрутил ладонями, жестом объяснив, что не намерен дергаться, а готов при случае сдаться, гражданин начальник.
– Стой на месте, – повторил Летов, – ты кто? – спросил он, будто не знал, и не ждал, и не был готов к встрече.
– Дед в пальто и мать пихто, – оскалился мужик, низкий голос его гулкой трещиной кромсал неудобную тишину.
Замешкался Летчик, и Костя слышно сказал:
– Смотри не выстрели.
Летчик, не сводя прицельного взгляда, ответил:
– А чего так, чего бы не стрельнуть?
Между ним и зэком, в скольких-то метрах, теснилась твердая надежда, что сейчас вот он, сержант Летов, ухватится наконец за краешек настоящей медали за воинскую доблесть, и наградят его в огромном, может быть министерском, зале, где соберутся все, и сам Шойгу пожмет его маленькую руку и отметит глубину бесстрашной солдатской души. Он поравнял прицел с мишенью дощатой тюремной груди. Вспомнил, как учили на огневой подготовке обращаться со спусковым крючком.
«Как с женщиной, – учил взводный, – нежно и ласково. Аккуратно, мужики, с любовью».
Поглаживал Летчик стальную загибулину. И какая же тут любовь, думал он, если от нежности просыпается пуля и рвет наглухо живую плоть.
Но это не важно, это суета. Тогда на первой вылазке в боевую жизнь, когда учебный полигон казался разгромленным в щепки послевоенным городом, Летов стрелял по деревянным человечкам – те падали с мертвым покаянием, и гремел от радости командир: «Молодец, Летов! Давай дальше».
На следующем огневом рубеже он стрелял в ряд форматных А-4, пришпоренных канцелярскими гвоздями к стендам, выстроенным покорно для неминуемой смерти. Белые-белые, листы сами притягивали пули, несущиеся сквозь дым плотного воздуха, и комроты уже не хвалил, а гордо молчал, считая меткость Летова своей личной воспитательной заслугой.
О чем думал зэк, никто не знал. Может, лес даже не был в курсе, так уж задумчиво он молчал, удушливой казалась тишина. Может, сам зэк не догадывался, что способен думать в момент, когда наставлен на него прицел Калашникова.
И пока Летчик справлялся с дыханием – беспокойными волнами бродило оно без оглядки, – Костя вспоминал брата. Тот стоял перед ним, и черты его проглядывали в беглом зэке. А что, думал Костя, если брат побежит и нарвется вот так вот на двух раздолбайных солдат. Вдруг уже побежал и кроется где-нибудь в подземных трущобах, в подвальных оскоминах сырой гнили. А может, может, этот зэк и вовсе знаком с братом, вдруг вместе те сгущали черную масть в номерной ИК, борясь за свободный труд и право на режим. Он подумал даже, что ничем не отличается от них: уставная форма, ограниченное передвижение, кормежка почти наверняка такая же, эти командиры взводов, ощущение срока, время…
И так захотелось ему сейчас же прекратить застывшую паузу, что повторил:
– Ладно тебе, Леха. Отпусти.
Летчик не слышал. Он готов был выстрелить. Он мог бы, наверное, убить и не задуматься, что случится после. Зато Костя откуда-то знал, что такое смерть, будто видел ее – живую, словно сам был виновником чьей-то смерти.
Потянулся ладонью к стволу, и Летчик, сдавшись, сиганул россыпью мата.
Костя махнул зэку:
– Иди давай. Быстрее! Уходи!
Зэк опустил правую, за правой опустилась левая. И все внутри опустилось сперва у Кости, потом у Лехи. Опустилось, защемило и зажгло где-то в животе, дернулось в коленных чашечках, мякотью застыло в ступнях, а после хлынуло жаром. Захрипел зэк, кивнул и, не разворачиваясь, потопал спиной вперед, да так уверенно, будто раскрылись глаза на затылке или старый лес раздвинул ручищами стройные деревца, освобождая зэку незримый спасительный путь.
Летов долго еще смотрел на мельчающего зэка сквозь дрожащий кругляшок прицела. Он обязательно решился бы на выстрел, не будь рядом Кости. И сам, если честно, не понял, почему не стрелял.
Залил дождь. Так лес ревел от счастья. Пуля не пронзила лесную тишину, не ударил огнем отблеск свежей крови, жив остался человек, человек остался человеком.
– Извини, братан.
– Да пошел ты, – психанул Летчик.
В награду ли, от радости победы, лес размочил невидимые тропы, пустив к пацанам Татаренко. Он плакал, бедный-бедный лейтенант, и, втирая слезы в опухшее лицо, заметив издали родных сержантов, бежал к ним, не веря своему счастью, не веря вообще, что счастье может быть настолько внезапным.