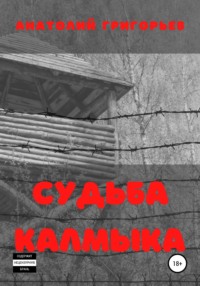
Судьба калмыка
Работоспособные калмыцкие женщины и подростки еще на станции были разобраны посланцами из колхозов и леспромхозов и увезены на работу. Тем повезло больше. К труду не привыкать, хотя он был адский, но эти люди были как-то обеспечены жильем и пищей. Они числились в рабочих списках, с них спрашивали, за них отвечали.
А безродные, непригодные к труду дети, старики и старухи оказались никому не нужны. И в этой мешанине они просто не существовали, хотя и были живыми. Вот и заботились они о себе сами как могли, и гибли без учета, без фамилий. Небольшими кучками они ходили по селу от двора к двору и молча стояли под избами, пока хозяева не догадывались подать что-нибудь съестное, если такое было у них самих. Чаще они уходили ни с чем, и в закоулках улиц находили мертвых старух и дети. Энкаведешники сбились с ног увозя на черных воронках трупы, а куда – неизвестно. Потом стали просто обязывать приехавших на лошадиных повозках возчиков в райцентр по разным делам увозить и расселять спецпереселенцев в свою деревню. Черные воронки отлавливали бродячие кучки беспризорных калмыков и увозили в соседние деревни, выгружая у сельсовета. Примерно год понадобилось районным властям чтоб хоть как-то определить калмыков. Спихнуть с глаз долой. К концу войны стали привозить на поселение латышей и литовцев, те приезжали красномордые, здравые, с большими запасами продуктов. Что интересно, среди них было много мужиков, и они приезжали с семьями, чинно раскланиваясь с местными. Но где были мужики у калмыков? Расстреляны? Погибли на войне? Определены в спец зоны? Оказалось и то и другое и третье. Но оказалось больше всего в спец зонах, так сказать на великих стройках. К концу войны в Шалинском появилось несколько солдат-калмыков, и что удивительно с наградами. – Вот! – вздыхали бабы. Предатели не предатели, а живы. А наши головы сложили. За что? – За Родину, за Сталина! – подсказывали всюду шнырявшие энкаведешники в штатском.
Маришка тоже горестно вздыхала, что они с Сеней совершили большую ошибку, переехав в райцентр перед самой войной. Жили они громадной семьей у родителей Семена. У троих старших братьев были дети. Бурлила семья. Тятенька с маменькой управлялись. Да и неженатые братовья и сестры подрастали. Все работали, были при деле. На финскую Сеня угодил, но цел остался. С орденом пришел да еще и старшим сержантом. Ну и понравился он военкому, затаскали его в военкомат: Давай, молодежь призывную обучать будешь! А ведь до Шалинского 45 километров. И пешком приходилось топать.
–Командиром будешь! Что ты орден Красного Знамени даром на груди носить собираешься? Опыт молодым надо передавать. Переезжай в райцентр, жилье дадим.– совестил, уговаривал военком.
А когда отец громадного семейства узнал что его Семен – кузнец наипервейшей марки – собирается уезжать в Шалинское, не стерпел. Схватил со стены ременные вожжи и потрясая ими петушком забегал вокруг него.
– Ах стервец ты доморощенный, я те уеду, я те отделюсь.
Широкоплечий крепыш Семен хмурился, косясь на хихикающих братьев и сестру, забравшихся на русскую печку, и наблюдающих за сценой:
– Тять, ну стыдно же!– тихо выдавил Семен.– а ехать все равно надо.
–Ох! Колыхалась на лавке рыхлая, тучная бабка Анна, жена старика- Артем Романович! Охолонись!– причитала она.
– Я вам неслухи! – дед гневно уставился на старуху.
– Будет вам! – неожиданно вышла из-за занавески пышноволосая шестнадцатилетняя красавица Катька, единственная сестра семерых братьев Григорьевых.
– Ах! – почти в голос выдохнули четверо невесток, в том числе и Маришка.
Старик уже заносил в сторону руку с вожжами чтоб ударить сына, но дочка ласково улыбаясь и глядя на отца спросила:
– Тять! А ты че и вправду меня за Ваньку полоумного засватать хочешь? – И Катька ловким движением вынула из рук отца вожжи и кинула под лавку.
– Ты че, моя милая? Ты у меня свет в окошке. Мать, Ваньку в дом не пущать! – приказал он бабке Анне.– а то я его вожжами перетяну! – и он рассеянно посмотрел на руки и засмеялся. Засмеялись и все обитатели избы. На столе уже пыхтел самовар, и невестки юлой носились от печки к столу, расставляя еду и посуду.
– С утра завтра пусть едут дети наши. Посидим по-людски, чаю попьем, поговорим.
Семен подхватил сухонького старика и закружил по избе.
Остепенись, я вот-те щас накладу! – слабо сопротивлялся старик. Хохотала ребятня, вытирали слезы невестки и бабка Анна. Потом долго пили чай с пирогами. Замолкали, когда что-либо говорил дед.
– Обучать молодь будешь, шибко-то не расслабляй! Да Маришку не забижай, дробненькая она. Трое вон орлов доглядывать надо! Да и на сносях четвертым.
–Тять, ну разве я могу обидеть?
– Ты послушай-ка пока! И еще. Ей среди нового люда не шибко ладно будет, говору-то нашего сибирского нет. Мариша, ты мне если че телеграмму стукни, я мигом соберусь, погляну как он тебя и внуков моих содержит.
– Тять, ну ты че!
– Да вот че. Родительское слово исполняй.
– Буду тять, буду.
–Ну то-то.
…Рано утром вел Семен под уздцы лошадь с телегой, в которой была наложена утварь и поклажа, на узлах сидела сонная тройка ребятишек. Маришка, вытирая слезы ладошкой, все глядела назад – на избу, где прожила семь лет. У широких ворот стояла, трясясь, ее свекровь, помахивая рукой и прижимая платок к глазам. А у столба стоял свекор, молча смотря им вслед. В Маришкиной голове застряли слова свекрови, которая сквозь слезы говорила: Милые вы мои дети, доведется ли нам свидеться? Не довелось. Умерла бабка Анна, не выдержав горя – всех семерых сыновей забрали на фронт и двух старших внуков. Погибли пятеро. Пошел добровольцем и дед Артем – удалой охотник был. Белку в глаз стрелял. Не взяли. Старый. Погоревал о сынах, о внуке, о бабке – да и сам слег навечно рядом с ней.
Не знала еще этого Маришка, шагая в окружении старших невесток, но сердцем
чувствовала. Ой, как чувствовала! Впереди что-то будет страшное. И точно.
Приехали они в Шалинское, определили их в маленькую избенку – временно. – Погоди, хоромы тебе подберу со временем! – хлопал Семена по плечу военком. Молодец! – и блудливым глазом поглядывал на Маришку.
Весь вечер устраивались. Устали до смерти.
А утром услышали какие-то крики. Маришка выскочила во двор и услыхала страшное слово: Война! Она обомлела и прислонилась к крыльцу. Подошедший Семен крепко обнял ее и прижал к себе. А за забором стояла их соседка – бабка Лысокониха, которая скорбно смотрела на них и повторяла: – Война, детки, война.
Это было утро 22 июня 1941 года.
Глава 3
А через три дня срочно сформированный полк из старослужащих бойцов бодро шагал на станцию Камарчага для погрузки в воинский эшелон. Был там и Семен. И после короткого обучения в Красноярске с одной винтовкой на пятерых (а, перед боем получим!) были брошены быстрыми темпами в Москву. На самый тяжелый рубеж обороны – Ржевское направление. Сибиряки выдержат! Им хоть в огонь, хоть в мороз – везде выстоят. Все с надеждой смотрели на них. Плохо вооруженные сибирские полки отчаянно дрались, но против танковых полчищ и мотопехоты, до зубов вооруженных фашистов выстоять было невозможно. Навечно легли сибиряки, заслоняя собой Россию и Москву. Среди них геройски погиб и старший сержант Семен Григорьев, 22 января 1942 года – так значится в похоронке-извещении, которую Маришка не смогла ни разу прочитать сама из-за пелены слез в глазах. Похоронку всегда читал старшенький – Вовка. Годы лишений и тяжелого труда во время войны не сравнить ни с чем. Но люди жили, росли дети, как-то учились. Выкарабкался после тяжелых мучительных перевязок и Маришкин Толичек. Война близилась к концу. Налицо были видны ее горестные результаты. Появилось много инвалидов, безногих, безруких и с изуродованными лицами. Народ уже не обращал внимания на приезжих переселенцев разных национальностей. Война наделала неразберихи – это понимали все, она ожесточила людей и попасть под страшную статью – враг народа – мог любой. Скажи слово не так – и загремел. О калмыках как-то забыли, хотя в этой многонациональной мешанине на глаза они все-таки попадались и уровень их существования был явно ниже всех. Катька, приезжавшая в райцентр за горючим или мукой для леспромхоза каждый раз увозила в Орешное несколько человек – калмыков. Заставляли энкаведешники. Она смеялась: С глаз долой спихиваете?
Райцентр, так сказать, зачищался от них окончательно. Их выселяли из землянок, сараев и заставляли переезжать вглубь района. Каждый раз, когда она приезжала в райцентр, обязательно останавливалась у Маришкиной избы и заходила проведать ее с ребятишками. Для них был настоящий праздник. Во-первых она всегда привозила что-нибудь съестное, то молока, то яиц, то орех и ягод. Во-вторых ни у кого из пацанов не было такой симпатичной тети – трактористки. Она позволяла набиваться пацанам на тракторные сани, сколько бы их ни было. Сани были летом и зимой, и прокатиться на них было делом очень соблазнительным. Каждый раз по приезду, оглядывая крошечную избенку, она звала их перевезти в Орешное. Покачивая головой Маришка отказывалась в очередной раз: – А вдруг Сенечка придеть? Не, Катенька, покуль тут поживем. Так, армейцы?
– Поживем, ничего! – вторили ей сыновья. А Катька, обнявшись с Маришкой, плакали навзрыд. Убили на фронте и Катькиного жениха. Наплакавшись вдоволь, Катька отвела взгляд в сторону и известила:
– Маменьку-то схоронили, два дня назад. Долго приказала всем жить.
– Ох! – тихо опустилась на кровать Маришка.– Божачка ты мой Божачка, куды теперь нам прислонить свою головушку! – тихо заголосила она. Посидели девки-бабы, поплакали, и засобирались по своим делам. Катька поехала с оравой ребятни на нефтебазу, Маришка на работу. Сыновья подросли, стали серьезнее. И хотя старшему было уже 10 лет, среднему – 8, а младшему 6, душа за них все равно болела. Была последняя военная весна. Апрель выдался солнечный и уже в середине месяца снегу – как не бывало. Набухающие почки деревьев и кустарников казалось вот-вот лопнут и выбросят клейкие морщинистые листочки. Ребятишки бегали раздетые и босиком. Кабы к концу месяца не заморозило, – греясь под солнцем на завалинке шамкала бабка Лысокониха. Известие о гибели сына и дочери уже в последние месяцы войны сильно подкосило старуху. Она согнулась и непрестанно кашляла, посылая сухонькими кулачками проклятья Гитлеру. Ребятишки участливо относились к ее горю, помогали ей приносить сучья на дрова и воду с реки. Привычно бежали играть за огороды, где перед болотом был заброшенный ничейный низенький сарай – землянка, построенный когда-то рабочими артели для заготовки и сушки осоки. Резучая была эта трава, осторожно надо было ее рвать или срезать, но особенное ее качество – быть годной для побелочных кистей, всегда привлекало к ней внимание. Этот сарай-землянка находился как раз за огородом Маришки, огороженного жердями. Как-то поздней осенью прошлого года она заметила, что из землянки вьется дымок. Это было вечером. А может это и не дым, а из болота туман. Близость болота всегда настораживала Маришку и угнетала. Зайдя в избу, она оглядела мальчишек и спросила: – Жгли костер за огородом в землянке? – Не, мам, там калмыки живут, а костер у них всегда горит. – А чаго ж ёны там жавуть? –Мам, кисти из осоки делают, корзинки из прутьев плетут. Живут.
– Потонуть ёны в проклятом болоте, не знамши – забеспокоилась Маришка.
– Нет, мам! Они смело по болоту ходят, особенно эта старуха, как ее?.. – сморщился Вовка.– А, Менга, Менга, вдруг выпалил он.
– Как это ходють? – заинтересовалась мать.
– А на ноги одевают такие плетеные из прутьев, ну такие широкие, как лыжи, и идут, прутья и осоку режут. Здорово! А одна ихняя калмычка летом пошла без этих лыж и утонула. Ну, эти старухи все приходили, сидели смотрели, трубки курили, потом пели чего-то. А потом глядим через несколько дней, у них костер в землянке горит, а они плетут корзинки и кисти из осоки вяжут. А потом и по болоту ходить стали. Страшно сначала было, ведьмы мы думали, черные, оборванные они, а потом увидели на чем они ходят, смеялись.
–А Вовка тоже ходил по болоту, брал у них эти лыжи! – высунулся с кровати Толька.
– Предатель! – кинулся к нему Вовка.
– Божачка ты мой! – закрыла рот в испуге Маришка. – Утонешь, сыночек!
– Не утону, а этому твоему Толичеку точно щелбана дам.
– Мама, а Вовка тоже умеет корзинки плести – не унимался Толька, – а Колька уже две выменял не четыре яйца. Мы три съели, а одно тебе оставили. Вон на окошке лежит.
– Милые вы мои детки, голодуха уже на болото вас загнала. Прошу Христом Богом вас, не ходите к болоту. И кто знает, какие эти калмыки, как бы худа не накликали. Милиция затаскает.
– А че, мам, милиция? Милиция давно знает, что там калмыки живут.
– Приедут, заберут кисти и корзинки, покричат, сунут какую-то бумажку и уедут.
– А чаво ены им кричат?
– А нельзя здесь жить, не положено, спекуляцию разводите. Ну, старухи соглашаются, выйдут из землянки, сядут в сторонке и ждут, пока они уедут. Милиция уедет, они опять назад приходят. За кисти да за корзины, они хоть картошки или чего-нибудь выменяют, а так у них все отберут.
–Ой , бедные люди! – вырвалось у Маришки. – Ходим к ним, отнесем картошин хоть пять.
– не, мам, они седня хорошо выменяли. И картошку. И лук.
– Нас даже угощали! – опять выкрикнул Толька.
– И вы ели, не заразно?
– Мам, это такие же люди, а картошка печеная в костре у всех одинакова.
Маришка о чем-то думая осматривала избу.
– А спят они на чем? Холодно ведь на дворе.
– Спят на сене, травы надергали, насушили. Вот и спят.
Она нашла старенькую дерюгу, смотала в комок и глядя на ребятишек сказала: Хадим отнесем им.
– Пошли. Давно бы было надо им дать чего-нибудь из тряпья, да все боялся тебе сказать, что заругаешь. А они старухи хитрые стали, наплетут корзин, кистей навяжут и на болоте в кустах спрячут. Когда надо отнесут обменяют, милиция приедет, а у них в землянке ничего нет. Поругаются и уедут.
Маришка с ребятишками пошла через огород к землянке.
– То-то вижу, тропинка через огород прямо к землянке ведет. Часто тут бываете?
–Бываем, – затараторили ребятишки.
Вовка снял верхнюю жердину из изгороди для матери. Подойдя к землянке, они увидели небольшой костер, над которым висело помятое закопченное ведро с деревянной крышкой. У задней стенки виднелись очертания полулежащих людей. Вход в землянку наполовину от низа был завешен мешковиной.
– Менга! Байса! Мендуть! – несколько раз произнес Вовка. Полог зашевелился и откинулся с одной стороны, и показалась небольшого росточка сухонькая старуха в меховой шапочке с трубкой во рту. Вечер был лунный , и она подслеповато щурясь оглядывала пришельцев. – А-а! – лучисто засветилось лицо старухи.– Мендуть – Здраста, Вовика! И тыча пальцем в каждого пацана она перечисляла: -Колика, Толика. Потом ткнула в себя трубкой, вынутой из беззубого рта – засмеялась. – Менга! Ребятишки тоже радостно засмеялись. Потом старуха указала на Маришку: – ЭЭж, эк?
– Ага, это наша мама.
– Мама, Мараишка? – выпалила старуха.– и все весело засмеялись.
– Откуль она меня знает?
– Знает. Я рассказыва – ответил Вовка.
– А ты по-ихнему понимаешь? – спросила мать.
– Немного понимаю.
–А ничего это? – настороженно спросила она.
– Мам, ты за это не переживай. Менга, а че Байса не идет сюда?
– Байса – пух – пух.– и старуха закрыла глаза и запухала впавшими щеками.
– Спит? – осведомился Вовка.
– Сапит, сапит – закивала Менга. Пацаны дружно засмеялись. Маришка протянула ей свернутую дерюгу, скзала: Спать холодно, укроешься.
Старуха вопросительно поглядела на Вовку. – Бери, бери, – кивнул он.
Старуха сунула трубку в рот, и, прижав сверток к груди, наклонилась. – Ханжинав, ханжинав!
– Чаго ена говорит? – обратилась Маришка к сыну. Благодарит за подарок.
– Какой же это подарок? Бедные люди! – Маришка с жалостью смотрела на старуху. Потом тронула ее за плечо. – Мои детки, Колик и Толичек, яще маленькие, и она показала на ребятишек, и на болото, – утонуть могут, посмотри за ними. Болото – буль – буль.
И Маришка прижала руки к вискам.
– Бичке – буль-буль – Толика, Колика, Вовика! – Бичке! – гладила она Маришку по локтю. Потом выхватила из кучки прут, и пригрозила пацанам: Бичке – буль-буль! Те живо отскочили от нее, удивленно смеялись, и сразу засобирались домой. – Нельзя тонуть! – говорит она. – переводил Вовка. –Поди ж ты, совсем нерусские, а такие же жалостные – удивлялась Маришка.
– Ну, пойдем до дому! До свидания! – и она помахала рукой.
– Менга! Сээхн ненд бээти! – последним пошел Вовка. Здраста – свидания! – махала в ответ старуха.
До самых больших снегов жили старухи в землянке, Маришка часто приносила им то супа, то щей, хоть без мяса. Потом к большим морозам землянка опустела. Говорили. Что приходил участковый и сильно ругался, узнав что старухи прятали в болотные кустарники свои изделия и выгнал из землянки. Маришка загрустила, где же зимуют бедные старухи? Морозы-то страшные. А может померли уж где?
– Не, утверждали пацаны, они дюжные, отсиживаются где-нибудь в кочегарке в тепле.
– Ну и слава бы Божачке! – крестилась Маришка. – свои-то матери – старухи померли, нет у вас бабушек. А старые люди в избе – польза большая, особенно для деток малых. Это как икона в переднем углу у христьян в избе. Как без хозяина дом- сирота. – влажнели глаза у Маришки. – Будут живы бабки эти, ей-богу пущу их на следующую зиму к себе. Места всем хватит.
– Ну ты, мам, даешь. Они же эти, как их, нехристи, да и черные. Грязные.
– Эх, детки мои милые! Заставь вас по-собачьи жить, али на цепь привяжи – не токо грязные будете, какать под себя будете.
– А Розка у нас чистая, она никогда даже во дворе у нас не какает.
– Розка-то у нас хорошая собачка, на свободе она у нас, детки.
– Так и старухи свободные, куда хотят ходят – спорили пацаны.
– Нет, милые мои, несвободные они. Малые вы еще, не понимаете. А грязные они – отмыть их в баньке, одеть в хорошую одежду, бабы еще красавицами будут.
– Ох, бабки – красавицы! – смеялись ребятишки.
– А мне нравится, как они трубки курят – вырасту, большую трубку себе куплю и буду курить – пых – пых! – как паровоз пыхтеть – дурачился Толька. Я с тетей Катей ездил в Камарчагу, там много паровозов видел, и калмыков тоже много, и даже девчонок ихних.
– Да. Бедуют и их дети, за какие грехи, не понимаю. Маришка налаживала постель и укладывала ребятишек спать, грустно покачивая головой. Последняя военная зима – голодная, с сильными морозами, уже не казалась такой страшной, как предыдущая. успешные действия наших солдат на фронтах Великой Отечественной, несмотря на сильные потери, грели души людей, что их сыновья и отцы гибнут не зря. И что их тяжелый, тыловой труд приносит ощутимые результаты. Война близилась к концу, и даже рвущие душу рыдания матерей и жен, получивших похоронки о гибели близких, переносились легче. Люди понимали, во имя чего идет многолетняя, смертная война. Во имя мирной будущей жизни. А главное, понимали, с кем воевали – с оголтелым врагом, зараженным коричневой чумой. Его надо было уничтожить. Уничтожали. Погибали сами, во имя оставшихся в живых. Пришедшая весна обновила души и сознание людей, что еще немножко, еще чуть-чуть дотерпеть, и войне конец. Неутешное горе свалившееся от войны почти в каждую семью, неожиданно осветилось ласковым ярким солнцем апреля 1945 года. Отогревая замерзшие осиротелые души за долгое время войны, солнце вволю питало теплом искореженную взрывами и морозами землю. И благородная земля, вбирая в себя тепло от светила вселенной, тут же старалась выбросить на всеобщее обозрение зеленые побеги растений, цвета мира и жизни. И первыми таковыми испокон веков бывают подснежники и черемша. Подснежник – радость для души и глаза. Черемша – пища для живота. Еще маленькие побеги черемши, этого природного гибрида лука с чесноком, чуть побольше длины пальца, а толщиной уже почти с карандаш. Неожиданно несколько пучков оказались у Маришки на крыльце. Пока их нюхали и пробовали на вкус, гадая откуда взялось это добро, с дальнего конца огорода услышали смешливые голоса старух. Они стояли у забора, покуривая трубки, наблюдали за пацанами и изредка покрикивали: Эй, Мараишка, Вовика, Колика, Толика!
– Живы бабки! – почти хором закричали пацаны и кинулись бежать к ним по еще не совсем просохшему после снега огороду. Маришка пришла с ночной смены, увидела детей, разговаривающих с калмычками, и очень обрадовалась: -Слава Божачке, ёны живы!
Она отрезала два кусочка хлеба, примерно по спичечному коробку каждый, и пошла к ним. Сыновья увидели ее, кинулись навстречу. У каждого в руке был зажат пучок черемши, которую они аппетитно жевали.
– Мам, мам! – наперебой кричали пацаны. – Менга и Байса живые, черемши нам принесли!
– А я им хлебца немножко дам!
– Конечно дай, они добрые! Ну здравствуйте! А мы уж думали и не свидимся, – обняла Маришка каждую старуху. Живы?
– Живой, живой маленько! – засмеялась Менга.
– По-русски говорить научились? Ну, слава Богу! – перекрестилась Маришка, а старухи вынули трубки изо рта, положили их в карманы и сложив руки лодочкой, поднесли их ко лбу, и что-то тихо запели по-своему.
– Мам, это они по-своему молятся,– сказал Колька. Старухи помолились, покланялись в разные стороны и получив от Маришки по кусочку хлеба, стали медленно посасывать отщипнутые крошки. – Ханжинав, ханжинав, – бормотали они и кланялись.
– Не надо кланяться, – расстроено шептала Маришка. – Божачка, слава тебе, что сохранил их. Спасибо вам за черемшу, – и Маришка указала на кучки в руках у сыновей.
– А-а, хилеп нету, а черемш – минога в балот, – и Байса махнула туда рукой.
– И вы не боитесь ходить туда? Там утонуть можно.
– Байса, Менга болшго (нельзя) буль-буль. – и поманив Маришку, они откинули полог землянки. Оттуда пахнуло теплом, от прогоревшего костра. В углу спала молодая женщина – калмычка, в фуфайке и ватних штанах. Ноги ее были обмотаны какими-то тряпками. Рядом с ней также крепко спал и двое детей лет по шесть-семь. Очевидно одна была девочка, судя по выбившейся косичке из-под шапки.
– Из Канска, Канска шел, – шептала Менга,– свой мужик, Эцк (отец), эк (мать) ищет, тут Манская, – и она от нехватки слов повела вокруг рукой. – Милиция болшго (нельзя). Сэн, сэн? (хорошо?) – и старухи сложили руки лодочкой и просительно замотали головами.
– Хорошо, хорошо, мы не скажем.
Во дворе вдруг яростно залаяла собачонка, и все повернулись к избе, от которой по огороду шли двое, один в милицейской форме, другой в штатском. Маришка в ужасе прикрыла рот ладошкой, потом быстро приказала ребятишкам: А ну, быстро утекайте отсуль. Повторять не пришлось. Ребятишки побежали вокруг огорода. Старухи рухнули на колени и сложив руки к голове шептали молитвы. Мордатый в штатском сходу напустился на Маришку: – за укрывательство преступников знаешь что будет?
– Не знаю. – смело глядя ему в глаза ответила Маришка.
– А вот статья за номером… – и он полез в кожаный планшет.
– Не трудись, любезный, а то я тябе тоже покажу бумажку за номером, какая оставила меня без мужа, а их без батьки, – и она ткнула на своих сыновей, остановившихся невдалеке. Мордатый смешался и что-то невнятно промычал.
– Гражданка Григорьева, я давно предупреждал ваших детей, чтобы они не водились со спецпереселенцами, которым не разрешено здесь бывать и заниматься запрещенным промыслом.
– А ты им хлебные карточки дал? – кивнула она на старух.
– Это не в моей компетенции, – закипятился участковый. Пусть идут в райсовет.
– А их оттуль гонють, вот и лезут бедные люди по болоту за черемшой али еще за чем. Милиционер перешагнул изгородь, и заглянув в землянку, поманил к себе штатского. Тот вертя головой оглядел землянку и буркнул: – По ориентировке они.
– Тогда забирай! – развел руками участковый.
– Гражданка, э-э-э, понятой будете – приказал он Маришке.
– А никем ня буду, никаго я туточки не видела, – огрызнулась она и пошла по огороду к избе. Участковый устало махнул рукой:
– А ну ее!.. Слышь, а они живые там? Что-то лежат не двигаются.
– Спят – шли ведь в основном ночью. Сейчас шевельнем. – участковый взял палку и осторожно стал дотрагиваться ею до ступней женщины. Она не реагировала.
– Эй вы. Болотные жители! – обратился он к молящимся старухам. Старухи невозмутимо продолжали молиться.
– Слушай, может, бросим все это, а? Установили где она и ладно, сделай отписку.
– Нельзя, зарегистрирована она в Канском районе, обязана жить там. Это вот эти болотные шушеры, – указал он на старух, – пока никуда не привязаны, вот и шастают где хотят.
– А что делать с этой? Проще если бы она была мертвая. Протокол составил и все. А то беглянка, да еще с детьми. Мужа ей подавай! Морда калмыцкая.– и мордатый в штатском грязно выругался.